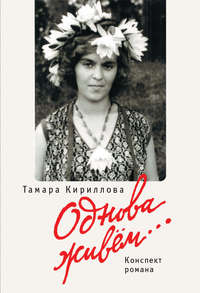Kitobni o'qish: «Однова живем…»
Молясь твоей
многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
позволь смиренно преклонить
колени!
Н. А. Некрасов
Часть первая
Детство
…БОГ ПРОГРАММИРОВАЛ СОВЕРШЕНСТВО… НО ДЬЯВОЛ ПОДПУСТИЛ В БОЖЕСТВЕННО-СТРОЙНУЮ ПРОГРАММУ НЕКОТОРУЮ ПОРЧУ. СОВЕРШЕНСТВО ДОЛЖНО БЫЛО РОДИТЬСЯ МАЛЬЧИКОМ, А РОДИЛОСЬ ДЕВОЧКОЙ И НЕ СОВСЕМ ТАМ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ГАРМОНИЧНОЙ ЖИЗНИ…
* * *
Дневник, 7 июля 1977 года
Итак, на днях, 4 июля, произошел на сорок четвертом году жизни знаменитый переход количества в качество: я ощутила в себе БОГА. Случилось это в двенадцатому часу дня, у главных ворот порта. Я сидела на какой-то железке, ожидая Лючию с автобусом. Лючия – это Люда Анохина, наша переводчица с итальянским языком. Мы в предыдущий рейс «Федерико Чи» были приглашены падре на ланч. Падре уже несколько лет помогает нам в нашей работе. Сижу я на этой железяке, около меня огромная лужа – в последние дни все дожди и дожди, ночью был сильный, – в луже отражаются вековые тополя, она чуточку рябит, ЖИВЕТ, и вдруг – безо всякой думы – ОНО и снизошло: БОГ… Во мне самой, во Вселенной… Я даже засмеялась. Действительно – лужа, тополя, грохот машин – и БОГ. Пару раз я пыталась добиться у верующих, в какой форме они ощущают БОГА, как они себе его представляют, но ничего вразумительного не добилась. И сама теперь ничего вразумительного другому кому-нибудь сказать, объяснить не смогла бы. Какой-то вдруг подъем, вздох и – ОЗАРЕНИЕ – БОГ во мне…
Толчок, конечно, был, есть… Потому что уже несколько ночей я читаю КНИГУ. И толчок – это не Ваши слова о Боге, их немного, и, в общем-то, в другое время они бы вызвали у меня, в лучшем случае, какую-то форму недоумения. Я уже знала, что Вы верите в Бога, и в позапрошлом году, разговаривая с Александром Володиным в Комарове, сказала ему – мы говорили о ВАС, Александр Исаевич, – что меня очень интересует, в КАКОГО Бога Вы верите. Он ничего не сказал, не упомянул и о том, что его сын верующий, я об этом позже узнала. Видать, он, зная, где я работаю, опасался меня, может быть, вообще подумал, что провоцирую его.
Нет, толчком послужило физическое ощущение Вашего подвига, подвига нравственности, подвига противостояния гигантской системе подавления, ПОДВИГА ПРАВДЫ, равного которому нет во всей мировой реальной истории. Не слушая западное радио – у меня никогда не было денег на приёмник, – практически не получая никаких сведений о Вас последние годы, от случая к случаю читая о Вас в западной прессе, ничего из Ваших последних книг не читая, я, тем не менее, прекрасно представляла Вашу жизнь, Вашу сущность и теперь, читая Вас, только убеждаюсь в этом. Уже более десяти лет Вы для меня – мерило совести, мерило нравственности, мерило того, что зовётся русским, мерило Родины… И если это ощущалось мною иногда безболезненно, спокойным чутьём и разумом, иногда – мучительно болезненно, бессонными ночами, после поношений Вас, а это было не только тогда, когда Вас массированно травили, но и теперь на так называемых «лекциях» и «семинарах», на которых мне, в силу моей работы, часто приходится бывать, то сейчас, при чтении, всё это, собравшись в немыслимо концентрированном сгустке, взрывает мою голову. Я или совсем, или почти не сплю, и вчера БОЛЕЗНЬ снова постучалась ко мне, но какие-то высшие силы дают мне возможность собрать себя и как никогда органично играть в моем вечном театре…
* * *
Мама поехала рожать меня в родное село. В Москве, на Казанском вокзале, творилось страшное, негде было повернуться. Мама была недалеко от дверей, когда вдруг раздались крики: «Сталин идет! Сталин идет!» Все бросились куда-то, поток направился к дверям, маму подхватило, понесло, в дверях её так стиснули, что она от дикой боли едва не потеряла сознание. Так, в полубессознательном состоянии, её вынесло на улицу. Началось что-то вроде схваток, она думала, что сейчас, на улице, и родит, присела к стенке вокзала, отдышалась, боли-схватки прошли. От этого, нет ли, но нижняя челюсть у меня получилась покривленной, выдвинутой вперед, два верхних зуба наползли один на другой, перехлестнувшись упрямо, и губы тоже получились асимметричными. До поры, до времени это было незаметно, но потом Стасику, брату, купили фотоаппарат, и на фотографиях всё четко обозначилось. Тогда мне мама полушутя-полусерьёзно сказала: «Это Сталин виноват».
Мама ехала в деревню с земляками. Они не достали билетов на камышинский поезд, который шел прямо до станции Ржакса, а сели на саратовский поезд. Он довёз их только до Тамбова, там надо было пересаживаться. В Тамбове на вокзале и на улице ходили, сидели и лежали страшные, изможденные люди. Как выяснилось, это были, в основном, немцы с Поволжья, которые бежали от голода, сами не зная толком, куда. Мама и те, кто ехал с нею, стали есть, стараясь не встречаться с голодными взглядами. Выбросили в бумаге селёдочные головы, за ними кинулись дети. Мать не смогла есть и пошла в скверик перед вокзалом. Скверик тоже был набит людьми. Большинство лежало прямо на земле. И вдруг мать как будто что-то ударило. В траве лежала, лицом кверху, женщина, мухи роились в глазах и во рту. И около неё копошился ребёнок и всё пытался достать иссохшую, мёртвую грудь. Мама схватилась за живот: «Господи, да что же это такое!» Кинулась к дежурному по станции:
– Там женщина мёртвая, и около неё – ребёнок!
Дежурный посмотрел на неё:
– Эх ты, молодка! Ты о своём ребёнке думай. Их тут каждый день вон сколько помирает. Приедут, увезут. И ребёнка куда-нибудь пристроят, если не помрёт до этого.
Это было в мае. А родилась я в четыре часа дня, в воскресенье, 16 июля 1933 года, в доме плотника Ивана и его жены Натальи, у моих будущих папы Вани и мамы Натани. Мать, как всегда, всего стеснялась; схватки начались с утра, она тужится, но молчит. Заметили домашние, кинулись за акушеркой; та прибежала, разрезала пузырь, сделала боковые разрезы, выдавила меня, у меня уже была увеличенная голова, застоялась в проходе. Акушерка потом сказала маме Натане:
– Либо совсем дурочка будет, либо дюже умная.
Папе Ване было уже больше сорока лет, маме Натане – тридцать три года, они были бездетные, и всю свою нерастраченную любовь к детям выплеснули на меня. Купали меня аж по два раза в день. Ночью ко мне вставал папа Ваня – матери был двадцать один год, и она спала сном молодости – и пускал матерные рулады. Мама Натаня стыдила его:
– Да что ж ты, чёрт страшный, матом-то ругаешься!
– Да уж больно она хороша! Ты погляди, как она ножками-то сучит.
…Должно быть, моими первыми ощущениями были тишина, жужжанье муж и пчел, запахи яблок, июльское и августовское тепло…
Когда мне исполнилось месяца полтора, отец прислал с земляками конфеты из Мурманска, мать ходила за ними, ей там кое-что про отца рассказали. У нее перегорело молоко от расстройства, и её три зари заговаривала одна бабка. От этого, нет ли, но молоко вернулось.
Конфеты – это была первая весть от отца. До этого он ни поздравления, ни писем, ни денег не присылал. А тут запросил фотографию. Мать ездила со мной на Ржаксу фотографироваться. Отец начал слать уговорные письма. А мать ведь не просто уехала в декретный отпуск, она к нему возвращаться не хотела. Когда она забеременела, отец завербовался на Шпицберген, проработал там три месяца, хорошо заработал, привёз кое-какие вещи. Вначале всё было хорошо, отец даже готовил обеды и встречал маму с работы. Мама тогда телефонисткой работала, ходить было далеко, деревянные непрочные мостики, керосиновое освещение. Два года тому назад, когда она вот так же возвращалась с работы, её встретили бичи, начали приставать, она что-то сказала, что им не понравилось, они ударили её в живот, и у неё был выкидыш. Сын…
А теперь вот всё наладилось, но ненадолго. Кто-то оговорил маму, сказал отцу: мол, не от тебя ребенок. За время отсутствия отца к ней многие со всякими предложениями подъезжали, ну, и нашелся обиженный. Отец стал пить, всё пропил, что заработал на Шпицбергене. Начал погуливать, до матери слухи доходили, да и по поведению его было заметно.
Что он там разглядел на фотографии, какие отцовские чувства в нём проснулись, но только стал слать письма и пару раз денег прислал. Уговорил. Мама приехала в Мурманск и – ахнула. При бараке сарая нет, дров в комнате – ни полена. Ходила по соседним стройкам, собирала по щепочке, разжигала с трудом, руки были вечно обожжены по локоть. Знать, судьба ей вышла такая – всю жизнь с дровами возиться, они и сейчас дровами отапливаются. Колонка была далеко от барака. Где уж тут было меня по два раза купать, и по одному-то не всегда выходило. Продовольственную карточку ей дали не сразу. Отец опять гулял по бабам, денег не давал. Мать иногда голодала, боялась, что потеряет молоко. Хотела снова уехать к тете Натане и дяде Ване, но отец пригрозил:
– Уедешь, догоню и убью обеих.
Потом приехала моя крёстная, жила у нас. Мама пошла работать, крёстная нянчила меня, стало полегче. А когда мне было немногим больше года, крёстный увез меня к маме Натане, и я прожила у них до трёх лет. Когда мама рассказывала мне об этом времени, у неё дрожали руки, она плакала и курила одну папиросу за другой:
– Так и не довелось мне услышать твои первые слова, не пришлось отвечать на твои вопросы, не пришлось поводить тебя за
ручку.
Должно быть, с того холодного, неуютного времени я не люблю зиму. Да и потом – идо войны, и после войны – у нас никогда не было достаточно тёплой одежды, зимой мы мало гуляли, всё больше сидели по домам, и у меня почти нет никаких воспоминаний, связанных с зимой.
Мое первое, яркое, в цвете и с подробностями воспоминание относится к лету тридцать шестого года, когда мне было три года. Я сидела на крыльце, играла, как вдруг увидела, что по улице идёт ни на кого не похожий человек в длинной одежде и с чем-то смешным на голове. Я проводила его глазами и кинулась в дом:
– Мама, иди скорей, там ктой-то чудной идёт!
Мама Натаня побежала за мной.
– Мама, это кто?
– Это, доченька, батюшка.
– Чей батюшка?
– Да всех батюшка.
– Так не бывает.
– Бывает, доченька.
– А где он живет?
– Пойдем, покажу.
Мы пошли во двор, мама Натаня посадила меня на плечи.
– Вон там, на горушке, видишь белый домик? Вот там он и живет.
– А почему этот домик не такой, как все?
– Потому что это церковь.
– А что такое церковь?
– А вот я тебя как-нибудь возьму, ты и посмотришь.
– Возьми сегодня.
Мои расспросы пересказала мне позднее мама Натаня, когда я сказала ей, что помню вот, как поп шёл мимо дома, но не знаю, сколько мне было тогда лет. Мама Натаня вообще помнила прекрасно многочисленные эпизоды из моей жизни и часто пересказывала их мне, когда я приезжала на студенческие каникулы. Правда, тогда моё собственное детство ещё не очень-то интересовало меня, и я почти ничего не запомнила. Но ещё один разговор о церкви остался в памяти, хотя тогда я ничего не поняла. Как-то мы с деревенскими подружками поднялись к школе. Я глянула в ту сторону, где раньше стояла церковь, и почувствовала, что мне чего-то не хватает. Церкви не было.
– А где церковь? – спросила я Тоню. Она была года на два старше и всё знала.
– Разломали. Разобрали на кирпичи.
– Зачем?
– Не знаю. Наверное, чтобы попов не было.
– А они что, плохие?
– Наверно, плохие, не знаю.
Вечером я пошла с расспросами к маме Натане:
– Мама Натаня, а церковь была красивая?
– Красивая, дочка, красивая. Наша церковь изо всех церквей вокруг была самая красивая.
– Тогда зачем же её разломали?
– Да ведь Мамай гуляет по стране, Мамай…
– Какой Мамай?
– Мамай-то? Вот пойдешь в школу, узнаешь.
Она задумалась и, похоже, для себя сказала:
– Боюсь только, что про этого Мамая вам правду уже никто не скажет…
* * *
Село у нас было большое, называлось Лукино, оно объединяло несколько деревень. Позднее я узнала, что колокол лукинской церкви был знаменитый, чистого серебра звон, слышно было далеко. И главный колокол был хорош, и подголоски были прекрасные. Иконостас был редкой красоты и много икон хорошего письма, в дорогих каменьях и серебряных окладах.
Деревня, в которой я родилась, называлась Ульяновка. Она была как бы центром села. В одном конце ее, через речку Сухую Ржаксу, слегка взбираясь на холм, была Ольховка. Там родилась мама. А в другом конце, через ту же речку, в низине, располагалась Поплёвка, где родились и выросли отец и его двоюродный брат Михаил, мой будущий крёстный. На задах у Ульяновки, у подножья холма, на котором располагались церковь, больница и кладбище, было выстроено несколько домов, и это место не совсем официально именовалось Жопинкой.
Мать отца, Авдотья Федотовна, в девичестве Иванова, умерла от воспаления легких, когда отцу было три года, а отец, Трофим Васильевич Вавилов, тоже недолго жил после неё, умер от тифа. Отца поднимал дед Василий, а после его смерти отца взял на воспитание его дядя Иван Васильевич, мой будущий папа Ваня. Отсюда отец и завербовался в Мурманск, когда ему исполнилось семнадцать лет.
Моего деда по матери звали Харлампий Терентьевич Семенов, а бабушку – Александра Ивановна, до замужества Алексеева. По бабушкиной линии были в XIX веке дворяне, помещики. На какой-то из моих прапрабабушек женился по великой любви помещичий сын, за что и был выгнан из дому и лишен наследства. По бабушкиной же линии в деревне Гудиловка живут родственники, которые попали к нам не то из другого конца тамбовской губернии, не то из воронежской, в обмен на собак. У тамошнего барина были хорошие собаки, он и обменял их на пару крепостных.
По отцовской линии были еще Кирилловы. Но дальше мне не удалось выяснить нашу родословную. К тому времени, когда я хватилась это делать, мама Натаня, наша ходячая деревенская энциклопедия, уже умерла, папа Ваня – тоже. А все церковные документы сгорели на Ржаксе во время гражданской войны, как горели они по всей России. Как говорят мои умные подруги, не без умысла против православия… Не без умысла против последующих поколений, у которых отнималось прошлое…
Дед мой, Харлампий Терентьевич, до революции избирался три года старостой Покровского общества, в которое входили Ульяновка, Ольховка и Поплёвка. И после революции был уже председателем Покровского общества, тоже три года, а потом передал все дела одному из Буздалины.
Дед был из тех праведников, на которых веками держалась русская земля. Другие из Тамбова крендели и конфеты привозили, он тоже – дети, не без этого же, – но больше вёз книги. Когда дети были маленькие, он читал по вечерам сам. Потом стали читать подрастающие дети. Читали Толстого и Чехова, Короленко и Тургенева, Пушкина и Некрасова, читали и Чарскую. Дружно плакали, когда было что-то переживательное, подолгу говорили о прочитанном. Были у деда книги и по агрономии, и по пчеловодству. Он охотно делился добытыми из книг знаниями, любил обстоятельно поговорить с односельчанами. К нему приезжали за советом из других сел. Его уважали на селе. Но были и такие, кто завидовал. Ведь это они проголосовали в тридцать первом году за раскулачивание дедовой семьи.
Дед жил и до революции неплохо. Сам гнул спину от зари до зари, жена, дети сызмальства были приучены к работе. Дом был каменный, но уже старый, и перед самой революцией его разобрали, кирпичи пошли на фундамент, а построили деревянную, пятистенную избу, состоящую из кухни и горницы.
По-настоящему хорошо зажили после революции. Семья была большая, на каждого выделили по полторы десятины земли, получилось 15–16 гектаров. Работали так, как теперешним, даже самым трудолюбивым, деревенским работникам и в плохом сне не приснится. Пот вытереть – и то было жалко времени. Дед не зря читал книжки по агрономии: знал, на каком поле траву посеять, какому участку дать отдохнуть. Сеяли рожь, овес, горох, лен, гречиху, просо. Пшеницу не сразу стали сеять, не было традиции. Урожаи даже в худородные годы снимали, что называется, «сам сто».
Пчёл развели, тоже применяя всё то лучшее, что было наработано пчеловодами России. Мама оказалась самой способной к пчеловодству. Они с дедушкой никогда не надевали сеток, пчёлы их не кусали.
Ближе к раскулачиванию у них было две лошади, две коровы, штук сорок кур, штук восемьдесят цыплят, овцы, свиньи.
Из тамбовских записей 1977 года, говорит мама:
«После семнадцатого года вообще начался подъём на селе, пахали, сеяли, помогали всем миром безлошадным. Каждый бедняк после революции поднялся. Кто умел работать, те стали жить хорошо. Плохо жили те, кто не хотел работать. Вон, у Гореловых, огород был рядом с нашим, борозда к борозде. Мы свой унавозим, прополем как следует, у нас картошка во какая. А у них навоз пропадает, им лень вывозить, прополют кое-как, тяп-ляп, у них она вот такусенькая и рождается. А другие и того ленивее были. Они и зарились на чужое. Конечно, разброд начался еще в гражданскую. Но от неё мы довольно скоро оправились, опять на ноги встали.
Если бы нас в колхозы не погнали, мы бы во как зажили. Сейчас колхозники, слава Богу, хорошо стали жить, хоть каждого раскулачивай. Да только сколько их осталось в колхозах-то? И те норовят в город убежать. И главное, разогнали и поуничтожили всех истинных работников, кто землю любил и своим потом ее удобрял. Людей от земли отвратили. Сначала пустыню сделали, а теперь пытаются на ней огород вырастить. Сорок с лишним лет пытаются, а страну накормить не могут. И для чего, спрашивается, народ обозлили, друг с дружкой лбами столкнули? Конечно, как вы теперь скажете, в самой идее коллективизации было рациональное зерно. Вон, послушаешь радио: в Америке, в Германии, во Франции мелкие фермеры разоряются, образуются крупные хозяйства. Значит, оно и у нас шло к тому. Но ведь не насильничать же надо было, а добром, да уговором, да примером. В рай палками не загоняют. Ты вот мне Залыгина прислала, я над его книгой слезами обливалась, как уж он все досконально описал, будто сам при этом был. А только у нас хуже было. У нас таких раскулачивали, у которых и надеть-то на себя нечего было. Манька-соседка сначала посмотрит, нет ли кого на улице, нет никого – она за водой бежит, людей стеснялась, потому что на ней дранье одно. И их раскулачили, как подкулачников, за то, что против нас не голосовали. У нас свой Давыдов был, из «двадцатипятитысячников», он ненавистной к людям был и сколотил таких же вокруг себя, они и орудовали, горлопаны. Соберут собрание: «Такие-то хозяева подлежат раскулачиванию, кто «за?» – и пошли громить».
А дальше говорит тетя Маня, говорит быстро, я не успеваю записывать особенности ее речи, улавливаю только смысл. Тетя Маня постарше мамы, и к моменту раскулачивания была замужем в другом селе:
«А нас-то за что? Как дочь раскулаченного. Свои же пришли грабить соседи. Кундук-Кузнецов, он на всю деревню своей завистью да жадностью славился, да Кундучиха, да другие такие же бесстыжие из колхозного правления. Взяли все, до последнего горшка, и между собой поделили, потом носили в открытую, бессовестные. И хоть бы какую бумажку показали, нет, какая там бумажка, пришли и ограбили среди белого дня. А тут еще комсомол пошел, а комсомолу приказывают: «Отбирай!» Он не имеет права не отбирать, ему приказывают. Некоторые председатели жалели, знали, кого назначат раскулачивать, либо сами тайком предупредят, либо кого пошлют тайком. Хоть что-то да спасали люди, а то ведь совсем голых оставляли, как нас вот…».
Всю семью раскидало по соседним селам: деда приютили одни, дядю Сашу с бабушкой – другие, дядю Гришу – третьи, маму – четвертые. Дедушка так и не оправился от потрясения. Он начал быстро стареть. Всю жизнь он не брал в рот спиртного, а тут стал иногда попивать. Выпьет, плачет и повторяет:
– За что? За что? Красоту на земле губят, красота исчезает…
Он приходил посмотреть на меня, когда я была маленькая, но
я запомнила его, когда мне было лет пять, и меня возили к нему в Гудиловку. Он был седой и благообразный, и совсем не похож на того молодого деда, который был у нас на фотографии. Он все обнимал меня, плакал и повторял:
– Внученька, внучушка…
Вот так и получилось, что дедушкой для меня стал отец мамы Натани, дед Федос. Он тоже был седой и степенный, сейчас бы мы сказали – патриарх. Как и дед Харлампий, он за всю жизнь чёртом не выругался. Был немногословный, ненавязчиво-ласковый, любил смотреть на закат и думать о смысле жизни.
А папа Ваня гонялся за смыслом жизни по всей стране, и где он только ни побывал: из Тамбова ехал плотничать в Сочи, из Сочи – в Мурманск, из Мурманска – в Казахстан, из Казахстана – на Дальний Восток.
Его дом – наш дом – был небольшой, но заметный. Он стоял под железной крышей, что тогда было редкостью, и был весь изукрашен деревянной резьбой – работа папы Вани. Особенно нарядным было крылечко, на котором я провела много счастливых часов. Крылечко выходило на улицу, в палисадник, а в нём росли вишни, сливы, смородина, сирень. Около самого крыльца и вдоль тропинки кустились веники, правильного названия которым никто не знал – веники и веники. В них хорошо было прятаться.
Помню всё это, пронизанное солнцем в дневное время и залитой жутковатым светом луны ночью. Помню, я подолгу смотрела, как играет солнце в вишнёвых листьях, как снуют по стволу муравьи, и как непонятной жизнью живёт вишнёвая смола. Каждый раз, когда меня привозили в деревню, я бежала первым делом к вишням. Когда они поспевали, я любила срывать веточки с вишнями и рассматривать их против солнца. Какая удивительная жизнь открывалась моим глазам! Иногда солнце просвечивало до самого зёрнышка. Не было ни одной вишни, похожей одна на другую. Я прикладывала вишни к серым перилам крыльца, к свежевыструганным доскам, ко мху, к зелёным веникам, к полынным веникам и удивлялась тому, как меняется красный цвет. У меня были свои обозначения для каждого оттенка цвета. Я эти вишни никогда не ела, потому что они были живые, а ела только те, которые не рассматривала.
Утро начиналось с того, что я бежала по ту сторону дома, где по утрам расцветали кусочки неба в тёмнозелёной траве. Эти цветы, кажется, цикорий, боялись солнца и голубели только по утрам. А потом бежала по другую сторону дома, там росла мурава, голубовато-серая от росы. И я бегала, счастливая, по росе, до тех пор, пока пятки не становились ослепительно-белыми, даже голубыми. Набегавшись, садилась на ступени крыльца и слушала, как просыпается деревня: мычат коровы, звякают подойники, лают собаки, квохчут куры, хозяйки скликают кур. Солнце стояло прямо против крыльца, огромное, и на него ещё можно было смотреть.
Когда поспевали яблоки, их складывали под кроватью, и в горнице надолго поселялся яблочный дух. Я просыпалась оттого, что запах яблок щекотал ноздри: это мама Натаня клала их мне около подушки.
А из кухни доносились запахи блинов. Мама Натаня пекла их к завтраку. Никто во всей деревне не пёк такие блины, как мама Натаня. Она пекла их от самых тонких, почти прозрачных, до очень толстых, таких, как оладьи. И назывались они блины, блинчики и блинцы. В одних было пресное молоко, в других – кислое, одни ставились на горячем молоке, другие – на холодном. Мама жила с мамой Натаней несколько лет, но так и не переняла её секреты, может быть, потому, что дольше всего она была с ней во время эвакуации, а тогда блины уже не пекли, не из чего было.
Когда мы садились завтракать, обычно в окошке появлялся бригадир Алёшка Пантелеев. С шутками, с прибаутками он давал назначение на работу. Мама Натаня, кивнув на меня, говорила:
– Алёшка, она опять левой рукой ест.
Алёшка становился серьёзным и говорил:
– Вот я скажу сегодня куме лисе, она вечером придёт и тебя, как колобка, и съест. Она не любит, кто левша.
– Ой, нет, я больше не буду.
Мама Натаня доставала из печки горшки с молоком и кормила меня вкусными коричневыми, хрустящими пенками. Мама смотрела на это неодобрительно:
– Вырастишь ты её на пенках, что из взрослой будет? Небось, пенками никто её кормить не станет.
– Ничего, зато она у нас вон какая ненаглядная.
Мама Натаня собирала себе еду, брала меня за руку, и я шла провожать её до правления. Земля была ещё холодная, и меня слегка познабливало. Недалеко от правления была конюшня, там уже запрягали лошадей. Когда все собирались, Алёшка Пантелеев или сам председатель еще раз уточняли, кому куда ехать. Все рассаживались по телегам, смеялись, подшучивали друг над другом, в деревне были свои шуты и свои козлы отпущения. Часто тут же затягивали песню, так с песней и отъезжали. В воздухе оставался терпкий запах лошадей, навоза и поднятой пыли.
А впереди был огромный день с десятками многократно описанных прекрасными русскими писателями открытий окружающего мира, с купаниями и стрекозами, с бабочками и съедобными корешками, таинственными лягушками и с живыми игрушками: котятами, щенятами и ягнятами…
Вечером, когда садилось солнце, я не спускала глаз с дороги. И когда у верхушки Соколонского сада показывались первые подводы, я припускалась к конюшне.
– Ну, что, видела куму Лису?
– Знамо дело, видела. Вот она тебе гостинец прислала.
Мама Натаня доставала из мешка яйцо, или блин, или мед на донышке кружки.
– А что она сказала?
– Она говорит: «У тебя есть дочка Ната?» Я говорю: «Есть». «Вот, – говорит, – отдай ей гостинец».
– А Алёшка её не видел, не сказал, что я левша?
– Не, он не видел, она только мне показалась.
Летом тридцать шестого года приехала мама с братом Стасиком. Когда они подъехали к дому, мама Натаня была в нижнем огороде. Я помчалась к ней.
– Мама, там Кланька приехала! И с ней маленький ребенок!
Меня переучивали в два этапа: сначала я звала и ту, и другую «мама Натаня» и «мама Клава», и уж только потом привыкла к тому, что мама – это не мама Натаня, а все-таки мама Клава.
В середине горницы повесили мою люльку. Я подносила к ней табуретку и разглядывала смешное существо, про которое мне говорили, что это мой брат. Я ревновала к нему, мне не нравилось, что все ходят вокруг него. Я утешалась тем, что он был рыжий и некрасивый.
Я выросла без слёз и крика. А Стаська вообще не подавал никакого голоса. Он спал или спокойно таращил свои голубые глаза в рыжих ресницах. Мама всерьёз опасалась, что он будет дурачком. Соседка Машутка Буздалина говорила:
– Да ты сама дурочка, наговариваешь на ребенка. Он здоровый, молоко есть, пеленки сухие, нянек вон сколько, чего ж ему плакать?
Каждый вечер его купали в марганцовой воде. И все собирались вокруг корыта, смеялись над тем, как он бил ручками по воде и радовался беззубым ртом. У мамы Натани на каждый этап купания были свои прибаутки, а в конце, когда его поливали из кувшина, она всегда приговаривала:
– С гуся вода, со Стасика худоба.
* * *
Отец перепробовал в молодости много профессий: работал милиционером, был судовым монтажником, токарем, слесарем, сшибал вручную заклепки с корпусов судов, с тех пор остался на всю жизнь глуховатым. А потом стал работать котельщиком, хорошо освоил котельно-корпусное дело, и его, как специалиста, высоко ценили до войны, а после войны он считался лучшим в Мурманске мастером по котлам. Поэтому он всегда получал хорошее по тем временам жилище. Какое-то время мы жили в довольно просторной комнате второго этажа деревянного дома на Жилстрое. Вокруг всё время строили дома, постоянно визжали пилы, и остро пахло деревом. Кругом только доски и щепки, ни одной кучки с песком. Если мальчишки находили себе какие-то игры, то девочкам было довольно скучно, негде пристроиться с куклами. Однажды я уговорила несколько девочек, и мы предприняли большое путешествие в город – так на Жилстрое именовали центр города. Разинув рты, мы ходили около высоченных домов, заходили в магазины, с завистью смотрели на лотки с мороженым и красными прозрачными петухами. Около одного из них нас и поймал милиционер. В милиции долго не могли добиться нашего адреса, потому что никто из нас его не знал. По нашим туманным описаниям поняли, что речь идет о Жилстрое, повели нас туда, а там уже, в районном отделении милиции, были наши встревоженные родители. Всыпали ремнем всем, а мне, как предводителю, досталось особо. Суд вершила моя мать, потому что отец нас за всю жизнь пальцем не тронул. А мать изредка всыпала, обычно за то, что мы иногда дрались с братом. Помню, однажды я дала ей сдачи, била ее по рукам и кричала, что я не люблю её, а люблю маму Натаню.
Отец всегда приносил что-нибудь с получки: конфеты, шоколад, печенье. А перед матерью он каждый раз разыгрывал целое представление. Зайдет, глаза веселые: «Ну, угадывайте, что я принес?» Мама смущенно улыбается, а мы отгадываем. Наконец, он широким жестом достает из-за пазухи то ослепительный отрез крепдешина, то шуршащий крепдешиновый макинтош, то какие-нибудь неправдоподобно красивые туфли. А однажды, когда мы особенно долго отгадывали, он достал одну за другой две матроски – тогдашнюю мечту всех мальчишек и девчонок.
Тогда же у всех нас была еще одна мечта: испанки. Их шили из подходящих кусков материи, а красные кисточки снимали с коробок пудры. Главное было – уговорить маму купить эту пудру, потому что она была довольно дорогая.
От тех лет осталось двойственное ощущение. С одной стороны, это впечатление легкости, с которой люди в то время жили. У родителей было много земляков, и они постоянно ходили друг к другу в гости. Чаще всего встречались у папиного двоюродного брата Иванова Ивана Алексеевича, потому что у них было просторнее всего. Оба они с отцом были щёголи, но отцу до Ивана Алексеевича было далеко. Про него говорили, что он два раза в день меняет рубашки, а жена его, тетя Даша, не расстается с корытом и утюгом. Чуяло ли его сердце, что ему недолго оставалось веселиться? Его вскоре арестовали за то, что в годы гражданской войны он был в антоновской банде. Вообще тогда часто говорили об арестах, о тюрьмах, о черных «воронках». И это была другая сторона тогдашней жизни. Взрослые постоянно шептались, все время носили кому-то передачи в тюрьмы, часто упоминали в разговорах какой-то первый отдел.
Вскоре после ареста Ивана Алексеевича отца перевели в судоремонтную мастерскую в поселке Дровяное, который был на другом берегу Кольского залива, наискосок от Мурманска. Там нам дали однокомнатную квартиру в одном из двух самых лучших домов Дровяного. В каменно доме жили морские офицеры и начальство покрупнее, а в деревянном двухэтажном доме – начальство помельче, в том числе и отец. Мама говорила, что не может нарадоваться на квартиру. Хотя отапливались тоже дровами, но в доме был водопровод, а также отдельная кухня и уборная.
Против нас жила учительская пара. Взрослые шептались про них, что это ссыльные из Ленинграда. Что это такое, мы не понимали. Но мы, дети, знали то, чему в нашем языке еще долгие годы не было определения: что это были высокоинтеллигентные и добрые люди. В школе вокруг них табунились не только учащиеся, но и мы, дошкольники. Они завели живой уголок со всякими зверюшками, и не было отбоя от добровольных помощников. Они организовали при школе театр, и в этом театре состоялся мой дебют. Я должна была, как самая маленькая, играть мышку. Хлопот было много. Мы помогали Софье Ивановне шить костюмы, строить декорации. Школьный зал не мог вместить всех желающих, публика стояла у стенок и сидела на полу. Все шло хорошо, но в последней сцене мышиная маска на моем лице сползла с места, и я перестала что-либо видеть. Так как я была на четвереньках, то я, естественно, не могла себе позволить поправить маску. Я должна была удирать от кошки, но вслепую вместо того, чтобы убегать от нее, пошла ей навстречу и стукнулась с ней лбом. Публика взревела от неожиданного удовольствия. Я сообразила, что под хохот можно поправить маску, отвернулась и благополучно удрала от кошки. А после спектакля долго ревела, и Софья Ивановна утешала меня и говорила, что в следующий раз мы будем играть так, чтобы мы столкнулись с кошкой лбами, потому что публике это понравилось.