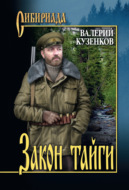Kitobni o'qish: «Таёжная кладовая. Сибирские сказы»
© Пьянкова Т.Е., 2019
© ООО «Издательство „Вече“», 2019
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019
Посвящаю внуку Пьянкову Илье
Кликуша
В стары-то времена к нечистой силе кой-то стороной всякую быльницу притуляли. Навроде прокоптят её дымком небылицы, чтобы со временем не иструхлялась и до внуков-правнуков дошла в целости-сохранности – не в устрашение умам, а в полноту разума.
Нужды великой не было ходить за надумками по свету. Сами краснословьем могли одарить дорожного человека да и к своей памяти привязать сказанное кем. Вот и выходило: спал Егорий на своем подворье, а шли к нему сны с любой стороны.
Так, должно, и про бабку Кликушу. По травинке да соломинке наскребли копёшку – в навильник не ухватить.
Была она, сказывают, бабка та, была. В знахарках числилась. Знала, стало быть, силу лечебную всякоей травки махонькой. Которой подоспеет пора силу свою буйную накопить, бабка за лукошко да в лес-поле.
Видели её люди на той страде травяной; идёт себе тихонько: то сощипнет, то потянет… а сама всё шепчет и шепчет, навроде перекликается с кем. За то её Кликушей и прозвали.
На погляд – дело чистое, без колдовства какого. Да людям скучно без чуда-невидали верить в этакую хитроумность.
Недолго она зажилась в селе. Прибрела Бог весть откуда, убрела Бог знает куда.
Ноне-то у кого порез на персту али где случится – болесть мизерна, а дохтора неделю лялькаются. А было – прахом с дороги, паутиной ли рану залепят, тут тебе и вся лечба.
С большим каким недугом к знахаркам кидались. Куда ж ещё? Коли на всю округу один немчишка ерепенистый врачевал. К нему? Одно дело – вёрсты считать. Другое – деньгу… А тут – чем Бог послал.
Ну, да не всякая бабка печёт сладко. Другая так улечит, что исповедаться неколи. Лекарка такая опосля руками разводит: пришёлся-де Богу ко времени. Что до Кликуши, то эта на особом счету была.
Поглядит было вприщур на хворобу да и уйдет молчком, коли чует слабость свою. Тут уж попа зови – соборовать.
А где попридержится бабка – пойдёт человек, куда болесть денется!
Жил там же, в селе, дед Соловей. Всё из разных безделушек музыку добывал. Такой, слышь-ка, мастак был по этой части, что и Соловьём-то его не за серость да малость поименовали.
Листок возьмёт берёзовый, тростинку сломит малую аль гребень внучки своей Алёнушки ко губе приладит – тут и сердцу услада. До слёз доймёт, а нет, так ноги сами стоять не велят.
На то и Соловей.
Брехали бабы, что Алёнушка внучкой ему и не приходилась вовсе. А так. Подобрал где-то сиротинушку дед, пригрел от доброго сердца.
Девка в самы невестины года уж входила, а чисто пащенок паршивый: махонька да рябенька. Подружки завсе её секретами-заветами обходили, а что до парней – те и глазами-то её, как сраму, хоронились. Кому такой стручок нужен?
Вот горе бежит, беду за руку держит.
По осени поиграл как-то с Соловьём бычишко соседский в пятнашки, вусмерть загонял старого. До двора только и успели люди донести.
Поохали вкруг сиротинушки, пожалковали, помощь какую ни на есть оказали по похоронам, да и восвояси: чужа забота – до поворота.
Осталась сирота: себе – тягота, другим – издёвка. Заступы на неё никакой. А ведь вот ещё: у всякого латаного полно добра ласкового, да всяк норовит ткнуть туда, где болит.
Как тут жить?
И задумала Алёна сотворить над собой дело богопротивное.
Как вечер к ночи затрусил, убрела она под крутой бережок.
Стоит в сутёмках, мешкает. Хотя горя поверх маковки, а всё голову приклонит к воде – не к материнскому плечу.
Вглубь глянула – спина холодом подёрнулась, страх за горло ухватил: смотрит на неё из воды девица-красавица. Вроде Алёна. Вокруг темь непроглядная, а от виденья того свет исходит. И такая, слышь ты, сила в той девке водяной – глаз отвести не можно.
Всё забыла сиротка: и горе своё, и обиды людские, и страх давешний. Стоит и смотрит.
Тут из-за спины водяницы Кликушино лицо выплыло:
– Чего-то, девонька, припозднилась ты на воду любоваться?
Дрогнула Алёна: сломалась гладь водяная, кругами пошла. Оглянулась – Кликуша рядом стоит, просит:
– Пособила бы дряхлой поклажу до дома донесть.
Подосадовала девка, что помешали ей, да тут и забыла. Вскинула бабкино лукошко на руку, следом потянулась, а сама думает: «Ишь, как хитро отвёл мою задумку водяной. Знать, и ему не поглянулась я».
Ну, пришли почём время, печку затопили, повечеряли чем пришлось. Кликуша ряднушку на лавку кинула, подушку суёт.
Легла Алёна как провалилась, ажно сон проспала. Утром проснулась – солнце в полную силу играет, бабка Кликуша у печи ноги мнёт.
Охнула Алёна со стыда, спорхнула с лавки, в преддверии поклоны бьёт, прощается. А Кликуша ей:
– Что ж ты, дитятко, скоро так? Пирогами ли хозяйскими брезгуешь, сама ли хозяйка обидная?
Занеудобилась девка, к косяку припала, лепечет:
– Ой, бабушка! Сладки пироги твои, да честь знать пора…
– А коли сладки, – ведёт старая, – чего ж от них скоком? Садись-тко, поутряй на дорожку.
Села разумница, Кликуша подсовывает поприжаристей да похрумчатней. Пироги-то, к месту сказать, сами в рот просятся.
И то видно, будто со хмельного голова туманится, на сердце весёлость вьётся, и думки никчёмные, что росы от солнца полуденного, испаряются в ясное небо, облачками лёгкими плывут, плывут… Невесть куда…
Уж и голос бабки, сызначала скрипучий, звенит теперь колокольцами серебряными, струночками ласковыми тренькает:
– Беда, милая, что вода. Кто не боится в ней помыться, завсегда на люди чистым выходит. А коли шибко глыбко – не гнушайся голос подать. Авось на крут бережок прибежит верный дружок. И как в сказке говорится: коли девкой окажется – сестрой будет, коли молодцем статным – братцем званым, а коли, как я, старой каргой – тут уж сердешный покой… Ведома мне печаль твоя. Поделить её надобно да теми долями свиней накормить. Только на дело такое время нужно. Поживи-тко у меня, сколь придётся, а как солнышко тучу скинет, поприглядней будет глядеть, в какую сторону вертеть.
Алёнушка привычна к тычкам да издёвкам. А тут такая ласка сердобольная. Она и разревелась. Уткнулась в бабкины колени, ходуном ходит.
Кликуша гладит её да приговаривает:
– Выслезись, родимая. Выплесни застой. Ослобони душу для веселья-радости…
Так и осталась сиротка у старой. Ну, день живёт, неделю коротает. Там и за месяцем месяц пошли в уцепку. На чужих глазах Алёна не вертится, да и бабка её не неволит, навроде огораживает ещё:
– Любое семя сидит до время. Пора приспеет – зацветёт, поспеет.
Прошла зима за рукодельями разными да избяными заботами. Там и Масленица1 снега распустила, круто облачко на синеве выткала. Засовалась по оконцам Алёнушка. Слёзы за глазами еле удерживает да от бабки веселинкой отгораживает. Ан старости у младости догадливости не занимать. Между стряпнёй Кликуша и говорит:
– Спорхнула б ты, Алёна, на зелен луг, во девичий круг. За зиму долгую, поди-ка, хрящами косточки поросли. Чего же сидьмя-то сидеть.
Взяла Алёна бабкины слова впослух, приоделась и поискрилась на бережок, где девки хоровод водили. Пришла и стала у кусточка бояры кудлатой. Стоит по своей обычности, радуется чужому веселью. Разбежались девки в веселухе и Алёну закружили, завертели.
Алёна ходу из круга не ищет, дивится только: «Откель во мне смелость завелась – с девками в хороводе играть?»
Тут круг раздался, плывёт Алёна посреди хоровода лебединочкой, радуется: отродясь в хороводе ногой не повела, а смотри-тко, получается! Вроде кем гораздым научена.
Наклонила плясунья голову, глянуть, что ноги выделывают, видит: чеботки на ней новёхоньки, убористы. Блестят-переливаются. Повела глазами на себя: сарафан – золотая кайма, звёздами ткан, будто с полуночного неба упали они на голубой шёлк. Гармонист ливенку развёл да и замер, как глиняная безделуха на лавке. А плясовая так и льётся невесть откуда.
Спохватилась Алёна. Как ветром сдуло девку с круга. Забежала плясунья за куст, оглядела себя, ощупала: сарафан ситцевый, немудрёный, кацавейка стёганая, да и плат не впригляд… Возвернуться в хоровод уж не решилась. Домой побрела, а сама прикидывает: «Неладное со мной деется, болесть, знать, неведомая за меня ухватилась. Сказаться бабушке – полечит».
А старая-то на крыльце Алёну поджидает. Пристально так смотрит, как богомаз на икону. Будто выглядывает, всё ли на месте, всякая ли краска к делу пришлась.
Алёне даже тяжко сделалось.
Остановилась она во дворе, стоит. А Кликуша с крыльца спустилась и пошла вкруг Алёны. Обошла её на раз и молвит:
– Вот и пришла пора – убираться со двора. Зажилась я тут с тобой, замешкалась. Коли спросят про меня, скажи: «За травой убрела, мол, старая, и не возвернулась ко времени». Не ищи меня и не тужи шибко. Одна не останешься. Суженый твой с восхода – в воду, с заката – в хату. Умом не зови – сердцу верь. А я тут всегда…
Огляделась Алёна – нет никого.
Жутко стало. Потом одумалась. В хату кинулась.
А там сарафан голубой с золотой каёмкой на половицы брошен. Поверх обутки те, что Алёна на себе в хороводе видела, стоят. Будто кто суматошный убрать не успел…
Алёна-травяница
В народе говорят, что жизнь – она своенравная штука: кого по головке гладит, кого взашей ладит. Выкамуривает над человеком как поглянется. Да мы ей и сами в том наипервые пособники.
Так-то и с Миколкой пошутковала судьба-злодейка.
Не впусто людьми молвится: бежит вор в бор, а выбегает, знато, туда, где взято…
В каких землях доселе Микола мотался, чего нахватался, – один Господь ведает.
Только деревня поперва приняла его за доброго человека: живи, хозяйствуй.
Мужик оказал себя дельным. С виду рыж, как пыж, да знал, знать, кого бодать.
Поди-ка и дале понукал бы паря, да Алёна-травяница кликушинская ухабиной на дороге его подвернулась.
Треснуло колесо Миколино, а вычинить охота не приспела.
Засмотрелся гусь на гагару, память вышибло – в какую сторону хвост вертел.
Вот те и жених!
А то бабы жалковать было собрались Алёну: одна и одна, как былинка в поле: службу есть кому служить, да не к кому голову прислонить.
Парни, которые, бывало, глаза мозолили об Алёнкины оконца, поотстали со временем, обмужиковались, детей повывели. А она всё ходит в девках.
А девка, не худо сказать, вызвездилась ясной звёздочкой, выпрямилась да вытянулась. Рябинки с лица как крылышком кто смахнул да курам горсткой вышарнул.
Да, умна Алёна сладилась. Днями по лесам бродила, потёмками по книжкам пальцем водила – грамотой тешилась.
Ну, дела! Люди на неё рукой махнули, во лбу покрутивши: жена учёная что вода толчёная, сколь ни пестуй, одни мозоли на персты.
Потому никто Миколе дорогу не заступил, охотки не пресёк. Однако сумлевались: «Лови, пайчик, солнечный зайчик…»
Так и пристал Микола к селу, как ветка к помелу.
Живёт. Хозяйством обзаводится. Ждёт, когда с Алёны кураж схлынет. Тем временем и приметил его купец один. Ну, тот, который лес откупил для поруба. К себе зазвал и величает:
– Мужик ты подходящий. Цепкий, вижу, мужик. Мне такой позарез нужон. Подь ко мне на лесопилку началить.
Микола замялся поперва, как жмот на ярмарке, цену поднял. Да где ж отказаться, когда у того лесозавода вся округа кормилась? Вот и прикинь, кем Микола становился?
– Испыток, – говорит, – не убыток. Бери, коли поглянулся.
Заделался рыжий наипервым хозяйским советчиком, наипервейшим подсобщиком.
Захухрынился, забекренился: фу ты, ну ты, лапти гнуты!
«Ну, ну, – думаем. – Петушися, кочеток, поерепенься чуток. Поершися, кочет, покуль силку2 точат».
Алёна-травяница тоже диву далась: «Гляди-тко! Поганкой вынырнул, да боровиком вывернул».
Микола пуще того в пыжню ударился. Окромя тыка да крика никак не здоровкается.
Видит хозяин такое дело, вовсе на Миколку заботы посбросал: сам себе гостем заделался.
Одна только забота у рыжа: хата без хозяйки чужа.
Алёна хоть и подаряет Вовку бровкой, а всё не запамятует бабкин сказ: «Суженый твой с восхода – в воду, с заката – в хату. Умом не зови, сердцу верь».
Ну, так, знамо, лето за зиму, зима за лето…
Позаряла как-то Алёна по траву-мураву за поскотину, в лягу заречную. Солнышко только рожки над землёй выставило. Спустилась она к воде, бродом пошла. Ноги ставит кошкой по склизким камешечкам – где не оступиться.
Добрела Алёна до середины, тут впереди и плеснуло. Глядит, чужак с берега в воду ступил. Жуткий мужик: бородой, как пырьём, порос, космы не прикрыты, рубаха – слава одна: латка на латке – хозяина нет, одни постояльцы.
Метнулась было девка прочь, да вспомнила: «С восхода – в воду». Пошла навстречу. Поравнялась, охнула:
«Выходец с того свету!»
Поманила Алёна мужика за собой. Хоронясь, домой привела. На сеновале уложила, за молоком в сени побежала. Скоро возвернулась. Спит мужик. Так натощак и проспал до вечера. А глаза развёл: девка рядом сидит.
– Куда это я забрёл? – спрос ведёт.
Алёнушка всё ему обсказала.
– Зря ты, девонька, озаботила себя, – печалится мужик. – Каторжный я. Суета тебе будет великая, коль не спровадишь меня до ночи.
– Куда ж этакий пойдёшь? Пропадёшь. Лежи давай. Хатка моя мала, да хорошему человеку места хватит, и в обиду не дам.
Улыбнулся мужик девичьей речи, однако остался.
Принесла Алёна ужин. Ест мужик да на хозяйку глядит. Она речь ведёт про свои дела, а сама думает: «Сколь легко-то мне говорится, сколь ладно мыслится. Праздник в груди веселится, глазыньки смехом полнятся».
И мужик не томится. Вот и засумерничались они до звезды. Алёна пресекла себя на памятке: «Баньку б стопить».
Выскочила, пробыла сколько-то, скоренько обернулась. Тут села. Опять говор ладят.
Вовсе как запотемняло, помылся Артём в бане, в хату ступил. «С заката – в хату», – вспомнила Алёна.
Окна покрепче девка занавесила, гостенёчка на печи пристроила, сама на лавке прикорнула.
Не идёт сон, не быстрится; голова думами полна: «Умом не ищи – сердцу верь».
И поверила Алёнушка сердцу своему: полюбила она мужика бездомного. Ни двора у него, ни кола, ни одёжки, ни денежки, а куда денешь-то?
И он не спит на печи. С боку на бок перестраивается, вздыхает.
Слышно-то Алёне, и радостно, и боязно, и тает ретивое, как масло на шестке. И солнца хочется скорей, и ночь желанна, и бежать-лететь хочется, и пальцем шевельнуть нету сил…
Утром Микола рыжой заказал работу на лесопильне, места проглядел, людей пересчитал – всё ладно. По селу запылил. Мимо двора Алёниного туда-сюда прометнулся, через плетень перегнулся. Хозяйке поклон отвесил, ладит ответ принять. Да Алёна чего-то не та: светится вся, да не про него тот свет, смеётся, да не вчерашним смехом. Каким-то непонятным.
Побрёл Микола прочь, а сам рыжей башкой мотает, дивуется: «Блажит девка: глазом ластит, а хвостом застит. Ну, доберусь я до тя, увёртыш».
Ко полудню урядник на село прикатил с парою лихих удальцов. Зашмыгали они по дворам. Выспрашивать почали о побродяжке. Того, другого пытают:
– Не видали?
Люди руками разводят…
Сник урядник, Миколе наказывает:
– Смотри в оба, начальник. Смутотворец он. Кабы завод не подпалил. Коль дознаешься чего – ко мне мигом. А то сам хватай бродягу.
Защёлкал законник кнутом, а Миколку суета одолела: все дворы вынюхал, все закоулки выслухал – никем не слежены. Притух малость. Опять жениховство справляет.
Сидит ввечеру Микола за Алёниным плетнём, комаров с шеи сшибает. Летний вечер мешкотный: до зорьки тени тянет. Как вовсе смерклось, собрался Микола до дома. Тут девка на грядку выбегла, сощипнуть чего.
Вот она, рядом. Рукой достать.
Не стерпел Микола, выпрыгнул из-за прясел, ухватил девку.
Та вывернуться не торопится, ласково говорит:
– Брось, Артём. Пошли ужинать.
Микола руки сдёрнул:
– Кой Артём, сказывай!
Напирает так-то на девку. Видит Алёна, оплошка вышла. Однако не струхнула, не завертелась. Стоит спокойнёхонько, смеётся:
– А тот самый, которого ради ты всю округу взял. Как же боишься-то, погляди-тко.
– Чего мне бояться? Вот гукну урядника, упекут твово хахаля в Александровский, да и тя заодно, вертихвостка!
– Ох, ох, погодь, Миколашка. Не замай! Не то худо не переплачешь.
Видит Микола – потерял вовсе девку. Заметался по двору, кол из плетня выправил да в хату.
Заступила Алёна Миколе путь. Во зле-то на неё Миколка попёр:
– Говори, кудла травяная: где вора ухоронила? Убью, такая…
Махнул ерепеня колом, да чуть не упорхнул долом: в руках его и не кол вовсе, а травинка зыбкая. Перед ним бабка чёрная. Стар-стара. Шуршит, что сухая трава под ветром:
– Вот и пало встренуться лицом с подлецом. Знать ты меня не знаешь, ведать не ведаешь, да я давнёхонько к тебе дело пытаю. По белу свету ходяша, тако, как ты, дерьмо глядяша. Слухай в оба уха: и тута я, и тама я, и наградой я, и расплатой я. Из-под камня гляну лежалого, из-за лесу встану стоялого. Всё мне впамятку. Наскрозь вижу, вижу наскрозь. А ну, держи порты да кружай верты! Духу твово чтоб до утра не чуяла. Не сгинешь, так сгниёшь, не спляшешь, так прахом ляжешь.
Завертелся Микола, что пёс за гузкой, шмыгнул за прясла, ажно подсолнухи застукали. Протопал улкой, на повороте обернулся: стоит на крыльце Алёнка, статная, в голубом сарафане звездчатом, и пальцем мотает.
Одыгался кой-как Микола, ночь передрогал, утром барахло в перемётную суму скидывать принялся, тут урядник застукал в ворота:
– Эй, пара простю!3 Отворяй дворы гостю.
Обрадовался рыжой уряднику, за стол усадил.
А когда по доброй выпили, Микола ему и поведай о девкином наказе: за любовь, мол, велела колдунья поутру манатки сматывать. Про Артёма умолчал-таки. Докумекал законник, что к чему, пузом раскололся:
– Ох, ух! Уморил ты меня, дубина стоеросовая. От усердия шибкого умишко вышибло?
Обидно то Миколе показалось, он и ляпни:
– Упреждала бабка не замать Артёма. У девки-травяницы хоронится каторжник.
Смолк урядник, ногой двери вышиб:
– Пошли!
Только к избе Алёниной подступили, хозяйка встречь идет. Принаряжена в голубой сарафан с золотой каймой, на ногах обутки царские.
– Тут он, тут Артём. Проходите, гостеньки дорогие, об притолоку не стуканитесь.
Сама вперёд ладит, гости за ней.
Урядник с ходу шашку выпужнул, да, пропустивши вперёд Миколу, за косяк зацепился и раскорячился в дверях, как вошь в гребешке: руками машет, а дале не пляшет. Онемел скоро.
Артём с лавки привстал, поклон гостям отвесил. Стоят гости как кол проглотили.
Алёна тем временем образа с божницы приняла, на лавке у окошка пристроила.
Чудится рыжому: растут образа, ширятся. В рост человеческий поднялись, да и распахнулись настежь.
– Ну, – говорит Алёна, – попялился ты на меня довольно! А что не послушал вчерашнего наказу, сам виноват. Не взыщи.
Взяла Алёна суженого своего за руку и пошла в те створы образовы. Не успели они захлопнуться – урядник от косяка отлип.
– Что глаза раззявил, тетеря? – заорал он. – Догнать их!
От тугого кулака в загривок Микола перемахнул разом избу, налетел с маху на образа, и нате…
Образа-то застеклёнными оказались. Микола через подоконник на улицу свесился, выхлестнул напрочь стекло оконное.
– Где девка? – тормошит Миколу урядник. – Где каторжник?
Мычит Микола, ладошкой нос зажавши, кровью на стороны мотает.
– Упустил, губошлёп рыжий! – воет урядник. – Ушли огородами! Через окно ушли! Ну, ты у меня теперь попляшешь…
А как не «попляшешь», когда рыжий нос стеклом отсёк, самую дюбку как ножом срезало.
С той поры и стал Микола гнить. На глазах сгнил мужичонка. От носу пошло.
Так-то оно бывает.
Нечистая троица
В деревне, в Красном Яру, на отшибе у самого оврага избушечка малая невесть с каких пор место заняла. Оконные рамы у той избушки повыгнили, иструхлились все и вывалились вместе со стёклами. То ли сами выпали, то ли ребятня помогла? А только как начнёшь подниматься из оврага в село, так и уставятся на тебя те дырки избушечные, словно пустые глазницы.
Недавно избёнка совсем завалилась. А бывало, кто трусоват да греховат, обходил ту постройку бесприютную.
Хорошо людям помнится: жили в той избушке три бабки. Все три вровень ростом, и сединой, и глазами.
Сельчане судачили, что те бабки роднёй друг дружке приходились: кто-то из них внучка, кто-то – дочь, а третья – бабушка. Разберись тут, кто из них над кем стоял, когда они уж и сами запамятовали.
Злой язык как-то назвал их нечистой троицей, назвал, как с размаху прилепил. Разное болтали. Кто соврёт, кто подкинет, а кто раздует.
Вот и выходило: могли они в единый миг в кого угодно оборотиться. Хоть в зверя лютого, хоть в рыбку золотую, а то и в птицу, ай в красну молодицу. Одна ль из них, все ли трое бесовским ремеслом тешились – про то врать не врали, не знали.
Да и, правду сказать, никто от тех старух лиха не имел, и людей, коим печаль-горе от них прилепилось, видеть никому не приводилось. Но слыхом народ слыхивал про одну такую тяготу.
Жил в Красном Яру Аверьян Никитич. Богач – не богач, а мужик зажиточный. Домино имел крестовый, тёсом крытый. Забор округ – рукой не дотянешься, кобель на цепи, что зверь, матёр. Ко всему, жеребца выездного держал мужик. Крепенько жил и до наживы лют был шибко. Бабу свою за работой уморил, еле ноги переставляла.
А и недалече от того Аверьяна, почитай, в суседстве, вдова Бараниха горе мыкала.
Род ли удался хворый сам по себе, Господь ли за что прогневался да перстом в них сунул лихой минутой – неведомо. Только первым мужик на тот свет ушёл и двери распахнутыми оставил. Годом поспешили за ним два сына и дочка, все на возрасте. Осталась Бараниха с ребятнёй. Старшой давно уж в ту дверь заглянул, собраться только осталось. Другой мальчонка – на двенадцатом году – хворый же, последняя девка и того меньше.
А баба-то работяща да красива. Сколь горя ни перенесла, а всё не клонится. Не зря говорят: горе любит песни слушать. В песне, знать, и Бараниха слёзы прятала. Любо-дорого на такую поглядеть.
Вот и наладился Аверьян ко вдове в гости с полдороги завертать.
Посидит, зенки потаращит, поумничает об чём не нужно, потом и схвастнёт при народе чёрт знает что.
Баранихе за делами-заботами жалко попусту время кидать. Кто что донесёт на неё, она только отмахнётся: мели, мол, Емеля, – твоя неделя.
Всё б ничо, да припожаловала ко вдове жена Аверьянова, принародно охаяла. Бараниха после того и покажи гостю помело: по чину и дрючина!
Вдова-то вскорости забыла про то.
Аверьян же думку пакостную затаил.
Однако дело к весне близилось. Об ту пору скуден стол у голытьбы. Какие запасишки с осени уготованы, к весне вовсе повыветрятся.
Тут ещё у Баранихи старшой слёг. Билась баба, билась. Дошло до того, что куска в доме не осталось. К кому с пустой котомкой сунешься? Кругом – голь перекатная. Всяк с хлебом впринюх щи пустые хлебает. А к богатею – зазря ноги мозолить.
Да и Аверька, злыдень бессовестный, подговорил, кого подоступней из богатых, не давать Баранихе в долг. Как горе-нужду обмануть?
Голод – не тётка, кукиш не покажешь. Пошла-таки горемычная к Аверьяну.
Мужик только того и ждал.
– Отдай, – говорит, – сына своего меньшого мне в работники – двор где прибрать, воды принесть. Баба-то моя, сама знаешь, велика ли помощница? Коли так – дам пуд муки, нет – и суда нет.
Пока вела Бараниха парнишку к Аверьке, всю дорогу слезами улила. Тот муку наготове держит. Знает, демон, нет у бабы другого выхода…
Взяла вдова муку, домой принесла. Вязку распустила, щепотку на язык кинула. Ан мука не пригодна для стряпни – керосином попорчена.
Она в обрат:
– Пошто ты мне, Никитич, карасиновой муки наскрёб?
Тот и отрубил:
– Сама муку испоганила. Забирай и уматывай!
Бросила баба ту муку у супостата и пошла домой. Идёт, свету белого не видит.
А путь её – мимо той самой построины, в коей нечистая троица жила. Глядит Бараниха: одна старая через дорогу быстрёхонько семенит. Бабе и не к уму… Мало ли кому среди бела дня приспело пробежаться.
Подошла вдова к тому месту, где дорогу бабка перетрусила, глядь-поглядь, лежит на дороге золотой. Охти мне!
Из богатых кто вряд ли золотой упустит, жадны, крепко деньгу держат. А бедных-то золотые и во сне обходят. Да и место видное, прохожее.
Вдова золотой подняла и стоит. Боится этакое богатство в дом нести. А тут старушонка назад торопится. Бараниха к ней.
– Не ты ль, – спрашивает, – сердешная, золотой здеся утеряла.
Старушонка приняла монету, покрутила в тощих ручках да и молвит улыбчиво:
– Тут не один золотой.
И разделила деньгу, как расколупнула с ребра.
– Бери, – говорит, – добрая душа. Тебе судьбинушка твоя горькая улыбнулась. Может случиться и такое, что призовёт Господь твоего старшого, так будет на что проводить сынка, да и на обзаведение кой-чего выгадаешь. А меньшого к нам пришли, полечим, может.
Вернулась Бараниха домой, а оно и правда: помер старшой-то.
Ну, обрядили, как могли, и снесли на покой.
На другой день купила вдова муки, отнесла Аверьяну. Молча на лавку кинула да парнишонку за ручонку… Тот зубёнки скалит – радуется матери.
Вскорости совсем приободрилась баба: пацанёнка с девчонкой приодела-приобула, сама кое-чем отметила свою удачу и старушек тех не забыла.
Аверька только глазами хлопает: откель у бабы деньга завелась, с какой такой сырости? Мечется по дворам, народ с панталыку сбивает.
– Крадено, – говорит, – у неё это!
Ну, люди-то Бараниху давно знают, не верят наговору.
Нашлись всё-таки подсевалы, с расспросами к бабе подались.
Она возьми и отшутись: из муки, дескать, карасиновой золотой выудила.
Тут Аверьяна за живот ухватило. Прибежал ко вдове, орёт, слюнями брызжет.
– Отдавай, – кричит, – золотой, не то живьём в землю законопачу.
Ну, вдове делать нечего, обсказала всё как есть.
Аверька ко старухам-то и заявился.
А бабки будто его век ждали, забегали, засуетились:
– Садись, Никитич, сказывай, с какой нуждой к нам припожаловал.
Тот и ляпни:
– Выкладывайте, которая из вас золотой делить может.
Старухи руками разводят, друг на дружку поглядывают. Вроде бы разобраться не могут, об чём гостенёк речи мудрёные заводит. Видит мужик: толку не жди – выкамуривают над ним старые. Гаркнул Аверьян, ажно стёкла в оконцах созвякнули:
– Ах вы, коряги болотные! Сказывайте, как золото делить, не то я вас в церкви анафеме предам.
Те и суетиться бросили, насупились. Потом одна выступила вперёд да и говорит:
– Угадай, Аверьян Никитич, которая из нас кому бабкой приходится, а то мы не разберёмся, кому твою заботу решать. Не ошибёшься – научим золотым премудростям, нет – последнее спустим, голодранцем по миру пошлём.
Аверьке-то шибко охота золото, сидя над мошной, добывать. Стал он в лица старухам вглядываться. А сколь ни гляди, всё получается: с одного образа три бабки леплены.
Была не была! Ткнул мужик перстом в ту, что ближе оказалась.
Мотнула старая сединой – и стала перед ним девка красная.
Аверьян сглупа в другую палец протянул. Глядит, и та девкой обернулась.
А третья и приглашения ждать не стала, сама вышла красавицей писаной.
Мужик глаза развёл, окосел, попятился, задом дверь вышиб – да дёру.
Бежит по селу, будто бы за ним собака гонится, рот раззявил, орёт, видно, да голосу нет.
Прибёг домой, у двери ляпнулся и заснул мертвецки.
Дня три дрыхнул Аверьян. На четвёртый проснулся с петухами. Ничего ни про кого не помнит. А страсть как вспомнить нужно. Голову стал ломать.
Сколь ни перекидывал мозги – всё впустую.
Неделя, другая прошла.
Забросил мужик хозяйство, сидит и думает. Вроде начнёт в голове проясняться, тут опять как туман наплывёт.
Баба его плачет, убивается. Да что с тех слёз толку? Так от думы и загинул Аверьян, стал быть, Никитич.