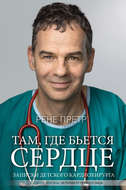Kitobni o'qish: «Всё, что осталось. Записки патологоанатома и судебного антрополога»
All That Remains
© Печатается с разрешения литературных агентств Johnson & Alcock Ltd. и Andrew Nurnberg
© И. Д. Голыбина, перевод, 2018
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018
Введение
«Смерть – не самая большая потеря. Гораздо больше теряешь, когда что-то умирает внутри, пока ты еще жив».
Норман Казенс, журналист(1915–1990)
Смерть и преувеличенная шумиха вокруг нее обросли таким количеством предрассудков, каким не может похвастаться никакой другой аспект нашей жизни. Смерть воспринимается как трагедия, как апофеоз страданий и несчастья, как чудовище, нападающее из темноты – тать в нощи. Мы даем ей туманные пугающие прозвища – Беззубая, Костлявая, Старуха с косой – и представляем себе в виде мрачного скелета в черном плаще с капюшоном, который должен прийти и одним смертельным взмахом отделить нашу душу от тела. Иногда это черный крылатый призрак, грозно витающий над нами, ее неминуемыми жертвами. И несмотря на то что смерть, вроде бы, женского рода, по крайней мере, в таких языках, как латынь, французский, испанский, итальянский, польский, литовский и норвежский, ее нередко изображают как мужчину.
К смерти принято относиться враждебно, потому что в современном мире она воспринимается как недруг, как чужак. Несмотря на громадный прогресс человечества, в наше время мы вряд ли стали ближе к разгадке таинственной связи смерти и жизни, чем были столетия назад. Мы словно забыли, что такое смерть, и для чего она нужна: если наши предки считали ее, скорее, дружественной, то теперь мы предпочитаем относиться к ней как к нежеланному гостю, которого надо любой ценой избегать, пока это возможно.
Мы или обожествляем, или проклинаем ее, вечно разрываясь между двумя этими крайностями. В любом случае, мы предпочитаем поменьше о ней упоминать, словно из боязни, что тем самым ее приближаем. Жизнь добра, удивительна и прекрасна, смерть – это горе и тьма.
Добро и зло, награда и наказание, рай и ад, белое и черное – такой линнеевский подход ведет к тому, что мы начинаем, фактически, противопоставлять жизнь смерти, вытесняя последнюю – кстати, незаслуженно – на темную сторону.
В результате мы все сильнее ее боимся, словно смерть заразна, и, если привлечь ее внимание, может прийти за нами до того, как мы будем готовы проститься с жизнью. Мы можем скрывать свой страх за показной бравадой или шуточками на ее счет, в надежде обезопасить себя от ее когтей. Тем не менее, мы знаем: когда наступит наш черед, и она придет за нами, нам будет не до смеха. Вот почему с ранних лет человек лицемерит в ее отношении, высмеивая в один момент и почтительно склоняясь перед ней в другой. У нас складывается собственный язык, смягчающий острые углы и утишающий боль. Мы говорим об «утрате», о том, что кто-то от нас «ушел», и с мрачным пиететом сочувствуем другим, когда они «теряют» близкого.
Я не «теряла» своего отца – мне совершенно точно известно, где он сейчас. Мой отец похоронен на вершине холма, на кладбище Томнахурч в Инвернессе, в красивом деревянном гробу, предоставленном Биллом Фрейзером, нашим семейным распорядителем похорон, который отец, скорее всего, одобрил бы, хотя мог счесть слишком дорогим. Мы положили его в яму в земле поверх полуразложившихся гробов его матери и отца, где остались к тому времени разве что кости и немногочисленные зубы, которые сохранились у них на момент кончины. Он не ушел, мы не лишились его и не потеряли – отец умер. Собственно, так даже лучше, чем если бы он и правда нас покинул – это было бы очень безрассудно и безответственно с его стороны. Его жизнь подошла к концу, и никакие эвфемизмы не смогут вернуть ее – вернуть моего отца – назад.
Будучи выходцем из семьи прямолинейных, рассудочных шотландских пресвитерианцев, где лопату называли заступом, а любую сентиментальность считали проявлением слабости, я с радостью воспринимаю тот факт, что их воспитание сделало меня прагматичной и толстокожей – в общем, приземленным реалистом. Размышляя о жизни и смерти, я не тешу себя иллюзиями и стараюсь быть искренней и правдивой, но это не значит, что мне все равно и что я не ощущаю боли и скорби или не сочувствую другим. Я лишь не склонна к слезливой сентиментальности в отношении смерти и усопших. Как совершенно справедливо говорит Фиона, наш чудесный капеллан в Университете Данди, нельзя утешить красивыми словами, держась на почтительном расстоянии.
Почему, несмотря на всю искушенность нашего двадцать первого века, мы до сих пор предпочитаем прятаться за привычным надежным заслоном умолчаний и отрицания, вместо того чтобы задуматься, действительно ли смерть так страшна, чтобы всю жизнь ее бояться? Она совсем не обязательно бывает жестокой, мрачной и отвратительной. Смерть может быть милосердной, мирной и тихой. Возможно, дело в том, что мы ей не доверяем, потому что предпочитаем ничего о ней не знать и не стараемся в течение жизни познакомиться с ней поближе. В противном случае мы давно бы научились воспринимать смерть как неотъемлемую и фундаментальную составляющую жизненного цикла.
Мы рассматриваем рождение как начало жизни, а смерть – как ее естественный конец. Но что если смерть – начало новой фазы нашего существования? Кстати, именно на этом основано большинство религий, которые учат нас не бояться смерти, потому что за ней нас ждет новая, лучшая жизнь. Подобные убеждения много веков служили людям утешением, и, возможно, вакуум, возникший в результате возрастающей секуляризации нашего общества, во многом способствовал возрождению древнего, инстинктивного и необоснованного отвращения к смерти и всему, что связано с ней.
Однако, вне зависимости от нашей веры, жизнь и смерть, несомненно, являются неразрывными элементами единого континуума. Одна не существует и не может существовать, без другой, и, как бы ни старалась современная медицина, от смерти никуда не деться. А раз мы никак не можем ее избежать, почему бы не постараться сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше провести время от рождения до смерти – то есть, собственно, жизнь.
Именно здесь и лежит фундаментальное различие между судебно-медицинской патолого-анатомией и антропологической патолого-анатомией. Судебная патолого-анатомия устанавливает причину и обстоятельства смерти – конец пути, – в то время как антропологическая патолого-анатомия восстанавливает этот путь, со всеми его обстоятельствами. Наша работа заключается в том, чтобы объединить полученные сведения о жизни человека с его телесными останками. Судебно-медицинская и антропологическая патолого-анатомия выступают тут равноправными партнерами – так сказать, соучастниками.
В Великобритании антропологи – в отличие от судмедэкспертов, – это, как правило, ученые, а не врачи, и поэтому редко обладают достаточными медицинскими познаниями, чтобы определить причину или обстоятельства смерти. Однако, с учетом бурного развития науки, от судмедэкспертов также нельзя ожидать всеобъемлющей экспертизы. Получается, что антропологам отводится важная роль в расследовании серьезных преступлений, где имеются трупы. Антропологи помогают отыскивать зацепки, связанные с личностью жертвы, и могут помочь судмедэкспертам в установлении окончательной причины и обстоятельств смерти. Каждая дисциплина привносит в процесс собственные отличительные методы и навыки.
Например, однажды передо мной и судебным патологоанатомом на столе в морге оказались человеческие останки в стадии сильного разложения. Череп был расколот более чем на сорок перепутанных фрагментов. Моей коллеге, как специалисту-медику, следовало определить причину смерти, и она считала, что это, скорее всего, огнестрельное ранение. Но ей требовалось подтверждение. Окинув взглядом груду осколков белой человеческой кости на сером металлическом столе, она сказала:
– Я даже не могу понять, что это за обломки, не говоря уже о том, чтобы собрать их вместе. Это твоя работа!
В подобных случаях роль антрополога заключается в том, чтобы определить, кем жертва могла быть при жизни. Кто это – мужчина или женщина? Высокого роста или низкого? Какого возраста? Какой расы? Есть ли на скелете следы каких-то травм или болезней, которые могли быть отражены в медицинской карте или у дантиста? Можно ли извлечь из костей, волос и ногтей вещества, которые укажут, где человек жил и какой пищей питался? Или, как в нашем случае, можно ли собрать из осколков трехмерную модель, чтобы не только установить причину смерти – ей действительно оказалось пулевое ранение в голову, – но также и ее обстоятельства? Собрав всю информацию и сложив череп из обломков, словно паззл, мы установили личность погибшего молодого мужчины и предоставили наглядное свидетельство, в соответствии с которым входное отверстие от пули находилось на затылке, а выходное – на лбу, между глаз. Жертву убили выстрелом в упор; парня бросили на колени и приставили пистолет прямо к голове. Ему было всего пятнадцать, и единственной причиной убийства являлось другое вероисповедание.
В качестве еще одной иллюстрации символической взаимосвязи между антропологом и судмедэкспертом я хотела бы привести случай с другим несчастным юношей, которого до смерти забили подростки, собиравшиеся вскрыть машину, припаркованную напротив его дома. Юношу пинали ногами, нанесли сильнейший удар по голове и проломили череп в нескольких местах. Личность потерпевшего в данном случае была нам известна, и судмедэксперт установил причину смерти – удар тупым предметом, приведший к массированному внутреннему кровотечению. Однако требовалось уточнить, каким именно предметом мог быть нанесен тот решающий удар. Мы смогли идентифицировать все фрагменты черепа и реконструировать его; в результате судмедэксперт подтвердил, что парень погиб от удара молотком или другим предметом подобной формы, который привел к вдавленному перелому черепа и множественным расходящимся трещинам, от чего и возникло смертельное внутричерепное кровотечение.
Для некоторых промежуток между началом и концом жизни будет длинным, возможно, больше столетия, в то время как для других, например, тех жертв убийства, эти события окажутся разнесенными совсем недалеко. Иногда их могут разделять вообще лишь несколько секунд – быстротечных, но таких драгоценных. С точки зрения судебного антрополога, долгая жизнь хороша в том смысле, что на теле остается больше примет, связанных с ее условиями, которые можно впоследствии восстановить по останкам. Отыскивать такую информацию для нас все равно что читать книгу или загружать данные с флэшки.
С точки зрения большинства людей, короткая жизнь – самый плохой вариант из возможных. Но кому судить, какая жизнь коротка, а какая нет? Ведь совершенно очевидно, что чем дольше с момента рождения мы живем, тем выше вероятность, что нашей жизни вот-вот наступит конец: в девяносто мы, в большинстве случаев, ближе к смерти, чем в двадцать. Простая логика говорит, что мы никогда не будем дальше от смерти, чем в этот самый момент.
Почему же мы удивляемся, когда кто-то умирает? В год это происходит с 55 миллионами человек – по двое каждую секунду, – и нам прекрасно известно, что и нас это тоже ждет. Этот факт ни в коем случае не умаляет нашей печали и скорби в случае смерти близких, но, все-таки, требует подходить к нему одновременно практично и реалистично. Раз мы не можем повлиять на свое рождение, а конец так и так неизбежен, почему бы не сосредоточиться на том, чем мы способны управлять, а именно – на ожиданиях относительно промежутка между ними. Возможно, именно им нам следует заниматься в первую очередь, осознавая и превознося его ценность, а не его продолжительность.
В прошлом, когда оттянуть смерть было куда сложнее, люди лучше справлялись с этой задачей. К примеру, в викторианские времена с их высокой детской смертностью, никто не удивлялся, если ребенок не доживал до своего первого дня рождения. Детям из одной семьи зачастую давали одно и то же имя, чтобы оно сохранилось, даже если кто-то из детей умрет. В двадцать первом веке детская смертность, конечно, стала гораздо ниже, однако удивляться тому, что кто-то скончался в возрасте девяноста девяти лет – против всякой логики.
Ожидания общества стимулируют медицину и дальше стараются максимально отдалять наступление смерти. Однако лучшее, что медики могут сделать – это дать нам больше времени, увеличив промежуток между рождением и кончиной. Из этой битвы победителями им не выйти, но они продолжают пытаться – в больницах по всему миру жизнь продлевают изо дня в день. Тем не менее, если смотреть на вещи трезво, подобные медицинские ухищрения – это просто оттягивание конца. Смерть наступает; если она не пришла сегодня, то может прийти завтра.
На протяжении нескольких веков человечество фиксировало и измеряло продолжительность жизни, так что мы знаем – статистически – когда примерно умрем, или, выражаясь более позитивно, сколько нам предстоит прожить. Такие «таблицы жизни» – любопытный и полезный инструмент, но он таит в себе определенную опасность, поскольку формирует ожидания, которые у одних не оправдаются, а у других превзойдут изначальные. Мы не можем знать, станем ли тем самым усредненным Джоном, который проживет свою норму, или окажемся на одном из краев графика.
Bepul matn qismi tugad.