Kitobni o'qish: «Книжная лавка фонарщика»

Original title:
THE LAMPLIGHTER'S BOOKSHOP
Sophie Austin
На русском языке публикуется впервые
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Книга не пропагандирует употребление алкоголя. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Copyright © Sophie Austin 2025
This edition is published by arrangement with Hardman and Swainson and The Van Lear Agency LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2026
⁂
Посвящается моим друзьям и родным, которые верили в меня тогда, когда я сама не верила.
Спасибо вам
Глава 1
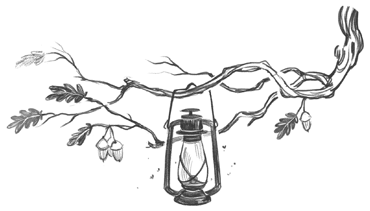
12 мая 1899 года
Риккалл-холл1, Риккалл, графство Йоркшир
Наблюдая, как пар изо рта крошечными капельками оседает на оконном стекле, Эвелин Ситон с непроницаемым лицом и выпрыгивающим из груди сердцем произнесла:
– Бесси, к нашему дому подъезжает толпа незнакомцев.
Через ворота, ловко преодолевая изгибы безупречно ухоженной дорожки, с грохотом пронеслись шесть черных карет. Поднимавшаяся из-под их колес пыль в лучах утреннего солнца создавала впечатление, будто к дому подползает огромных размеров змея, готовая проглотить его целиком.
Бесси подошла к окну и ахнула:
– Похоже, это полицейские кареты, мисс.
– Причем целый батальон, – сказала Эвелин, не сводя глаз с приближающихся лошадей – крупных лохматых шайров, выведенных специально для транспортировки тяжелых грузов, – и недоумевая, зачем они привезли столько мужчин и столько больших телег.
Наконец мужчины стали собираться на вымощенной гравием дорожке. Из местной полиции они определенно быть не могли: во всем Йоркшире вряд ли набралось бы столько полицейских. Выходя из карет, все они поднимали глаза на окна, без сомнения испытывая то же чувство, что и всякий впервые увидевший Риккалл-холл: изумление. Этот огромный старинный дом, этот увитый глицинией каменный левиафан мог бы с легкостью разместить в своих комнатах целый полк, однако на деле в нем жили лишь Эвелин, ее мать и пара слуг, которых они пока еще могли себе позволить. Однако эти мужчины, надо думать, об этом не знают и могут попросить хозяина.
И тогда мать снова впадет в свою меланхолию.
Эвелин сделала глубокий вдох и оторвала взгляд от окна.
– Как бы там ни было, Бесси, полагаю, встретить их следует мне. Ты знаешь, как поздно сейчас встает маменька, и к тому же она еще слишком… – Эвелин осеклась. Слово «слаба» совершенно не подходило ее матери, обычно такой яркой, живой, энергичной женщине, которая теперь укуталась в свою грусть, как в саван.
Эвелин перебрала все возможные способы ее развеселить, а когда это не сработало, она попыталась действовать ей на нервы – стала каждое утро являться на завтрак во все более нелепых нарядах: в огромных шароварах для велоезды, в мужском цилиндре, даже в жемчужных украшениях – ведь что, как не жемчуг, могло вывести ее мать из оцепенения? – но ответом на все ее старания стали лишь вздохи, беглый усталый взгляд и давящее чувство, так больно сжавшее ей грудь, что Эвелин решила, будто вся грусть ее матери перешла к ней. Перед Рождеством ей показалось, что черная полоса осталась позади, но пришла весна, и мать снова погрузилась в апатию. Этот контраст ее поразил: растаял снег, задул теплый весенний ветерок, а ее мать вдруг снова заперлась у себя в комнатах.
– Чтобы вы их встречали, мисс? – Широкое морщинистое лицо Бесси исказилось. – При всем уважении я не уверена, что это хорошая идея.
– Ой, да полно тебе. Если я захочу, я могу быть самим очарованием. Так, думаю, для этого случая лучше всего подойдет костюм. Быть может, твидовый?
Гримаса Бесси выразила обратное мнение.
– Как думаете, чего им надо?
– Должно быть, они заблудились, – ответила Эвелин с уверенностью, которой совершенно не чувствовала.
– Как можно заблудиться в Риккалле? – фыркнула Бесси. – Его проедешь – и не поймешь, что вообще его проезжал. И все же я считаю, что лучше будет дождаться вашей матушки.
На этих ее словах раздался звонок в дверь: кто-то с силой три раза дернул за колокольчик, словно ему недоставало времени или терпения, а может, и того и другого.
Эвелин покачала головой:
– Я бы лишний раз не досаждала матушке, если можно без того обойтись. С одним приемом гостей я определенно справлюсь и сама. Мне уже двадцать четыре года, в конце концов.
– Так-то оно так, мисс, но порой вы ведете себя довольно грубо. Я-то не возражаю, а вот тем мужчинам внизу это может не понравиться.
Эвелин закатила глаза:
– Я веду себя не грубо, я просто говорю все как есть.
– Вот именно, – сказала Бесси, подходя к шкафу и рывком открывая большие скрипучие двери. – Люди не любят честность.
– Неправда, – возразила Эвелин. – Я считаю, что люди, которые утверждают, что не любят честность, на самом деле не любят самих себя. Поэтому они так обижаются, когда я говорю им правду. Ведь если они сами не могут сказать себе правду, то с чего бы им позволять это делать таким, как я?
Губы Бесси вытянулись в напряженную линию.
– Вот поэтому к тем серьезным на вид господам должна выйти ваша матушка. Сами вы склонны говорить всякие странности.
Эвелин шумно выдохнула: придерживая на ней корсет, Бесси вставила ленту в отверстия и затянула. Внизу снова прозвенел колокольчик, на сей раз четырежды – громче и свирепее, чем прежде. Сердце Эвелин забилось сильнее.
– Одна фраза на балу дебютанток2 – и меня уже считают девушкой, которая говорит всякие странности.
– Вы назвали леди Вайолет задирой.
– И совершенно справедливо назвала.
– А еще вы сказали ей, что она такая вредная и злая, потому что на самом деле она зла на саму себя.
– Мое мнение не изменилось.
– Неужели вы не понимаете, мисс? Людям такое говорить нельзя! А тем более нельзя это делать в свой первый выход в свет.
Бесси закончила шнуровать корсет, и Эвелин развернулась, натягивая через голову блузку. Из-под заколок выбилось несколько темных локонов.
– Знаешь, – послышался из-под воздушной кремовой шелковой ткани ее приглушенный голос, – я предпочитаю верить, что жизнь была бы гораздо проще, если бы люди чаще говорили то, что думают. Это был бы настоящий глоток свежего воздуха, не находишь?
– Нет, мисс, – ответила Бесси. – Не нахожу. Я считаю, что все от этого только расстроятся.
– А я бы не расстроилась, – возразила Эвелин, застегивая пуговицы на высокой твидовой юбке. Она надеялась произвести на гостей впечатление строгой учительницы, пусть на самом деле этот костюм и предназначался для езды на велосипеде, а вовсе не для встречи толпы мужчин в униформе. Но в дверь стучится новое столетие – моде пора меняться.
Бесси застегнула последнюю пуговицу на жакете Эвелин и сказала вполголоса:
– Может быть, они привезли вести о вашем отце? В конце концов, мы ничего о нем не слышали с тех пор, как напечатали те статьи в газете…
Эвелин вздрогнула:
– Мы не должны вспоминать об этих статьях. Ни сейчас, ни впредь. И особенно в присутствии маменьки.
– Разумеется, мисс, – краснея, ответила Бесси. – Я бы не посмела.
– Знаю, – сказала Эвелин, встретившись с ней взглядом в зеркале и нерешительно улыбнувшись. – А теперь ступай и скажи мистеру Дили, пусть впускает уже этих людей – они без конца звонят в дверь. Если матушка еще не проснулась от этого звона, то в следующий раз проснется точно.
Бесси ушла, но Эвелин последовала за ней не сразу. Она высоко подняла подбородок и посмотрела в зеркало, стараясь скрыть свое волнение за уверенной осанкой, строгим наклоном головы и наигранно твердым взглядом темных глаз. Она знала, что, даже если происходящее внизу не окажется простым недоразумением, ей хватит мужества сдержать удар – жаль только, что оно вообще может ей понадобиться. За последние два года ей так часто приходилось набираться смелости для самых простых вещей, что она уже начала от этого уставать.
«Но если так я смогу уберечь маменьку от потрясений, значит, это того стоит». Она дотронулась дрожащими пальцами до пуговиц жакета, поправила их, а затем развернулась и пошла к лестнице, внизу которой ее ждали мужчины в форме и все то, что они с собой привезли.
Стол в пустом зале для завтраков был накрыт на двоих: яйца вкрутую с холодной жареной ветчиной и свежевыпеченный хлеб с домашним джемом. Из окон, сквозь лозы цветущей глицинии, лились солнечные лучи, лаская своим полосатым узором картины, висящие на стенах, и подсвечивая воздух сверкающими пятнышками. Обычно этот мерцающий, бьющий в глаза свет раздражал Эвелин, но сегодня она была благодарна дому за эти густые лозы, за их покровительство, за ту преграду, которую они создают между ней и теми мужчинами, как мухи роящимися у них на газоне.
– Персиваль!
Лакей заглянул в комнату с каким-то растерянным выражением, словно он уже давно ходил в передней из угла в угол и Эвелин застала его врасплох.
– Кто бы там ни привел в наш двор эту кавалерию, можете их впускать.
Персиваль замешкался:
– Мистер Дили наказал никого не впускать, пока не проснется хозяйка.
– Гостями займусь я, – настойчиво произнесла Эвелин. – Сию же минуту.
На лице Персиваля промелькнуло недоверие, однако же он ответил:
– Разумеется, мисс. – И сделал разворот на каблуках.
Сев за стол на свое любимое место, лицом к окну, Эвелин вытерла вспотевшие ладони о мягкую ткань юбки. Может быть, это какие-нибудь учения? Может, эти люди вовсе не полицейские, а военные? Она подумала, не пересесть ли ей на противоположную сторону, чтобы солнце не светило в глаза, а затем засомневалась, стоит ли ей вообще садиться. Вдруг эти господа решат, что она села завтракать, а не принимать гостей? Наверное, стоило сказать Персивалю, чтобы он провел их в гостиную, но эта мысль посетила ее слишком поздно. В итоге Эвелин стала просто бесшумно шагать по комнате вперед-назад в ритме напольных часов, чей золотой маятник постоянно пускал ей в глаза солнечные зайчики.
В комнату стремительно вошел Персиваль.
– Вас хочет видеть главный констебль лондонской полиции, мисс.
– Лондонской полиции? – Тревожное чувство в ее животе усилилось. – Пригласите его.
Она прислушалась к тяжелым шагам: ботинки со стуком опускались на деревянный пол, однако вошедший в комнату мужчина оказался на удивление расторопен. Он поспешил снять шляпу, обнаружив под ней голый затылок, окруженный полукольцом седеющих волос.
– Леди Ситон. Я уже было начал думать, что никого нет дома.
В напряжении его шеи и беспокойных движениях рук читалось нетерпение.
– Леди Ситон – моя мать, – сказала Эвелин, протягивая ему руку. – Я же мисс Эвелин Ситон.
Приветливая улыбка сбежала с его лица.
– Главный констебль Уоттс. Вашей матери… нет дома?
– Она спит, – ответила Эвелин. – И я не желала бы ее будить.
Мужчина прочистил горло. Она все никак не могла поймать его взгляд. Не то чтобы Эвелин к такому не привыкла, ведь ей не раз говорили, что она бывает излишне прямолинейна. Однако сама Эвелин вовсе не находила это суждение справедливым. Она просто уделяла собеседнику все свое внимание, что, несомненно, было намного вежливее поведения полицейского, который, не отрывая глаз, смотрел на броский портрет ее прадедушки, первого барона Ситона, изображенного по моде прошлого столетия в белом кудрявом парике.
– При всем уважении я бы советовал вам ее разбудить. Я, как и обещал, приехал лично и, принимая во внимание всю… деликатность вопроса, полагаю, ей бы очень хотелось услышать то, что я собираюсь сказать.
– При равном уважении к вам, главный констебль Уоттс, я этого делать не стану. – Эвелин ответила ему своей самой очаровательной улыбкой. – Довольно формальностей. Расскажите же мне, для чего вы ни свет ни заря привели к нашему дому целый полк?
Полицейский поджал губы и бросил на дверь раздраженный взгляд.
– И если вы хотите спросить, дома ли хозяин, то ответ «нет». Так что вам придется общаться напрямую со мной.
– Я знаю, что его нет дома, мисс Ситон, – сказал констебль, сменив тон. Теперь в его голосе слышалась нотка жалости. – Он в Лондоне, в долговой тюрьме. Поэтому мы и приехали.
Свет в комнате померк, и дыхание Эвелин замерло вместе с ним.
– В долговой тюрьме?
Она слышала о них, но не помнила где.
– В них сажают крупных должников на то время, пока они не соберут деньги и не расплатятся с долгами. А у вашего отца долгов немало.
Звук этих слов холодком пробежал у нее по спине. Однако удивляться было нечему: ее отец всегда находил все более оригинальные способы опозорить их с матерью.
Но долги?
Это что-то новенькое.
– Откуда у него могли появиться долги? – спросила Эвелин, пытаясь скрыть дрожь в голосе. – И перед кем?
– Истец не один, мисс Ситон, – процедил главный констебль Уоттс сквозь пожелтевшие зубы. – И сумма долга существенна – слишком существенна. Из-за этого мы и здесь. Боюсь, нам придется конфисковать все имущество вашего отца, в том числе урожай и доход с земель. – Он провел рукой по воздуху. – А все это будет выставлено на аукцион.
Так вот зачем им понадобилось столько карет и тяжеловозов. У Эвелин пересохло во рту. Неровным голосом она сказала:
– Но ведь моему отцу принадлежит все, что есть в этом доме: всякая подушка, всякая ложка. Вы не можете… вы ведь не станете все это забирать? – Она посмотрела на портрет прадедушки. В своей роскоши и помпезности эта картина была совершенно нелепа. – Кто в здравом уме захочет платить за моего прадедушку Джорджа! Вы просто не можете забрать у нас все!
– Увы, моя милая. Боюсь, эти люди могут.
Услышав за спиной голос матери, Эвелин обернулась. Леди Сесилия Ситон стояла в дверях: в своем строгом сером платье, с аккуратно собранными на затылке волосами она казалась бледнее и старше, чем на самом деле была.
– Очень надеюсь, что урожай, скот и деньги, вырученные с продажи нашего имущества, смогут покрыть весь долг твоего отца.
В груди у Эвелин что-то сжалось.
– Вы всё знали, мама?
– Твой отец написал мне письмо, – ответила Сесилия, входя в комнату, – в начале весны.
Так вот почему ее мать снова впала в уныние. Он все ей рассказал – предупредил ее.
Сесилия перевела холодный взгляд своих ясных карих глаз обратно на полицейского:
– Однако Джон уверял меня, что в продаже имущества необходимости не возникнет.
– Это останется на усмотрение назначенного судом попечителя, леди Ситон, – сказал полицейский, потупив взгляд.
– Продажа имущества? – повторила Эвелин. Ей начал овладевать леденящий страх, от которого мерзли руки и перехватывало дыхание. – Где же мы будем жить, если останемся без дома? И как же прислуга? Ведь после того, как ушел отец, некоторые остались с нами. Что теперь делать Бесси? Что им всем делать?
– То же, что и нам, – тихо вздохнула мать. – Уходить.
Эвелин услышала, как за дверью кто-то ахнул и, судя по звуку шагов, поспешил удалиться.
Полицейский переступил с ноги на ногу, очевидно чувствуя себя неловко.
– Вам разрешается взять с собой одежду и личные вещи, но подарков барона среди них быть не должно. Иначе они будут изъяты в соответствии с постановлением суда.
Уголки губ Эвелин дрогнули.
– Что за абсурд! Все, что у нас с матушкой есть, куплено моим отцом. Вы хотите сорвать платья с наших плеч? Снять туфли с наших ног? – Она произнесла это с несколько бо́льшим жаром, чем того желала, и мать бросила на нее осуждающий взгляд.
– Эвелин, прошу тебя. Этот господин ни в чем не виноват, а истерикой ты делу не поможешь.
– Истерикой? – Эвелин озадаченно посмотрела на мать. – Тебе не кажется, что у меня есть право иметь по этому вопросу свое мнение?
– Только не здесь и не сейчас. – Голос матери раздался в тишине комнаты словно щелчок кнута. – Ты дочь барона. И, ради бога, веди себя подобающе.
Эвелин почувствовала, как по ее щекам расползается румянец. Мало ей матери, так еще главный констебль Уоттс посмотрел на нее как на мяукающего котенка.
– Один-два чемодана, уверен, мне проверять не придется, но если вы нагрузите с собой целую карету, то я буду вынужден убедиться, что вы не увозите ничего противоречащего содержанию исполнительного листа.
– Один-два чемодана? – Эвелин сглотнула. Пыл ее гнева начинал затухать, оставляя после себя лишь ощущение пустоты. – Вы хотите, чтобы мы упаковали свою жизнь в один-два чемодана?
– Бесси тебе поможет, – сказала мать, беря ее за руку и сжимая так сильно, что Эвелин поморщилась от боли.
– Куда же мы поедем? Где будем жить?
– Мы поедем к моей тетушке Кларе, в Йорк, – ответила мать уже менее ровным и уверенным тоном. – Обратимся к ней за едой и кровом.
У Эвелин округлились глаза.
– Но ведь тетушка Клара не приглашает нас даже на чай! Ты действительно думаешь, что она позволит нам у себя пожить?
– Признаться честно, Эвелин, – мать посмотрела на нее, и Эвелин увидела, что и она вот-вот сломается под своей маской наигранной стойкости, – я понятия не имею. Но я не знаю, к кому еще мы могли бы с тобой попроситься.
– Значит, пойду собираться, – сухо сказала Эвелин, спеша поскорее уйти, чтобы этот нетерпеливый лысеющий мужчина не увидел ее слез.
Глава 2
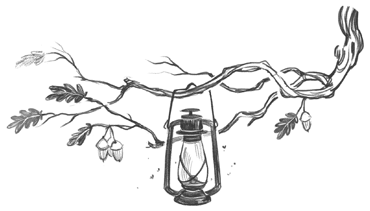
Хватаясь за перила, Эвелин смахнула со щек слезы. Она не могла представить себе жизнь, в которой не будет каждое утро спускаться по лестнице и проводить ладонью по резным деревянным рамам картин, наблюдая, как крошечные золотые песчинки окрашивают кончики ее пальцев, – жизнь, в которой она не будет красться мимо стоящих в углу доспехов, боясь их повалить, или в которой не будут звенеть дедушкины тарелки на стене, если пройти мимо них слишком быстро.
Она попыталась вообразить, как выглядела бы передняя, если все из нее убрать: снять со стен ситец, вывезти обитые бархатом кресла, выбросить стоящий в углу граммофон и все дедушкины безделушки.
Эвелин глубоко вздохнула и ущипнула себя за тыльную сторону ладони. «Я должна собираться». Она чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног, как она вот-вот свалится в пропасть – но шагать в нее было нельзя. Ее ждали дела, на них можно было отвлечься, занять свой разум практическими вопросами. Нужно просто упаковать вещи и перестать о них думать. Как и обо всем остальном.

Двух чемоданов, как показалось Эвелин, было до ужаса мало, так что она в итоге собрала, разобрала и собрала заново четыре, да и в них поместилось всего-навсего пять пар туфель, одно утреннее платье, четыре повседневных, один пеньюар, один дорожный плащ, один наряд для верховой езды и одно-единственное изумрудно-зеленое вечернее платье. А для шляпок вообще понадобились отдельные коробки. Когда же они с Бесси закончили бороться с набитыми доверху чемоданами и насилу застегнули и разложили их на кровати, Эвелин задумалась, не захочет ли этот сердобольный лондонский полицейский проверить, не спрятала ли она в них столовое серебро.
Когда они наконец собрались и были готовы ехать, уже наступил полдень. Эвелин крепко сжала Бесси в своих объятиях, изо всех сил стараясь не разрыдаться и не залить слезами ее кружевной воротник.
– Со мной все будет в порядке, мисс, – сказала Бесси, поглаживая ее по спине. – Опытную горничную везде с руками и ногами оторвут. Это мне о вас нужно беспокоиться. Как вы будете жить без дохода, без перспектив? Чем вы с вашей матушкой будете заниматься?
Эвелин почувствовала, будто в ее голове щелкнула, открывшись, шкатулка и из нее выползла мысль: «Ведь она права. Мы будем не просто бездомны, но еще и разорены».
– За нас не беспокойся, – поспешила ответить она, отстранившись. – Мы с матушкой со всем справимся. Делали же это как-то раньше.
– У тебя сильный характер, девочка моя, – сказала Бесси, ласково ущипнув ее за подбородок. – Не забывай об этом.
Только тогда, когда закрылась дверь кареты, когда они с матерью оказались вдвоем в трясущейся кабине, когда в окно ворвался с ветром запах полевых цветов и влажной травы, – только тогда ее захлестнула такая сильная волна страха, что ей показалось, будто она может в ней захлебнуться.
– Я его ненавижу, – сказала она, закрывая глаза и откидываясь на спинку сотрясающегося кожаного сиденья. – Ненавижу за то, что он с нами сделал.
– Знала бы я, что до этого дойдет, я бы рассказала тебе раньше, – произнесла ее мать и, пытаясь как-то ее утешить, положила ей на колено руку. – Но твой отец поклялся мне – он поклялся, – что дома мы не лишимся.
– И ты ему поверила? – Эвелин изумленно посмотрела на мать, но взгляд Сесилии был прикован к окну.
Она была само умиротворение: аккуратная сумочка на коленях, изящно приколотая к прическе шляпка. Даже ее пыльно-голубое платье с элегантной черной окантовкой, в которое она переоделась, словно бы старалось заверить, что на самом деле они просто едут в гости с дружеским визитом.
– Как ты можешь быть так спокойна? Тебе правда нечего об этом сказать?
Ее мать сделала глубокий вдох, и Эвелин заметила, как солнечный свет подчеркнул острую линию ее скул и блеснул у нее в глазах, заставив их окраситься ярко-золотым светом. Сесилия обладала той роскошной, величественной красотой, которую на своих картинах обычно изображали декаденты.
– У меня было два месяца, чтобы с этим смириться, – наконец произнесла она тихим голосом. – Все два месяца я надеялась, что этот день не наступит, и в то же время страшилась его приближения. Я не знала, говорить ли тебе, готовить ли тебя – или поверить ему и тебя защитить, а теперь, когда все это на нас обрушилось, я испытала… – она тихо, медленно вздохнула, – облегчение. Это ожидание высасывало из меня жизнь.
– Но ведь его ошибки стоили нам нашего состояния! Неужели было недостаточно того раза, когда он забрал с собой в Лондон три четверти всей нашей прислуги, оставив нас одних в пустом доме? А до этого испортил мой первый выход в свет? И все последующие светские сезоны3 в Лондоне?
– За испорченные сезоны отца определенно нечего винить, – возразила Сесилия. – Ты сама простояла в углу все балы, которые мы с тобой посетили.
– Потому что репутация отца являлась на эти балы раньше нас. Все мужчины, танцевавшие со мной, делали это только ради того, чтобы услышать новости об американских инвестициях, по которым папа выступал посредником. Это была самая настоящая пытка.
Мать наконец перевела на нее взгляд, в котором выражались одновременно сочувствие и жалость.
– Это нам неподвластно, дорогая. Ты не сможешь подчинить отца своей воле, как не сможешь приказать солнцу светить. Лучше просто сядь поудобнее и позволь себе плыть по течению.
Эта мысль была Эвелин отвратительна. В животе у нее поднимался гнев, в груди щемило от злости.
– Я не хочу отдаваться на милость чужим причудам, мама, – сказала она. – Я не хочу всецело полагаться на человека, а потом стоять и смотреть, как он ведет меня в пропасть. Нельзя давать другим над собой такую власть, даже если их любишь. Тем более если их любишь.
Мать секунду посмотрела на нее с непроницаемым выражением лица, а затем сказала:
– Эвелин, дорогая, если ты в это веришь, значит, ты не сможешь никому доверять.
– Что ж, может, оно и хорошо, – ответила Эвелин и отвернулась к окну, в котором мелькали поля, больше им не принадлежавшие. Кукуруза уже начинала подрастать. – Возможно, даже к лучшему.








