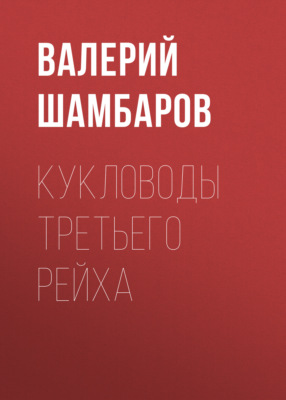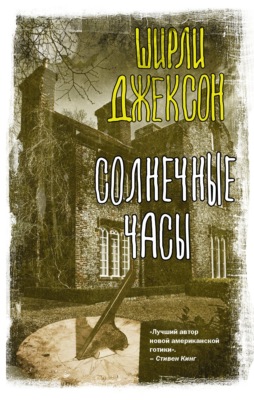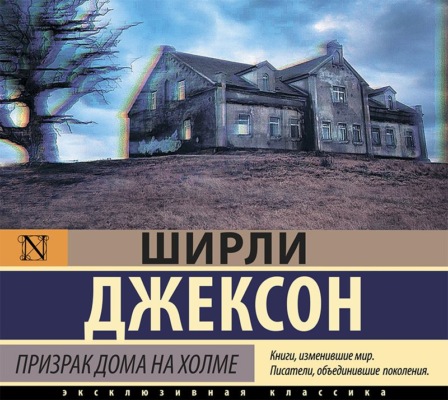Kitobni o'qish: «Птичье гнездо»
Стэнли Эдгару Хайману
Shirley Jackson
The Bird’s Nest
* * *
Печатается с разрешения литературных агентств A. M. Heath и Andrew Nurnberg.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Shirley Jackson, 1954
© Foreword Kevin Wilson, 2014
© Перевод. Школа В. Баканова, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Предисловие
Ширли Джексон была и остается одним из авторов, оказавших на меня сильнейшее влияние. Она научила меня принимать мир во всей его причудливости и в то же время оставаться верным своим взглядам, какими бы сложными они ни казались читателю. Лет в десять-двенадцать я впервые прочел «Лотерею», которую до сих пор считаю одной из самых сильных книг в своей жизни, затем были «Вешальщик», «Призрак дома на холме» и более ранние вещи – я следил за каждым словом, написанным Джексон, – и наконец, с большим опозданием, добрался до «Мы всегда жили в замке». Я обращаюсь к Джексон, когда хочу понять тьму, понять, как люди воспринимают зло, или, что еще страшнее, сами творят его. Мир вокруг всегда был для меня чем-то непостижимым, источником постоянного беспокойства, а Джексон показала мне, как можно жить, не рискуя превратиться в параноика. Для меня ее сюжеты были поучительными историями, благодаря которым жизнь становилась простой и понятной. Хотя «Птичье гнездо» Джексон написала в самом начале карьеры, эта книга – наглядный пример того, что так привлекает меня в ее творчестве: Джексон способна создать тихий хаос, который, как бы читатель ни старался, не поддается ни определению, ни пониманию. Мы никогда, понял я из книг Джексон, не сможем объяснить всего, что происходит в мире, и в загадочных, необъяснимых вещах кроется самое интересное.
«Птичье гнездо» начинается описанием музея, давно нуждающегося в ремонте, – здания со «странным наклоном к западу, до того заметным, что становилось не по себе». Когда я перечитывал роман, этот образ сразу напомнил мне две другие выдающиеся работы Джексон, написанные позже, – «Мы всегда жили в замке» и «Призрак дома на холме», где фигурируют зловещие дома, места, в которых обитают странные, завораживающие персонажи. Через несколько страниц появляется главная героиня – Элизабет Ричмонд, тихая, одинокая девушка, оплакивающая недавно умершую мать, и мы узнаем, что, возможно, «Элизабет вывел из равновесия наклон пола в кабинете» – она работает в канцелярии музея. Кабинет Элизабет находится на последнем этаже, и, когда в музее начался ремонт, в стене рядом с ее столом проделали дыру. Эта дыра обнажила «скелет здания» и манит девушку, – та испытывает желание «броситься вниз, в первобытные пески, на которых, по всей видимости, стоял музей».
Любителям творчества Джексон знаком подобный прием, и они готовы к тому, что наклонившееся задние постепенно сведет мисс Ричмонд с ума. Тьма возникает, когда выясняется, что героиня получает письма с угрозами, усугубляющие ее головные боли и боли в спине. Все элементы присутствуют, и вот – доказательство таланта Джексон и причина, по которой «Птичье гнездо» остается одним из моих любимых романов, – повествование делает новый, совершенно неожиданный поворот. Внутри Элизабет Ричмонд живут несколько личностей, и одна из них тайком сбегает из дома навстречу сомнительным приключениям. Письма с угрозами – дело рук самой Элизабет. Она говорит, будто ничего не знает о случившемся, но не уверена в своих словах. Мы видим, что странные, завораживающие персонажи обитают не в музее, а в теле Элизабет. И понимаем, о чем на самом деле пишет Джексон: о загадках, что таит в себе каждый из нас, о губительном, незримом саморазрушении.
Мы покидаем музей и попадаем в необыкновенный внутренний мир Элизабет. Роман превращается в исследование душевной болезни, тьмы внутри нас, которую так трудно понять и обуздать. Подобно Констанс из «Мы всегда жили в замке», Элинор из «Призрака дома на холме» и Натали из «Вешальщика», Элизабет – хрупкая, одинокая девушка, но Джексон экспериментирует, являя нам несколько отдельных личностей, каждая из которых по-своему неполноценна. Некоторые главы романа написаны от лица психиатра Элизабет – доктора Райта, не всегда, однако, охотно помогающего девушке, и тети Морген, у которой тоже есть свои секреты, но мои любимые отрывки посвящены тому, что происходит в сознании Элизабет или личности, в данный момент обитающей в ее теле. Джексон всегда с поразительной точностью пишет о хрупкости человеческой психики, и мне, всю сознательную жизнь страдавшему психическим расстройством, кажется, что мало кому из писателей так хорошо известно, на какие злые шутки способен наш разум. Когда Бетси, самая сложная и противоречивая из всех личностей Элизабет, ускользнув от доктора Райта и тети Морген, сбегает в Нью-Йорк в поисках матери, которую считает живой, повествование становится нервным, напряженным. Мысли Бетси путаются, и читателю трудно понять, что происходит. Мир вокруг теперь представляет для нее опасность, в каждом встречном она видит угрозу, куда бы она ни пришла – перед ней чужое, незнакомое место. Это одни из самых захватывающих и пугающих сцен в прозе Джексон.
Несмотря на то что методы доктора Райта, в первую очередь применение гипноза для лечения расстройства множественной личности, иногда дают результаты, едва ли Джексон хочет сказать, будто ему подвластны бездонные глубины загадочного сознания Элизабет. В поведении доктора есть нечто зловещее, интересным образом контрастирующее с присущей ему самоиронией. Его собственные страхи объясняют ужас, который он испытывает, поняв природу тьмы внутри Элизабет. Доктор – всего лишь укротитель, пытающийся подчинить своей воле человеческую душу, и нетрудно догадаться, что думает Джексон об успехе подобной затеи.
Конец романа сулит главной героине если не счастье, то хотя бы покой, и, тем не менее, это не счастливый конец. Угроза, исходящая от окружающего мира, и, что куда страшнее, опасности, заключенные в нас самих, делают счастье недосягаемым. Что бы ни стало потом с Элизабет, читатель сопереживает девушке; ее желания и поступки, даже самые странные, свойственны человеку. Это ответ – и мы находим его не только в «Птичьем гнезде», но и во всех произведениях Джексон – на вопрос, почему так страшно, заглянув в глубь вещей, увидеть тьму и хаос. Мастерство Джексон заставляет нас сперва отпрянуть при виде опасности, а потом подойти ближе и рассмотреть то, чего мы так испугались.
Кевин Уилсон
1. Элизабет
Хотя музей считался в городе оплотом просвещения, фундамент его начал проседать, отчего у здания появился странный наклон к западу, до того заметный, что становилось не по себе, а у дочерей города, неустанно заимствовавших средства на содержание музея, – чувство бесконечного стыда и привычка винить друг друга. Кроме того, это весьма забавляло служащих музея – работу некоторых из них неумолимый наклон пола затронул самым непосредственным образом. Палеонтолог находил очень смешным то, что, накренившись, величественный скелет динозавра будто принял позу зародыша. Нумизмат, чьи экспонаты со звяканьем скатывались в кучу, отмечал, надоедая всем вокруг, что таким образом достигается классическое сопоставительное расположение. Орнитолог и астроном, в чьих областях и без того редко царило равновесие, заявляли, что перепад высот отразится на них, только если будет уклон, как на дороге, позволяющий свести на нет последствия хождения по неровному полу. Так или иначе, хождение для обоих было нехарактерным способом перемещения: одного манил полет, другого – самодостаточное вращение небесных сфер. Высокоученого профессора археологии, который ходил по музейным коридорам, не замечая наклона, видели с надеждой разглядывающим просевший фундамент. Строитель и архитектор, а также сварливые дочери города пытались списать все на некачественные материалы и непомерную тяжесть некоторых древностей в собрании музея. В местной газете появилась передовица с критикой руководства, допустившего, чтобы обломки метеорита, коллекцию минералов и целый арсенал времен Гражданской войны, обнаруженный неподалеку от города и включавший две пушки, разместили в левом крыле здания. В статье справедливо отмечалось, что, если бы в левом крыле выставляли образцы знаменитых подписей и исторические костюмы, здание не просело бы, по крайней мере при жизни благодетелей музея. Поскольку местную газету, как все современное и недолговечное, не жаловали ниже третьего этажа музея, где располагалась канцелярия, экспозиции оставили на прежних местах. В канцелярии же каждый день читали комиксы и внимательно просматривали гороскоп на первой странице в надежде узнать, как они умрут. На третьем этаже были склонны к раздумьям и верили почти всему, что читали. В этом отношении они, конечно, мало чем отличались от образованных обитателей первого и второго этажей, которые проводили дни в окружении бессмертных предметов из прошлого, иронизируя на тему распада.
Место Элизабет Ричмонд находилось на третьем этаже, в углу кабинета. Эта часть музея располагалась ближе всего к поверхности, если можно так выразиться. Отсюда осуществлялась связь с внешним миром, пресмыкающихся-ученых здесь не жаловали. Сидя за своим столом на верхнем этаже здания, в самом западном углу, Элизабет каждый день отвечала на письма с предложениями принять коллекцию гербариев или старинных морских сундуков, возвращенных в Америку из Китая. Доказательств того, что Элизабет вывел из равновесия наклон пола в кабинете, как и того, что здание начало проседать по вине Элизабет, нет, и все же никто не сомневается, что произошло и то и другое почти одновременно.
Первой мыслью всякого, кто имел отношение к музею, вплоть до палеонтолога, было не построить заново на другом месте, а починить, залатать, вернуть прежний вид. Для этого плотники сочли необходимым проделать в здании сквозную дыру, сломав одну стену на каждом этаже, и начали они с угла Элизабет. На втором этаже дыру скрывал саркофаг, на первом – не без оснований – небольшая дверца с надписью «НЕ ВХОДИТЬ». В канцелярии же закрыть ее оказалось нечем, поэтому, придя в понедельник утром на работу, Элизабет обнаружила, что стену рядом с ее столом, которой она, печатая на машинке, почти касалась левым локтем, снесли, обнажив скелет здания. В тот день Элизабет пришла первая. Аккуратно повесив пальто и шляпку на вешалку у двери, она прошла в свой угол и глянула в дыру – у девушки мгновенно закружилась голова и возникло непреодолимое желание броситься вниз, в первобытные пески, на которых, по всей видимости, стоял музей. Далеко внизу, на первом этаже, она услышала голоса экскурсоводов, слабым эхом разносившиеся по зданию, – сегодня был день открытых дверей, и экскурсоводы слонялись без дела. Со второго этажа, судя по громкости, доносился чей-то недовольный голос – должно быть, археолог, стоя у саркофага, возмущался качеством воздуха. Элизабет, у которой болела голова, болела почти все время, вздохнула и повернулась к столу, где ждало письмо с предложением принять собранный из спичек макет небоскреба. К третьему письму легкое ощущение праздника, вызванное отсутствием в кабинете стены, почти полностью улетучилось. Прочтя письмо, Элизабет встала и снова заглянула в пролом, а затем вернулась на место с единственной мыслью – о больной голове.
«милая лиззи твоей беззаботной жизни конец берегись меня берегись лиззи берегись меня и веди себя хорошо потому что я тебя поймаю и ты пожалеешь и не думай что я не узнаю лиззи потому что я знаю… гадкие мыслишки лиззи гадкая лиззи»
Элизабет Ричмонд было двадцать три года. У нее не было родителей, не было друзей, не было ни одного близкого человека, а устремления ограничивались тем, чтобы прожить без особых мучений отпущенное ей время. С тех пор как четыре года назад умерла ее мать, Элизабет ни разу ни с кем не поговорила по душам, а тетя, у которой девушка жила, много не требовала: лишь бы племянница отдавала ей часть недельного жалованья и вовремя спускалась к ужину. Хотя Элизабет приходила в музей каждый день на протяжении двух лет, за это время здесь ничего не изменилось. Корреспонденция, подписанная «Э. Р. по доверенности», и бесчисленные описи экспонатов, в конце которых стояло «Э. Ричмонд», были едва ли не единственными следами ее присутствия на работе. Полдюжины человек делили с ней кабинет и еще столько же работали в других помещениях на третьем этаже – все они знали Элизабет, здоровались с ней по утрам, а иной раз, когда утро выдавалось особенно солнечным, даже спрашивали, как у нее дела. Однако те, кто из желания помочь или просто по доброте душевной пытались узнать ее поближе, наталкивались на полное безразличие. Элизабет была настолько непримечательна, что даже не заслужила прозвища. Пока все вокруг, погруженные в изучение обломков и запыленных мелочей из мрачного прошлого или пустот в космосе, тщательно оберегали свою индивидуальность, она оставалась безымянным существом. К ней обращались «Элизабет» или «мисс Ричмонд», потому что так она представилась в первый день, и, возможно, упади она в ту дыру, ее бы хватились, только заметив, что рядом с табличкой «Мисс Элизабет Ричмонд, неизвестный даритель, стоимость не установлена» нет экспоната.
Она выбрала работу в музее не потому, что испытывала тягу к знаниям или надеялась однажды возглавить подобное учреждение, – просто она, как обычно плывя по течению, пришла в музей по совету тетиной подруги, и оказалось, что у них есть вакансия. Да и тетя весьма настойчиво предлагала попробовать свои силы: Элизабет нужно где-то работать, она ведь уже взрослая и может сама зарабатывать на жизнь. Тете казалось, что так у Элизабет, ничего из себя не представлявшей, будет хоть какая-то отличительная черта («моя племянница Элизабет, которая работает в музее»), но она предпочла не высказывать эту неприятную мысль. Итак, Элизабет, не строя никаких планов, отправилась в музей, и ее взяли, потому что для работы в канцелярии на третьем этаже не требовались яркие личности, а Элизабет, несмотря на недостатки, обладала разборчивым почерком, довольно быстро печатала на машинке и выполняла все, что бы ей ни поручили, если, конечно, понимала, что надо делать. Если Элизабет чем-то и гордилась, так это тем, как аккуратно она располагала вещи вокруг себя: все на своих местах и все на виду. Ее стол стоял ровно, и письма на нем были разложены словно по линейке. Каждое утро Элизабет садилась на один и тот же автобус, приходила на работу ровно во столько, во сколько ей велели приходить, вешала пальто и шляпку на положенное место. Она всегда носила темные платья с белыми воротничками – тетя считала, что так должны одеваться канцелярские служащие, – а когда наступало время идти домой, Элизабет шла домой.
Ни у кого в музее не возникло вопроса, не навредит ли Элизабет громадная дыра в кабинете, никто не сказал, задумчиво помахивая логарифмической линейкой: «Смотрите-ка, а ведь пролом будет у мисс Ричмонд почти под самым левым локтем. А вдруг мисс Ричмонд расстроится, не обнаружив одной стены?»
В понедельник незадолго до полудня Элизабет вытащила письмо из ящика стола и положила в сумочку, чтобы перечитать его за обедом. Письмо не давало ей покоя все утро: оно, что было очень приятно, предназначалось лично Элизабет и совсем не походило на привычные ей послания. Взяв в кафетерии сэндвич, она перечитала письмо, изучая бумагу, почерк, построение фраз. Больше всего, пожалуй, ее будоражило неотступное чувство, будто она знает отправителя. Это чувство нельзя было назвать беспокойством – Элизабет просто не могла представить, что кто-то подобрал слова, взял ручку и лист бумаги, написал письмо и положил его в конверт с ее адресом. Разве такое мог сделать незнакомый человек? Проведя пальцем по неровным буквам, Элизабет улыбнулась. Она твердо знала, как поступит с письмом: отнесет его домой и уберет в коробку на верхней полке шкафа вместе с другим письмом.
Хотя сотрудники музея сами проводили бóльшую часть времени, постукивая молотками, делая замеры и что-то починяя, все решили, что в рабочие часы каменщикам и плотникам в музее не место, поэтому, когда Элизабет в четыре пополудни, как обычно, выходила с работы, навстречу ей попались плотники. Никто в музее не обратил внимания, да и плотники почти не придали этому значения, но, проходя мимо них в коридоре, Элизабет с улыбкой произнесла: «Привет». Она вышла на улицу, щурясь на солнце из-за головной боли, села в свой автобус и ехала, глядя в окно, а потом, сойдя там же, где всегда, шла полквартала пешком до тетиного дома. Элизабет открыла дверь, посмотрела, нет ли на столике в прихожей записки, заглянула в гостиную и поднялась в свою комнату, где аккуратно повесила в шкаф пальто и шляпку, переобулась из туфель в домашние тапочки и, подставив к шкафу стул, вытащила с верхней полки красную картонную коробку, в которой когда-то, на двенадцатый день рождения, ей подарили конфеты. Элизабет осторожно положила коробку на кровать и, вернув на место стул, устроилась рядом. Прежде чем открыть коробку, она достала из сумочки письмо, еще раз прочла его и убрала в конверт с неряшливой надписью мисс элизабет ричмонд, музей оуэнстауна. Затем извлекла из коробки другое письмо, куда более ветхое. Его семь лет назад написала мать Элизабет.
«Робин, не пиши мне больше. Вчера застукала Бетси – она читала мои письма. Несносная девчонка, и до чего смышленая! Напишу по возможности и, надеюсь, до встречи в сб. Мне пора. Л.»
Элизабет нашла это письмо, так и не отправленное, в столе у матери вскоре после ее смерти. До сих пор она прятала его в шкафу, а сегодня, еще раз внимательно прочтя оба письма, положила их в коробку. Взяв стул, убрала коробку в шкаф, вернула стул на место и пошла в ванную. Элизабет мыла руки, когда снизу раздался тетин голос:
– Элизабет? Ты дома?
– Я здесь.
– Сделать тебе какао? На улице похолодало.
– Хорошо. Я сейчас приду.
Элизабет медленно спустилась по лестнице, поцеловала тетю – она всегда целовала ее, придя домой, – и проследовала на кухню.
– Ну что ж, – решительно начала тетя. Она тяжело опустилась в кресло и сложила ладони, мужественно делая вид, что не замечает отбивных и хлеба с маслом. – Приступим.
Элизабет торопливо села, приготовилась к молитве и равнодушно взглянула на тетю.
– Господи, благослови пищу рабам Твоим, – сказала тетя Морген, едва племянница сложила руки для молитвы, и, добавив «аминь», тут же потянулась за отбивной. – Хорошо провела день?
– Как обычно, – ответила Элизабет.
Еда при любых обстоятельствах оставалась для тети Морген делом чрезвычайной важности, и беседа за столом лишь немного умеряла ее аппетит. Нашлась бы от силы пара тем, способных отвлечь тетю Морген от тарелки, и Элизабет за все время так и не удалось затронуть ни одну из них. Ужин тетя приготовила исключительно по своему вкусу, впрочем, стоило отдать ей должное: отбивных, вареного картофеля, хлеба и пикулей племяннице предназначалось ровно столько, сколько ей самой. Разговор тоже делился поровну.
– А ты – хорошо провела день? – спросила Элизабет тетю Морген.
– Так себе. Дождь.
Хотя про таких, как тетя Морген, обычно говорят «мужеподобная», если бы она на самом деле была мужчиной, то являла бы собой весьма нелепое зрелище: среднего роста, с нескладной фигурой, безвольным подбородком и бегающими глазками. Но так уж вышло, что родилась она женщиной и с юных лет поневоле – о, злая, несправедливая судьба, наделившая красотой ее родную сестру, – вжилась в образ грубой, громогласной особы, про коих говорят «мужеподобная». Она держалась развязно, громко разговаривала, любила поесть, выпить и, как она сама заявляла, провести время в мужском обществе. К племяннице, во всем соблюдавшей умеренность, она относилась с покровительственным радушием, а среди немногих друзей слыла бесстрашной особой, так как предпочитала говорить правду, даже самую неприятную, а еще обладала обширными познаниями в бейсболе. Тетя Морген достигла возраста, в котором пресловутый образ уже не тяготил ее, как, скажем, в двадцать лет, и даже испытывала некоторое самодовольство, видя, что хорошенькие сверстницы превратились в угрюмых, невзрачных старух, краснеющих от ее слов. Она никогда не сожалела о том, что после смерти сестры взяла на себя заботу о серой мышке Элизабет, поскольку та была тихой и незаметной и не имела обыкновения перебивать тетю во время вечерней беседы, которая всегда имела место между ужином и отходом ко сну. По утрам, прежде чем племянница уходила на работу, тетя Морген справлялась о ее здоровье и время от времени советовала обуть галоши. Тихие часы перед ужином, когда тетя Морген готовила, потягивая шерри, а Элизабет, как сегодня, поднималась к себе, не предназначались для общения. Когда приходило время накрывать на стол и садиться ужинать, тете Морген было не до болтовни. А после еды она любила пропустить бокальчик – а порой и не один – бренди, и вот тогда, развалившись в кресле с чашкой кофе и сигаретой, пока Элизабет сидела над остывающим какао, тетя Морген выдавала все, что накопилось за день.
– Научилась бы ты пить кофе, – как обычно, сказала она. – Я бы дала тебе к нему немного бренди.
– Спасибо, я не люблю бренди. Меня от него мутит.
– Это потому, что ты мешаешь его с какао. – Тетя Морген поежилась. – Какао. Какао. Жалкая бурда, ей бы только котят да неумытых мальчишек поить. Разве Шекспир пил какао?
– Не знаю.
– А должна знать, ты ведь работаешь в музее. Это я просиживаю штаны дома и живу на свои кровные денежки. – Она улыбнулась и церемонно кивнула Элизабет. – Вернее, на денежки твоей матери. Мои они по чистой случайности, только благодаря образцовому терпению и блестящему уму. Только потому, – с наслаждением добавила тетя Морген, – что я ее пережила. Кстати, если бы я ее убила, – рассуждала она, размахивая сигаретой, – меня бы поймали. И я бы не получила деньги, потому что сидела бы за убийство. Ты не думай, я не раз прокручивала это в голове – точно поймали бы. В конце концов, не настолько я умна, детка.
Тетя Морген очень часто называла Элизабет деткой после ужина. И она так много говорила о ее матери, что Элизабет в какой-то момент перестала слушать, открыв в себе способность впадать в безмятежно-равнодушное состояние, как будто она щедро угостилась тетиным бренди. Тетя Морген все говорила, а Элизабет безучастно глядела на изменчивый свет, отражавшийся в столовом серебре и зеркале над буфетом, на тень, скользившую по столу, когда тетя поднимала бокал, и на бесконечную череду розовых арок на обоях.
– …сначала заметил меня, – рассказывала тетя Морген, – потом, разумеется, твою мать. Когда он познакомился с моей сестрой Элизабет, то, конечно, выбрал ее, я ничего не могла поделать. Но я тешу себя надеждой, Элизабет-младшая, тешу надеждой, что, увидев, какая я умная и сильная, он понял, что ошибся, выбрав красивую пустышку. Пустышку! – Тетя Морген повторяла это слово почти каждый вечер и все равно всякий раз смаковала его. – Под конец он стал приходить ко мне все чаще – спрашивал совета насчет денег, делился своими бедами. Я знала о других мужчинах, но он, само собой, выбор сделал, хотя тогда она вроде еще не была по уши в грязи. Ладно. – Откинувшись в кресле, тетя Морген из-под полуприкрытых век глядела на бутылку бренди. – Составишь посуду в раковину, детка? Тетя сегодня ляжет пораньше.
– Я ее помою. Миссис Мартин придет завтра убираться, а она не любит грязную посуду.
– Старая дура, – буркнула тетя Морген. – Ты хорошая девочка, Элизабет. Без дури в голове.
Элизабет отнесла тарелки в раковину и включила воду. По головной боли, не проходившей целый день, и подступавшей теперь невыносимой ломоте в спине – такой, что хотелось, как кошка, выгнуться всем телом или потереться о дверной косяк, – она поняла: ей грозит очередной приступ того, что тетя Морген называет мигренью, а сама Элизабет – «нехорошим состоянием». Она двигалась медленно и осторожно, старалась подольше делать какие-нибудь мелкие дела – в «нехорошем состоянии» главное не сидеть на месте. По воспоминаниям Элизабет, приступы начались у нее еще в детстве, однако тетя Морген считала, что до смерти матери девочка страдала только от перепадов настроения и мигрень племянницы – «своего рода реакция на то, что произошло». Так или иначе, в последнее время «нехорошее состояние» наступало все чаще, и, вспомнив, что совсем недавно она на четыре дня брала больничный, Элизабет подумала сквозь боль: если продолжать в том же духе, ее выгонят с работы.
К тому времени, когда она неторопливо вымыла и аккуратно убрала в шкаф посуду, отчистила сковороду, отдраила раковину и протерла стол, спина разболелась не на шутку. Не в силах терпеть, Элизабет заглянула в гостиную, где тетя Морген разгадывала кроссворд из вечерней газеты, и попросила таблетку аспирина.
– Опять мигрень? – Тетя подняла глаза от газеты. – Тебе следует показаться Гарольду Райану, детка.
– Она у меня всю жизнь. Доктор Райан тут бессилен.
– Я принесу тебе грелку для спины, – добродушно предложила тетя Морген, откладывая карандаш, – и одну из тех синих таблеточек. Ты мигом уснешь.
– Я хорошо сплю.
У Элизабет закружилась голова, и она схватилась за дверной косяк.
– Бедняжка. Тебе просто нужно поспать.
– Мне?
– Каждую ночь я слышу, как ты ворочаешься в кровати и что-то бормочешь. – Тетя Морген приобняла Элизабет. – Пойдем, старушка моя.
Тетя помогла ей раздеться. Боль в спине, возникавшая и исчезавшая внезапно, без предупреждения, сейчас была настолько сильной, что Элизабет едва могла пошевелиться.
– Бедняжка, – приговаривала тетя Морген, снимая с Элизабет одежду. – Сколько раз я раздевала твою мать, когда она была беременна тобой. Она стала до того неуклюжей, – тихонько засмеялась тетя, – положишь ее на бок, а перевернуться она уже не может. Вот так, теперь ночнушка. Она только в последние пару месяцев согласилась, чтобы кто-то – из женщин, имеется в виду, – ей помогал, и то подпускала меня одну. Она всегда была скрытной. А у тебя, надо сказать, не ее фигура – отцовская. Другую руку, детка. Она была красавицей, моя сестра Элизабет, но по уши в грязи. А теперь – грелка и чудесная сонная таблеточка.
– Но я уже почти сплю, тетя Морген.
– Не то будешь опять всю ночь ворочаться.
Ступая как можно тише, тетя Морген направилась к двери, но по дороге все-таки задела ночной столик. Наконец она погасила свет и ушла. Оставшись одна в темноте, Элизабет попыталась уснуть. Тетя неплотно прикрыла дверь – не потому, что беспокоилась о племяннице, которая могла позвать ее ночью, а просто по забывчивости, – и Элизабет слышала, как она плавно переместилась из гостиной в кухню и хлопнула дверью холодильника, гордо бормоча себе под нос, что она себя чувствует отменно и уже стольких пережила на этом свете.
Мерзкая старуха, подумала Элизабет и тотчас поразилась самой себе, – тетя Морген всегда была к ней очень добра.
– Мерзкая старуха. – Она поняла, что произнесла это вслух. А если тетя услышит? Элизабет хихикнула. – Мерзкая старуха. – На этот раз вышло и правда громко.
– Ты меня звала, детка?
– Нет, спасибо, тетя Морген.
Лежа тихонько в своей постели, чувствуя, как в темноте боль понемногу отступает, Элизабет почти беззвучно напевала мелодию. Некогда модные, а теперь позабытые мотивы, обрывки музыки из далекого прошлого, детские песенки – все смешалось в этой мелодии, и, напевая ее, Элизабет уснула. Она не слышала, как, все же решив проведать племянницу, тетя Морген подошла к двери и шепотом спросила:
– Все хорошо, детка?
Проспав всю ночь, тетя Морген обычно вставала в дурном расположении духа. Элизабет привыкла видеть ее такой по утрам. Она полежала минут десять, зная, что, уже не заснет, и, легонько пошевелившись, решила, что после сна спина болит гораздо меньше и вполне можно идти на работу. Головная боль все еще пульсировала где-то в затылке, и Элизабет сделала непроизвольное, но давно вошедшее в привычку движение – изо всех сил потерла шею сзади, словно хотела подавить нервные импульсы, заглушить боль. Это было одно из ее навязчивых движений, и голове оно не приносило ни малейшего облегчения. Спустившись вниз, как всегда, опрятно одетая, Элизабет прошла на кухню, где тетя Морген, все еще в халате, с мрачным видом пила кофе.
– Доброе утро, – сказала Элизабет и отправилась к холодильнику за молоком. Сев за стол напротив тети Морген, она повторила: – Доброе утро, тетя.
Ответа не последовало. Элизабет подняла глаза, – тетя смотрела злобно, туманный взгляд, какой обычно бывал у нее по утрам, куда-то исчез.
– Голова уже меньше болит, – робко сообщила Элизабет.
– Оно и видно. – Угрожающе постучав пальцем по чашке, тетя Морген опустила уголки рта и прищурила глаза, отчего лицо ее приобрело язвительное выражение. – Я рада, – сказала она низким голосом, – что тебе стало настолько лучше, – ты даже смогла встать с кровати.
– Я решила пойти на работу. Я…
– Я не о теперешнем твоем состоянии. Я о том, что было около часа ночи. – Дрожащей от ярости рукой тетя Морген зажгла сигарету. – Когда ты решила выйти погулять.
– Но я никуда не выходила, тетя Морген. Я всю ночь спала.
– Ты правда думаешь, я не знаю, что происходит в моем собственном доме? Ты, великовозрастное дитя, правда думаешь, что я куплюсь на твое притворство, буду жалеть тебя, приносить грелки с таблетками, укладывать в постель, заглядывать к тебе, буду сама доброта, а ты за все эти старания будешь надо мной насмехаться? Ты правда думаешь… – тетин голос сделался нестерпимо громким, – я не знаю, что ты вытворяешь?
Элизабет лишилась дара речи. Как в детстве, когда ее ругали, она потупила глаза в стакан с молоком, сцепила пальцы в замок и затихла, только губы ее дрожали.
– Что ты молчишь? – Тетя Морген откинулась в кресле. – А?
– Я не знаю, – пролепетала Элизабет.
– Чего не знаешь? – Тетя было смягчилась, но потом снова повысила голос: – Чего ты не знаешь, дуреха?
– Не знаю, о чем ты говоришь.
– О том, что творится в моем доме, о твоих выходках, о грязных, ужасных, отвратительных делишках – уж не знаю, чем ты там таким занимаешься посреди ночи, что даже родной тетке сказать не можешь и крадешься, как жалкий воришка, с туфлями в руках…
– Я этого не делала.
– Еще как делала. И не смей врать. – Тетя Морген встала, грозно навалившись на стол. – А теперь, прежде чем уйти, ты расскажешь, что ты от меня скрываешь. И чем быстрее, тем лучше.