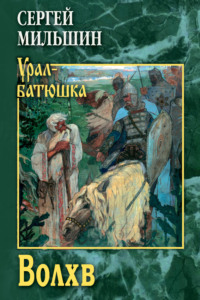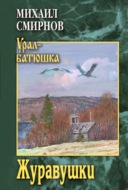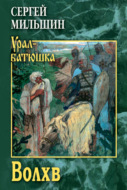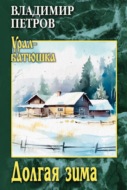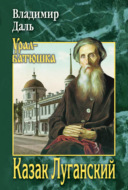Kitobni o'qish: «Волхв», sahifa 3
– Вот слушай, что мудрый человек говорит, да на ус мотай. Будут и тебя, тудымо-сюдымо, в новую веру тянуть, так не поддавайся.
– Не поддамся, – Горий твёрдо глянул на ведуна. – Лучше умру, но предков своих не предам.
Воинко вздохнул:
– Вот так и гибнет люд – внуки богов наших.
– Но многие поддаются же, – Горий потянулся за чашкой со сбитнем. – Христиане тоже ведь наши были когда-то.
– Были, – кивнул волхв, – и остаются нашими по образу и по обычаям, и по душе. Заплутали только, поддавшись горакскому краснобайству. Доверчивые, не поняли, что не наша эта вера, чужая, навязанная, чтобы сломить гордый дух русича. Настоящий Христос ведь никогда не говорил: «Рабы божии». Это, так сказать, его ученики придумали.
– И «Блаженны нищие духом» не говорил? – отхлебнув, Горий поставил чашку.
– Не говорил. Почти всё ему приписали. Он нашу, ведическую весть нёс, да переврали всё сыны Сима.
– Да… – Несмеян почесал в затылке, – тудымо-сюдымо, куда ни кинь – всюду клин.
– Это ещё не клин, – поправил его Воинко, – клин будет, когда последнее капище на нашей земле уничтожат, а этого, верю я, никогда не случится.
– Откуда знаешь? – Несмеян выпрямился, разминая затёкшие мышцы.
– Сон видел, – улыбнулся Воинко. – И ещё в нём сказывали, что спать пора. А то засиделись. Тебе, Несмеян, завтра домой отправляться после обеда, а ты не отдохнул даже.
Ведун кивнул в сторону другой комнаты, где гостей ждали две широких лежанки, заправленные охапками душистого сена.
– Помолимся, други, да ляжем. Завтра дела ждут многие.
Горий хотел спросить, что за дела ждут, но сил на вопрос не хватило. Широко зевнув, он встал рядом со стариками на вечернюю славу. Привычные слова «Славься Пращур-Род, Род Небесный…» мячиком отскакивали от сознания, и, проговорив бездумно за стариками молитву, он почти без сознания добрался до лежанки. И заснул, едва коснувшись пахнущего луговым разнотравьем сена.
Старики ещё долго укладывались, о чём-то тихо переговариваясь в темноте. Горий их уже не слышал.
Глава 3
Городской торжок мерно гудел, сновали туда-сюда лоточники с подносами, торгующие за гроши пирожками со стерлядью и яйцом, с печенью и капустой, петушками на палочках и кедровыми орехами в карман. Особенно громкие голоса доносились из соседнего ряда, где приезжие из литовского княжества напористо торговали лошадей. Высокий, долговязый Клёнка Смагин, привычно согнувшись над почти готовым сапогом под навесом небольшой будки – мастерской, которую поставил лет десять назад в самом дальнем углу торжка, доводил последние швы. Сапоги получались изящными и просто красивыми, во всяком случае, Клёнка видел их именно такими. Он сапожничал с детства, переняв мастерство от отца, а тот от деда, и работу свою любил, к каждому башмаку или сапогу подходил творчески, с выдумкой. Вот и здесь, несмотря на то, что заказ поступил от такого же, как и он сам, небогатого горожанина Кучи Мамина – коновала с соседней улицы, обувку он делал на совесть. По канту голенища раскинул узорную вязь из жилы, на боку вышил блямбу с силуэтом рожаницы Лады – знаком хоть и старой веры, и поп за него не похвалит, ежели увидит, конечно, но уж больно к душе русича лежащей. Подтянув последний стежок, Смагин перерезал толстую нитку из конского волоса.
Отложив инструмент, Клёнка поднял почти готовый сапог перед собой. Прищурился на яркое солнце, проглянувшее мимо голенища. Очередная обувка выходила что надо. Любой узнает его работу. Таких самобытных сапог ни здесь, в городе, ни в соседних сёлах, слободе, и даже дальних городках никто не делал. С мягким голенищем на тройной прошитой подошве, куда он для крепости и музыкального скрипа подкладывал кусочек бересты, носи – не сносится. Клёнка был Мастер, он знал это и уверенно держал уровень. Наверное, потому и заказов имел на полгода вперёд, да не только от своего брата – таких же, как сам: ремесленников, охотников, бортников, прислуги и наёмных работников у купцов, но даже от дружинников князя, которые платили литой серебряной монетой.
Оставался последний штрих. Привстав, достал с полочки напротив короткий сапожный нож с ручкой, обтянутой жилами, и косым лезвием. Установив сапог на подставочку у колен и, почти не примеряясь, – опыт сказывался – обрезал ободок по кругу каблука. Вот теперь всё. Ещё раз критически оглядел уже готовое изделие. Сложив два сапога вместе, кинул в плетёный короб. Поднялся, разминая затёкшую поясницу. Настороженно выглянул в приоткрытую дверь. И только сейчас заметил, что торжок затих, а большинство лавочек закрыто. «Не иначе опять на площади что-то деется», – сапожник поморщился.
Последнее время там постоянно что-то происходило. То собирали пойманных разъездами по дорогам староверов, устраивая показную порку, после которой русичей, не желающих менять веру, насильно крестили в огромной лохани. Известно, до порки доходили далеко не все. Особо упорствующих, а таких в лапах княжеских варягов оказывалось большинство, просто резали в подвале пыточной, а то и прямо на месте встречи, если в глазах несломленного родновера угадывали ярый ответ. Понимали, такого ничем не проймёшь. Легче прибить сразу. Так и делали. То главный поп из гораков Никифор с пузом и хитрыми бегающими глазками произносящий русские слова с южным византийским выговором, собирал всех мужчин города старше четырнадцати лет. Поднявшись на специально для него сколоченный из плах ящик со ступеньками, нудно тянул про Исуса и богоизбранный народ, страдающий за распятие Христа.
Клёнка не мог понять, зачем батюшка так-то распинается? Жалеть их, что ли, надо? Повидал он на своем веку жидов всяких – заезжали в город иногда – ничего такого, что могло бы его расположить к ним, Клёнка в облике высокомерных, чернявых, с тонкими косичками на висках и затхлым запахом давно не мытых тел, жидов не обнаруживал. К тому же они старались правдами, а больше неправдами заработать больше, чем полагалось по товару, продавая всё, что попадало им в руки: ножи из Златоуста, меха норки и соболя, неведомо где и на что выменянные, иголки с сучёными нитками и ещё много чего. Они охотно давали серебро в долг. Причём Клёнка только от них узнал эти странные условия, возвратить надо было больше, чем взял. И многие шли на добровольную кабалу, завлечённые необычно действенным краснобайством бывших хазарцев. Святослав, в свое время навёл там, на волжских рубежах, порядок – освободил родственных русичам аз-саков, половцев, берендеев от иудейской власти, изничтожив их наёмное войско, а больше рассеяв. Не шибко-то горячи оказались наёмники кровь за золото проливать. «Когда-нибудь и у нас появится свой Святослав, приняв в себя бессмертную душу великого воина, – размышлял Клёнка. – Тогда и здесь родится великая победа над ростовщиками и всеми, кто русичам вольно, как деды завещали, жить не даёт».
Но пока, к счастью для горожан, жидам запрещалось жить в крепости постоянно. Правда, они и здесь нашли выход. Наезжали в город на положенные два дня. Потом покидали его, устраиваясь где-нибудь неподалёку. Если лето, то прямо на телегах ночевали, зимой просились в трактир при дороге. Переждав двое суток, возвращались снова на разрешённые князем следующие два дня. Бывало, так месяцами жили, то выезжая, то возвращаясь.
Несмотря на то что толстые иголки в обувном деле ломались часто, и он периодически ощущал их нехватку, покупать у наглых торговцев Клёнка брезговал. Да и знал, что как ни строжись – оберут. Не зря про них говорили: «Жид обманом сыт».
Обычно он дожидался торгового каравана из Новгорода, который приходил раз в два-три месяца, и уже у своих, русичей, по честной цене приобретал всё, что надобно.
Клёнка был христианином во втором поколении. Его отец сапожник Богумир – заядлый книжник, прививший тягу к чтению и детям, в отличие от старшего сына невысок ростом и нелюдим, уже в зрелом возрасте попал под поголовное крещение в городской лохани, отведав перед тем батогов от князя. После того он, как было велено, нацепил на грудь крест, однако от старой веры, никому в том не признаваясь, так и не отрёкся. Да и как от неё отречься, когда в доме мирно уживались две его жены – две матери Клёнки. Попу он сказал, что одна из них сестра жены, просто прижилась у них, поскольку своей семьи не завела. Никифор, конечно, вряд ли поверил, но объяснение принял, так как знал, вторую жену русич из семьи даже под угрозой смерти не выгонит. А такое объяснение устраивало и официальную власть, и вновьобращённых жителей города. Самое интересное, что отец Клёнки честный во всем, вплоть до мелочей, как все русичи, не соврал ни на руну. Жёны его и правда были сёстрами, и одна из них, появившаяся в доме на два года позже, если следовать логике слов, действительно легко прижилась в семье.
Новая вера навязывалась тяжело и держалась некрепко, на мечах варягов – наёмников князя, и на кострах, уничтожавших целые селения. Это не нравилось ни самому князю, подданных-то меньше становилось, а значит, и ежегодной дани, ни новой церкви, представителей которой, в основном пришлых гораков, не мог не настораживать глухой ропот, поднимающийся после каждой акции устрашения, даже среди самых преданных христиан. К тому же праздники почти все остались прежние – как ни пыжились и не стращали попы, на Купала все городские высыпали на берег речки, и там крутились до утра хороводы, прыгали через костры пары, и, как водится, выбирались суженые. На Масленицу по-прежнему жгли чучело зимы-Мары и весело с зеленью наломанных веток берёз и клёнов, засыпая полы в избах и церквях, отмечали обновлённую троицу. По-старому – Рода-Сварога-Велеса, по-византийски – Отца, Сына и Святого духа, что по понятию большинства русичей было одно и то же.
Клёнка Смагин был женат уже на одной женщине – Марфе, родившей ему семерых детишек. Из них до отроческого возраста дожили четверо. В эти дни они гостили у деда с бабками, под старость от греха подальше перебравшихся в село Коломны, верстах в пятидесяти от города, к сродственникам.
Клёнка быстрым шагом миновал растянувшийся на добрые полверсты торжок, непривычно пустынный и тихий. Уже приближаясь к площади, услышал высокий голос Никифора, далеко разносящийся над притихшим народом. Клёнка ускорил шаг, и вскоре из-за крайних изб появились люди в кафтанах из простой пряжи, больше сотни. Сапожник тронул за плечо знакомого мужика из литовцев с широкой русой бородой:
– Чего тут опять?
Тот, не оглядываясь, с досадой молвил:
– Книги жечь будут.
Недоуменно вскинув брови, Клёнка Смагин прислушался к попу.
– Сатанинские знаки, – уверенно вещал Никифор, прикрывая глаза от яркого солнца ладонью, – насылают на нас мор и болезни. А на скот порчу. Только огнём можно уничтожить дьявольские письмена. – Повернувшись спиной к горожанам, он неловко полез по крутым ступеням.
«Сейчас грохнется», – услышал Клёнка чей-то насмешливый голос и, привстав на цыпочки, узнал вытянутый затылок коновала Кучи Мамина.
Смагин уверенно ввинтился в толпу. Хотелось увидеть, какие именно книги обрекли на сожжение. Благодаря отцу, он неплохо разбирался в рунице и глаголице, умел читать и светлые «образные» книги. Народ, узнавая уважаемого в городе сапожника и книжника, охотно сторонился, и мастер быстро пробрался в первый ряд. По краям книжной кучи топтались два дружинника, сам князь – серьёзный и задумчивый с короткой воинской бородкой зыркал серыми колючими глазами в отдалении на высоком стуле среди знатных горожан. Клёнка зацепил чью-то ногу, и, чуть не упав под усилившимся напором толпы, опустил голову. К сапогам сиротливыми щенками приткнулись две книги в толстой кожаной обложке. «Сказание о походе на Русь великого Александра», – прочитал он вполголоса, замечая, как кто-то по соседству, тихонько двигая ногой, подгребает одну из книг под себя. Смагин мельком глянул на дружинников. Они хмурились, недобро посматривая на приближающегося с факелом в руках Никифора. За ним, ссутулившись, да так, что лица не видно, шагал незнакомый чернец в глухом капюшоне. С противоположной стороны, гордо задрав подбородки, тревожно поглядывали по сторонам три помощника Никифора. Смагин знал их. Один, с волосами чуть ли не прозрачной светлости здоровый широкоплечий с тяжёлым взглядом из-под густых бровей, варяг Глеб. Рядом с ним, ниже его на голову, семенили, не поднимая глаз, братья Ярькины, местные. Сволочи! Они, похоже, и собирали книги по всем сундукам и схронам староверов.
Глеб хищно оскалился навстречу попу.
Пожилой крестьянин в лаптях и длинной крапивной рубахе, из распахнутого ворота которой выглядывал на шнурке крестик, громко и уверенно спросил:
– Ну, и чему ты, выродок, радуешься?
Взглядом выхватив из толпы мужика, Глеб повернул к нему обнажённый меч. И даже сделал шаг вперёд. И замер неуверенно – неизвестно, как поведут себя горожане, если пришлый варяг вытянет мечом плашмя по спине неучтивого смерда. Выставив оружие острием на мужика, Глеб зло прищурился:
– А тебе что, грязные книги поганых язычников жалко?
Мужик растерялся:
– Но так там же про нас, про предков, дедов наших писано, что так-то?
Смагин решился. Наклонившись, схватил две крайние книги, одну ту самую, со сказанием о походе Александра, название другой углядеть не успел. И, не распрямляясь, развернулся. Горожане молча раздвинулись, пропуская пригнувшуюся фигуру, и ряды вновь сомкнулись. Похоже, там, у кучи книг, ничего не заметили или сделали вид.
«Больше мне тут делать нечего», – потолкавшись, Смагин выбрался на свободное место. Раздумывая, куда податься, заметил, как ещё несколько человек отделились от толпы вслед за ним. Оглянувшись, в одном из поспешивших покинуть площадь узнал коновала:
– Что не остался смотреть?
Куча Мамин несколько потеряно кивнул товарищу:
– А что я тут не видел? Как они знания предков жгут… Я в этом участвовать не собираюсь, – он заметил оттопыривающуюся рубаху Смагина. По-новому взглянул на приятеля, пальцем с кривым ногтём почесал перегородку носа и… ничего не сказал.
Уже прошагав с десяток сажень в другую сторону по улице, Клёнка окликнул удаляющуюся фигуру коновала:
– Куча, сапоги готовы, можешь забрать.
– Заберу, – тот раздосадовано махнул рукой, мол, не сейчас.
Поудобней устроив книги под рубахой, Смагин ускорился. Позади сразу несколько голосов отчаянно охнуло, и ропот перекрыл треск рванувшего по бересте, деревянным табличкам и хорошо выделанной коже пламени.
Постепенно народ заполнял торговые ряды. «Гады, – услышал он обрывок разговора. – Это ж надо додуматься – книгам войну объявить!» «А что ты так за них переживаешь? – отозвался собеседник, – то же язычников книги, не наши». «Всё равно, как-то не по-божески это, не говорил Христос, что надо книги жечь».
Завернув за угол, Смагин оказался перед мастерской. Выдернув деревянный штырь, который запирал дверь больше от ветра, чем от незнакомцев, достал тяжёлые книги из-под рубахи. В лавке нерешительно огляделся: «Куда же их спрятать?» Только теперь он понял, что совершенно не представляет, как уберечь книги от чужого глаза. Свои тома он уже давно переправил в Коломны. Да и там старик не держит их на виду, укрыв на заимке. Сапожник понимал: оставлять книги здесь смертельно опасно. Не дай бог найдут, и самого порешат, и родных, если дома в тот момент окажутся. Варяги не сильно вникают, кто виноват, кто прав. Тянут всех под одну гребёнку. «Наверняка кто-то видел. Вот и коновал, похоже, о чём-то догадался. Парень он вроде ничего, но бережёного, как известно…» Решительно вытащив новые сапоги из короба, Клёнка аккуратно уложил на их место книги. Сверху кинул кусок грубой ткани. Подхватив короб под мышку, вышел из мастерской. Сосед Полкан – торговец сладостями – что-то мрачно бубня под нос, накидывал через голову перевязь лотка.
– Полкаша, присмотри за лавкой.
Полкан кивнул, нервно выравнивая толстыми пальцами ряд сладких петушков. Клёнка прислушался. Сосед еле слышно материл княжеских халуёв. Ему тоже не нравилась придумка попов – книги жечь.
– Там готовые сапоги лежат. Ежели Куча Мамин придёт, отдашь ему.
– Хорошо, а ты куда собрался, надолго? – Полкан не смотрел на соседа.
– Я? – Смагин на миг задумался. – Я в слободу, проведаю аз-саков, готовые сапоги отнесу, да заодно – они у меня ещё несколько пар хотят заказать – так мерки сниму.
– Добро, – кивнул Полкан, сплёвывая и не особо прислушиваясь к объяснению Клёнки. – Отдам, если спросит.
Отработанным движением поправив лямку, он повернулся, так и не взглянув на Смагина, к постепенно заполняющемуся торжку.
Всю дорогу из города Клёнка, почти не смотревший по сторонам, обдумывал, куда же деть книги. Полкану это он так, наугад ляпнул. А куда же на самом деле топать? Ехать к родителям опасно. Это же можно подставить родных людей, если по дороге споймают. И так попы косятся. Куда отправиться, он сообразил уже на самом выходе из городских ворот. Конечно, к Вавиле – кузнецу из слободы. Клёнка догадывался, что тот поддерживает тесные отношения со староверами, а крест, висящий на шее, служит ему больше для отвода подозрительных глаз, нежели для прямой надобности.
Выбравшись из-под тени высоких бревенчатых ворот, кивнул знакомому стражнику на посту. До слободы от города не больше пяти вёрст.
Глава 4
Укатанная тележная дорога, в этот час пустынная, пружинила под длинными ногами Смагина. Полупрозрачная пыль, завихряясь в крошечные буруны, поднималась за его подкованными сапогами. Задрав голову, Клёнка приложил козырёк ладони к бровям. На небе ни облачка. И так с самого утра. А после полудня солнце вообще словно сошло с ума – так пекло, что хоть бросай все дела и лезь охлаждаться в мелькающую за деревьями небольшую речушку Иню. Жаль, некогда, надо спрятать книги. Стерев со лба крупные капли пота, Смагин прибавил шагу. До спасительного леса, где в тени высоких сосен заманчиво разливалась прохлада, оставалось полверсты, когда впереди из-за деревьев показался княжеский разъезд – десяток дружинников в кольчужках, с мечами и топорами. За спиной у каждого выглядывала дужка лука.
Бежать было поздно. Заметив Смагина и о чём-то переговорив, они подхлестнули лошадей. Покрепче обхватив короб, Клёнка мысленно перекрестился: «Пронеси, мать-богородица, святая дева, – подумав, уточнил: – Ладушка, мать богов наших».
Дружинники уже подъезжали. Одёргивая коней, конные окружили щурявшегося на солнце Смагина. Дохнуло густым потом, конным и человеческим, крепкий запах нагретой кожи шибанул в ноздри. Он-то этот запах отличит от любого.
– Привет, Смагин, – его окликнул знакомый десятник – здоровый рубака с лихим русым усом. – Куда в такую жару собрался?
Сапожник заметил и ещё одного знакомца – добродушного крепыша с длинными волосами, подхваченными на лбу перевязью, ему Смагин делал сапоги в прошлом году. «Как же его зовут? – напряг память Клёнка. – Кажется, Никита». Тот, узнавая сапожника, приветливо кивнул. У Клёнки немного отлегло. «Может, и пронесёт. Главное, держать себя уверенно». Чуть улыбнувшись, Смагин приподнял короб:
– Вот, сапоги несу в слободу. Ваши ребята заказывали.
Десятник цепко взглядом словно взвесил короб:
– Никита, проверь.
Смагин обмер. В этот жаркий день ему вдруг перестало хватать воздуха. Бросило в пот, запылали щёки, и чтобы не показать дружинникам раскрасневшееся лицо, он наклонился над коробом, в этот момент жутко пожалев, что не захватил с собой готовые сапоги Кучи – было бы что показать. А так, похоже, всё. Приехал. Если его задержат и доставят в город, там быстро сообразят, откуда у него книги, и тогда или в холопы захомутают или голову под топор.
Медленным шагом подъехал гнедой Никиты. Конь невольно заслонил его от десятника, и Смагин чуть выдохнул. А ведь, кажись, могёт повезти. Ежели Никита смолчит». Дружинник не торопясь вытащил из-за пояса топор, и его длинная ручка приподняла кусок тряпки, прикрывавшей поклажу. Мгновение он рассматривал содержимое короба, затем опустил тряпку.
– Хорошие сапоги делает Клёнка. Кому-то ещё повезло, – громко сказал он, разворачивая коня.
Бойцы оживились, и Смагин понял, что эти мгновения для них тоже прошли в напряжении.
– Ну, паря, топай дальше, – десятник погладил коня по шее. – И больше нам не попадайся, – он хохотнул. – Шучу, не боись. Двигай, хлопцы. А то мы так домой до вечера не попадём.
Дружинники одновременно тронули лошадей, пыль взметнулась под копытами малыми облачками. Дождавшись, пока всадники удалятся на почтительное расстояние, Клёнка вздохнул всей грудью – пронесло. Оттирая капли пота со лба, повернул к лесу. Произошедшее надо было обдумать.
Почему Никита его не выдал, Смагин примерно догадывался – к книгам родноверов, несмотря на все поповские вопли о бесовщине, якобы упрятанной в них, большинство русичей относилось с уважением. И это уважение не смогли перебить ни князь с прихвостнями, ни горакские проповедники.
Книги стоили очень дорого, и тот, у кого они появлялись, будто бы поднимался в иерархии горожан на одну ступень. К владельцу книги заходили с гостинцами, чтобы вечерком послушать счастливца, обычно с удовольствием читавшего берестяные или кожаные страницы гостям. В книгах рассказывалось о былых временах, образами. А тех, кто такие встающие в воображении картины видел, считали любимцами богов. Смагин образы видел.
Клёнка, хоть и считался христианином, но принять все порядки, которые ему и его соседям по городу навязывали власти, не мог. «Взять, к примеру, вот эти книги, – рассуждал он, срывая травинку на лесной обочине и зажимая её зубами. – Ну, какая там может быть бесовщина? Испокон веку кто-то умел читать такие книги, а кто-то не умел.
Это как в сапожном деле, не все же могут себе сапоги точать. Что же из-за этого всю обувку перевести надо? Церковники не умеют видеть, вот и злятся, завидуют». – Выплюнув травинку, Клёнка оглянулся.
Толстые сосновые стволы поскрипывали, чуть покачиваясь на упругом ветру, где-то вдалеке перекликались кукушки. Комарики изредка присаживались на шею и голые руки Смагина, но как-то ненавязчиво, и он легко избавлялся от них, щёлкая кровопийцев ладошкой. Дорога после городской суеты и сидячей работы казалась лёгкой, и он сам не заметил, как впереди сквозь деревья проглянули крайние прясла слободских усадеб.
Слобода – небольшой пригород, где издавна селились ремесленники и аз-саки, которых всё чаще называли по-новому – казаки, и разные служивые люди. В своё время слобода первой встречала вражеские дозоры. Враги застревали в неожиданно горячей битве, а город, предупреждённый сигнальными кострами, успевал подготовиться к осаде.
Последние лет двадцать вороги в эти края не заглядывали, и слобода постепенно превратилась просто в небольшое село. Хотя караулы по-прежнему бдили на вышках, разведчики периодически выходили в ближние походы, постепенно превратившиеся в учебные. Давненько не слышали эти места у подножья великого Уральского камня звона скрещивающихся мечей и тугого спуска натянутой тетивы.
Усадьба Вавилы стояла на дальней окраине слободы. Пока Клёнка миновал широкие улочки, иногда здороваясь со знакомыми и незнакомыми слобожанами, навстречу ему раза три с гиканьем и свистом (куда родители смотрят?) пронеслись на полном скаку пяток мальчишек лет десяти на грозного вида скакунах, без сёдел. Клёнка незаметно качнул головой: «Ох уж эти казачата, хлебом не корми, дай поноситься сломя голову».
Вавилу Смагин увидел издалека. Невысокий, но необычайно широкий в кости. Лоб перетянут запотелым головотяжцем, обрамляющим густую белокурую шевелюру. Слегка прищуренные умные глаза, как обычно, серьёзны. В неизменном кожаном переднике, одетом на голую грудь, он отдыхал в тенёчке под рябинкой у кузни, раскрытую дверь слегка покачивал ветер. Из её горячей глубины доносилось шипение раскалённого металла, опускаемого в воду. Заметив Смагина с коробом, Вавила, улыбаясь, поднялся навстречу.
Смагин согнулся в полупоклоне.
– Клёнка, – обрадовался кузнец, раскрывая широкие объятья, – вот уж не ждал, какими судьбами занесло? Проходи в дом, сейчас Светозару кликну, пусть квасу принесёт.
– Благодарствую, Вавила, не откажусь.
Кузнец обернулся на кузню:
– Светозара, заканчивай там, гость к нам пожаловал.
Светозара, крепкая, под стать мужу, с двумя густыми длинными косами, прихваченными по бокам к поясу, появилась в проёме двери, отряхивая мокрые руки:
– А, Клёнка, рада видеть. Пожалуй в дом, – ответив на учтивый поклон, направилась по тропинке к дому.
– Вот, – рассказывал Вавила на коротком пути из кузни до крыльца – десяток саженей, – у меня вся семья в помощниках. Сына-пострела Светозара отпустила побегать с казачатами, а сама встала на его место мне помогать.
– Ну да, – оглянулась жена, – когда же ему ещё побегать как не сейчас, пока малец. Вырастет, уже и сам не захочет. А подержать пруты и я могу – невелика сложность.
Пропуская гостя, Вавила улыбнулся в усы.
Изба кузнеца – просторная и светлая – Клёнке понравилась давно, ещё когда они познакомились, лет пятнадцать назад. Вавила, молодой, но уже мастеровитый гой14, незадолго до этого прибыл из далекой задунайской Болгарии. О себе коротко рассказывал, что османы убили родителей и братьев, один он спасся. И так как больше его с тем краем ничего не связывало, кинув котомку за плечи, отправился на север к единоверцам. По дороге насмотрелся на гораков, огнём и мечом навязывавших новую веру. И потому искал места, куда попы ещё не добрались. Думал, здесь, в уральских предгорьях спокойно. Да только ошибся он – лет этак на пятьдесят. Именно тогда впервые гораки принесли сюда греческую веру.
«Ты, паря, оставайся у нас, – сказали тогда старики, выслушав его. – Гораки и у нас лютуют, но мы к ним приспособились – крест носим на шее, а в душе Род со Сварогом живут. Мастеровые люди нам нужны, так что не ищи лучшего, где хорошее есть. Дом всем миром сварганим, а работы у тебя будет немерено – рядом город, там и доспехи нужны, и подковы, и наконечники для стрел.
Так и прижился в слободе Вавила. Нацепил крест, чтобы дружинники княжеские в его сторону не косились, и стал себе кувалдой махать. Вскоре женился, а потом и сынок подоспел.
Оставив короб у порога, Клёнка перекрестился на красный угол с маленькой иконкой Матери-Богородицы на подставочке.
Хозяин усадил гостя в передний угол на лавку, сам опустился рядом. Светозара подала кувшин брусничного кваса, искрящаяся жидкость запенилась в плошках:
– Угощайся, Клёнка, квасок с ледника, самое то с дороги.
– Благодарствую, Света, достаток этому дому, – он опрокинул полную плошку и только поставил на стол, как хозяин налил опять:
– Пей, коли нравится. Пока мы тут с тобой погуторим, хозяйка нам сейчас обедать соорудит, – он оглянулся на улыбающуюся жену.
– Сейчас принесу. У нас как раз стерляжья уха к столу.
Проводив удалившуюся Светозару взглядом, Вавила повернулся к Смагину. Пододвинул к себе вторую кружку:
– Ну, что у вас там, в городе, нового?
Смагин с удовольствием глотнул ледяного кваску:
– Ничего хорошего. Сегодня попы книги жгли.
– Как жгли? – хрустнул кулаками Вавила. – Да кто ж им позволил?
– А кто им запретит, коли сам князь попов поддерживает? Собрали целую кучу – по всему городу несколько сроков собирали, и Никифор подпалил. Я вон только две, – он кивнул на короб у двери, – и успел от огня уберечь.
Тяжело поднявшись, Вавила достал из короба увесистые тома.
– «Сказание о походе Александра на Русь», – прочитав на обложке первой, поднёс к глазам вторую. – «Про Буса славного и великую землю его Русколань». Да-а-а, – он аккуратно положил книги на стол. – Как же у этих поганцев руки-то не отсохли, такое богатство да в костёр?
Клёнка поиграл желваками:
– Так они и у христиан поддержку растеряют. Нельзя у нас так. А князь не понимает. Ему что попы на уши нашепчут, то он и делать рад. Своего разума у человека, будто совсем нет.
– Что делать думаешь с книгами? В городе их оставлять нельзя. Раз уж они так за них взялись.
Клёнка кивнул:
– Я тоже так думаю. Потому тебе и принёс, ты уж посоветуй. Может, у себя оставишь?
Кузнец почесал подбородок:
– У меня нельзя, я на плохом счету у попов – в церковь не хожу. Могут и нагрянуть. Но куда деть я знаю. Есть у меня один знакомец, за хребтом у Горючего камня живёт, на бывшем Васильчиковом хуторе. К моему соседу шорнику Кузьме иногда ходит, первоклассную сыромять сдаёт. Так вот ему такие книги можно отдать смело – не пропадут.
– А почему на бывшем?
– Так сожгли его, ещё лет двадцать назад. Мне этот человек и рассказывал. Капище искали Белбога. Не слышал?
– Не слышал. Как-то мимо прошло. Я же всё с сапогами, иногда, что на соседней улице делается, не ведаю.
– Ну вот теперь ведаешь.
– Неужто из-за капища людей не пожалели?
– А кто людей жалеет, когда боги промеж собой разбираются?
Клёнка помрачнел.
– Негоже так. Люди-то причём?
– Это ты так думаешь, хоть и христианин, а другие считают, что староверов только огнём исправить можно, в смысле, сжечь. А капище они так и не отыскали тогда.
– Капище мне не жаль, а вот людей зачем порешили – не пойму.
– А потому и порешили, что веру отцов своих не предали.
Сапожник опёрся на скрипнувшие плахи стола:
– Не понимаю, что происходит. Мы же все внуки Даждьбожьи, чего поделить не можем? Христос учил, хорошим людям объединяться надо в борьбе со злом. А у нас все наоборот – русичи – почти родственники, а ненавидят друг друга, как чужие.
– Это хорошо, что ты это понимаешь, плохо, что высокие мужи наши до этой простой истины додуматься не могут.
Чуть покачивая крутыми бёдрами, вошла Светозара с чугунком ухи в руках. Вавила подтянул под закоптелое дно деревянную подставку. Замолчали. Клёнка потянул носом:
– Какой запах! У нас в городе уха так не пахнет.
Зардевшаяся Светозара зачерпнула полный половник:
– Скажешь, Клёнка, тоже. Уха – она везде уха.
– Неправда твоя. У вас на природе всё вкусней, чем в городе.
Женщина налила две полные глиняные тарелки. Вавила тем временем нарезал каравай, прижимая его к груди.
– А себе что не налила? – Вавила замер с занесённой ложкой. – Садись с нами.
Светозара стянула с плеча узорчатое полотенце:
– Нет, побегу. У меня там заготовки остывают – хочу глянуть, что получилось.
– Ну беги, раз такое дело, – кузнец усмехнулся, разворачиваясь к гостю. – Как дитё малое. Первые стрелы мне помогла сделать – вот и невтерпёж.
Махнув подолом, разукрашенным оберегами-коловратами, Светозара умчалась. Мужики глухо застучали деревянными ложками.
После обеда Клёнка собрался уходить. Вавила не удерживал гостя:
– За книги не переживай. Я как передам, тебе сообщу.
– Узнай у него. Могу ли я когда к нему зайти – почитать?