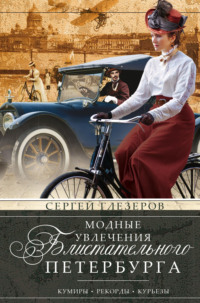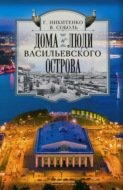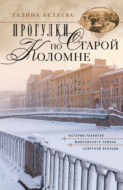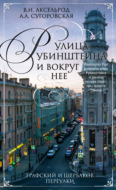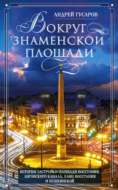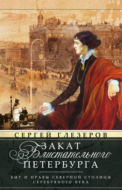Kitobni o'qish: «Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. Рекорды. Курьезы»
Серия «Всё о Санкт-Петербурге» выпускается с 2003 года

© Глезеров С.Е., 2022
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022
© «Центрполиграф», 2022
Вступление
Об эпохе «блистательного Санкт-Петербурга» написано столько, что, казалось бы, уже и добавить нечего. Мы очень много знаем про архитектурную, художественную, театральную, литературную, философскую, политическую, военную жизнь того времени, а вот спортивные и около-спортивные занятия, увлечения и развлечения петербуржцев сих пор незаслуженно оставались в тени, хотя они являлись неотъемлемой и яркой стороной жизни столицы начала XX в. Картина «блистательного Санкт-Петербурга» будет неполна без лихих велосипедистов и бесстрашных «шофферов», без катков на реках и каналах, велотреков, скетинг-ринков и кегельбанов в дачных пригородах, без футбольных матчей и конькобежных состязаний, без обожаемых публикой чемпионатов французской борьбы, скачек на ипподроме и «concourse hippique» в Михайловском манеже.
Вполне возможно, что исследователи отдельных видов спорта найдут в этом труде разночтения, касающиеся долей секунд, принесших тот или иной рекорд. Предвидя подобное «разглядывание под лупой», я постарался максимально освободить книгу от подобных деталей, хотя и достаточно важных, но в данном случае не столь существенных. Предвижу и еще один упрек дотошных историков спорта – они наверняка скажут: мол, тут не упомянут такой-то рекорд, а здесь не показана выдающаяся роль такого-то футболиста (гребца, пловца, конькобежца и т. п.). На такие упреки хотелось бы ответить заранее: эта книга ни в коей мере не претендует на фундаментальное описание истории спорта в Петербурге в начале XX в. Задача здесь была совсем иная. Во главу угла ставился вопрос: какую роль играли спортивные занятия и увлечения в досугах горожан в эпоху «блистательного Санкт-Петербурга»?
Сам термин «спорт» происходит от древнелатинского слова «диспортаре», что значит «развлекаться». В России термин «спорт» впервые упомянули в 1851 г. Тогда в газете «Северная пчела», издаваемой знаменитым литератором Фаддеем Булгариным, появилось утверждение, что под понятием «спорт» подразумеваются «все гимнастические упражнения или забавы. Сюда же принадлежит псовая охота, стрельба в цель, фехтование, верховая езда, охота, рыболовство, мореплавание».
В начале прошлого века под понятие «спорт» подводилась весьма широкая область занятий, поэтому по значению оно довольно близко подходило к современному значению «хобби». Спортом называлось любое страстное увлечение, в котором присутствовал элемент состязательности, а само слово «спортсмен» нередко являлось синонимом «любителю» и «охотнику».
Спортивные и околоспортивные занятия воспринимались в ту пору современниками очень неоднозначно. Одними спорт оценивался как «барская» забава, другими, наоборот, как занятия простолюдинов. Впрочем, можно сказать, что и те и другие по-своему были правы.
Действительно, многие игры и занятия являлись принадлежностью народного быта, а впоследствии трансформировались в современные виды спорта. Среди них – кулачный бой, прыжки, бег наперегонки, городки и т. д. Широкое распространение в народном быту имели также ходьба на лыжах, катание на санках, хождение под парусами, стрельба из лука, верховая езда. С другой стороны, в среде дворянства с петровских времен уделялось особое внимание парусному и гребному спорту. В быту дворянской знати широкой популярностью пользовались фехтование на эспадронах, саблях, рапирах, мечах и кинжалах; стрельба из ружей, лука и пистолетов; охота, верховая езда. Значительное место занимали игры с мячом, шахматы и шашки.
Однако все эти занятия не воспринимались как спорт – они служили средством развлечения, способом подготовки к военной службе, входили в систему воспитания. Распространение фехтования и стрельбы связывалось с дуэлями, служившими в дворянской среде средством защиты чести и достоинства.
В первой половине XIX в. перечень спортивных занятий, культивировавшихся в среде аристократии, постепенно расширялся. Появлялись различные фехтовальные, стрелковые, гимнастические и плавательные частные спортивные заведения – в большинстве своем их открывали предприимчивые иностранцы. Временем, когда спорт из дворянской «привилегии» стал превращаться в занятие средних слоев общества, стала пореформенная эпоха в России, то есть время, связанное с отменой крепостного права в 1861 г., либеральными реформами и развитием капитализма.
Спорт делился на любительский и профессиональный. Любителем тогда назывался спортсмен, занимавшийся спортом, не прекращая своей служебной деятельности и не получая за это никакого материального вознаграждения. Профессионалом же считался тот, для кого спорт служил основным источником существования. С этой точки зрения профессионалами-спортсменами были борцы и атлеты, выступавшие в цирках, велосипедисты – на треках, наездники – на ипподромах, а также авиаторы и мотогонщики, своими выступлениями рекламировавшие продукцию коммерсантов и фабрикантов.
В начале XX в., в эпоху «блистательного Санкт-Петербурга», наибольшее распространение из видов спорта получили гимнастика, футбол, лыжный и конькобежный спорт, борьба, легкая атлетика, гребной спорт, поднятие тяжестей. Первые шаги делали баскетбол, плавание, авто-, мото- и авиаспорт. В городах и губерниях страны стали проводиться многочисленные соревнования, а по некоторым видам спорта разыгрывались первенства России.

Картина К.А. Сомова «Зима. Каток» (1915) изобразила катания придворной аристократии на коньках в конце XVIII – начале XIX вв.
К концу первого десятилетия XX в. спортивная жизнь в Петербурге и его окрестностях достигла широкого развития. Как известно, одними из первых спортивных клубов в России явились С.-Петербургский Речной клуб, возникший в 1860 г., и Речной яхт-клуб в Москве, появившийся на семь лет позднее. А к началу Первой мировой войны в России насчитывалось более 1200 спортивных, охотничьих и рыболовных клубов и обществ. Спортивные клубы (их было около 800) объединяли около 50 тысяч спортсменов.
Кстати, существовала и еще одна любопытная сторона деятельности спортивных обществ. Как известно, Петербург всегда являлся городом многонациональным, и спортивные общества в старом Петербурге нередко складывались по национальному признаку. Питерские иностранцы нередко привносили в жизнь нашего города свои традиции, в том числе и спортивные. Так, именно с английского общества «Стрела», основанного в 1864 г., в Петербурге начинался гребной спорт, а благодаря чехам в нашем городе появилось сокольское движение. Участие в национальных кружках являлось не только делом спорта, но и служило доказательством своего национального самоутверждения.
Какие же факторы послужили толчком для спортивного взлета начала XX в.? Во-первых, спорт стал постепенно превращаться из занятия элитного в общедоступное. «Спорт уже перестал быть, как раньше, роскошью, доступной только богатому классу, – говорилось в 1909 г. в журнале «Спортивное слово». – Он начал проникать и в массу трудящихся: приказчиков, рабочих и даже крестьян». «Петербуржцы с каждым годом все больше и больше увлекаются спортом. Лет двадцать тому назад спортом у нас занимались только англичане и шотландцы, – замечал в начале XX в. обозреватель «Петербургской газеты». – Теперь все слои общества занимаются спортом».
Во-вторых, интерес к спорту подогревался всемирной известностью наших соотечественников-атлетов. А еще одним толчком стала, как ни странно, Русско-японская война 1904—1905 гг. Несмотря на пропагандировавшееся шапкозакидательство и тяжелое похмелье после бесславного конца войны, рассказы о японской выносливости, ловкости и энергии произвели большое впечатление на русскую общественность. Многие стали задумываться, что в России слишком много увлекаются философствованием и очень мало уделяют внимания собственному телу и физическому здоровью.
Особое значение в обществе для признания ценности спорта имел успешный дебют российских спортсменов на IV Олимпиаде в Лондоне в 1908 г. Стали раздаваться мнения, что победа спортсменов из России говорит о том, что спорт в нашей стране перестал восприниматься «забавой богатых людей», а может и должен стать делом национальной чести…
Однако вот парадокс: хотя спортивные занятия пользовались достаточной популярностью, непосредственно к спорту в среде «белых воротничков» зачастую относились свысока. Н.А. Панин-Коломенкин, вспоминая о своей работе в финансовом ведомстве, отмечал: «В этой бюрократической среде, не исключая и инспекторов, в которые за редким исключением попадали люди только с высшим образованием, господствовал весьма пренебрежительный взгляд на спорт и спортсменов, взгляд, граничивший с презрением. Мне долгое время приходилось переносить от сослуживцев иронические улыбки, намеки, а иногда и прямые насмешки».
В обществе то и дело обсуждался вопрос: какие же задачи вообще преследует спорт? «На подвижные игры в наше время смотрят почему-то как на детскую забаву, недостойную уравновешенного солидного человека „с положением”. Помилуйте, что скажет свет, если какой-нибудь Иван Иванович стянет с себя виц-мундир и, облачившись в короткие панталоны, станет гонять ногами мяч по полю?» – так писал в начале 1910-х гг. ныне совершенно забытый петербургский литератор Л. Гданский, автор множества книг, вышедших в ту пору в серии «Библиотека спорта».

Руководители гимнастического общества «Польский сокол» в «сокольских» костюмах. 1907 г. Фотограф Карл Булла
«Скоро ли, наконец, в России повсюду поймут, что спорт не баловство, а необходимость для жизни человека, как пища и сон?» – задавал риторический вопрос автор публикации в журнале «Спортивное слово».
Спорт есть не что иное, как элемент просвещения! – такую точку зрения можно встретить на страницах газеты «Эхо спорта и театра». Свой взгляд она обосновывала следующим образом: «Чем культурнее страна, чем просвещеннее ее граждане, тем более развиты в ней все виды спорта… Ныне, когда кончилась темная полоса нашей истории, вместе со светом просвещения мы видим все более и более растущий интерес к спорту. Вместе с чувством гражданственности пробудилась и заговорила горячая, спортивная славянская кровь. Мы надеемся и верим, что наши спортсмены займут то недосягаемое для других место, которое в области культуры уже занято Толстым, Мечниковым, Шаляпиным и Репиным».
«Увлечение спортом охватило все классы общества: и средние, и высшие, штатские круги и военные, – констатировал в 1914 г. на страницах «Петербургской газеты» известный в ту пору писатель Николай Брешко-Брешковский. – Наряду с действительным или кажущимся вырождением, в Петербурге выковывается новая порода молодежи, ведущей аскетический образ жизни и все свои силы отдающей не любовным утехам и вину, а спорту, в который уходит весь избыток энергии.
Давно ли минули те годы, когда наша столичная молодежь, штатская и гвардейская, не садилась за стол без стакана вина? И завтракать, и обедать без вина казалось непонятным и странным. На днях я положительно залюбовался одним молодым, здоровым и сильным, как центавр, кавалеристом, который на радушное приглашение хозяина выпить вина просто сказал: „Я не пью ничего спиртного. Это мешало бы мне заниматься спортом”. А меж тем этот симпатичный офицер – представитель одного из самых блестящих полков и выпускник одного из тех штатских привилегированных учебных заведений, где еще совсем недавно пить вино считалось молодечеством. И это не исключение. С каждым годом все больше и больше таких молодых людей. И нельзя от всей души не приветствовать новую породу сильных и крепких центавров, бросивших перчатку вырождению XX в.»
О растущей популярности спорта говорило и то, что сюжеты на тему здорового образа жизни все чаще попадали в «кадры» почтовых открыток. На них модные спортивные занятия сопутствовали здоровью, силе и благополучию – как душевному, так и материальному. «Ничто так не укрепляет нервы, ничто так не развивает мускулы, ничто не требует столько осмотрительности, смелости и решительности, вырабатывая в то же время гибкость и ловкость, ничто так благотворно не развивает силу воли, как бег на лыжах», – говорилось в журнале «Спортивная жизнь» в январе 1907 г.
В то же время нередко раздавались голоса, говорившие об обратном: мол, чрезмерное увлечение спортом вовсе не полезно, а очень даже вредно для здоровья. В печати даже развертывались дискуссии о пользе и вреде велосипедной езды. После того как в моду вошел хоккей, сразу же появилось немало его противников, заявлявших, что эта игра – бестолковая погоня за повреждениями и ушибами. Когда началось повальное увлечение футболом, заговорили и о его вреде.
Особенно поразила петербуржцев смерть гимназиста Саши Стрельникова в ноябре 1911 г. Он умер от воспаления легких, простудившись во время игры в футбол.
«Последнее время слишком часты стали жертвы спорта, чтобы можно было молчать», – негодовал обозреватель «Петербургского листка» в своей статье, так и озаглавленной – «Не увлекайтесь спортом!». «Сам по себе спорт – прекрасная и полезная вещь, – продолжал он, – но только при условии, если им пользоваться разумно, если не доходит до того предела, за которым идет игра не в футбол, а в жизнь и смерть. А этот предел преступается очень многими. Перешел его и Саша Стрельников. И в результате – смерть в расцвете сил».

Почтовая открытка начала XX в.
О вреде чрезмерного увлечения спортом много говорили в связи с сумасшествием знаменитого авиатора, кумира публики С.И. Уточкина. Напомним, случилось это летом 1913 г.

На старинных открытках очаровательные красотки кокетливо демонстрировали свои купальные платья
Мы уже отмечали, что многие виды спорта в начале прошлого века стали модными в светской и даже, порой, в великосветском обществе. К примеру, бешеной популярностью, особенно среди «золотой молодежи», пользовалось катание на роликовых коньках. На несколько лет скетинг-ринки стали одним из центров «веселого Петербурга». Однако, как известно, мода быстротечна. Ролики очень быстро надоели, и это увлечение сошло на нет.
Кроме того, мода, как известно, имеет свою оборотную сторону. Именно об этом писал в 1911 г. тот же А.И. Куприн, комментируя первый авиаперелет из Петербурга в Москву, сопровождавшийся многочисленными жертвами среди летчиков: «Авиация в моде, как в моде рядом с ней спиритизм, ханжество, фальшивое увлечение спортом, а главное спортивными костюмами… Это мода – и больше ничего. К этому громадному делу необходимо примазаться – это шик, это модно… А вдобавок еще так патриотично, что, по нашим временам, далеко не лишний козырь. Вот где, по-моему, надо искать причину спешки, небрежности, халатности и равнодушно проявленной жестокости…»
Спортивные игры, яркие, зрелищные и красочные, служили одним из любимых увеселений столичной публики, жадной до зрелищ. К примеру, летом в многочисленных петербургских увеселительных садах наблюдалось необыкновенное обилие «головоломных зрелищ». Всевозможные «воздушные гимнасты», гордо именовавшие себя «королями воздуха», и «неустрашимые акробаты» старались превзойти друг друга в исполнении рискованных трюков.

Карикатура из журнала «Родина». 1910 г.
Народный аттракцион «Силомер». Петербург, 1895 г.
Как магнитом, влекло петербуржцев на скачки. Правда, вовсе не потому, что горожане являлись поклонниками конного спорта – подавляющее большинство зрителей привлекала возможность игры на тотализаторе. Как тут не вспомнить и об ажиотажном интересе к чемпионатам французской борьбы. Александр Блок, склонный к катастрофическому восприятию действительности, воспринимал расцвет французской борьбы как предвестие гибели. В предисловии к поэме «Возмездие» он так говорил о месте борцовских поединков в событиях времени: «Зима 1911 г. была исполнена глубокого мужественного напряжения и трепета… Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках; тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней. Мир развивал свои физические, политические и военные мускулы…»
На страницах книги мы попытались представить широкую палитру спортивной и «околоспортивной» жизни Северной Пальмиры начала прошлого века. Ведь она имела свои обычаи и традиции, порой весьма отличные от сегодняшнего времени. К примеру, характерной чертой жизни столицы являлась «спортивная масленица». Из года в год весело и оживленно встречал Масленицу С.-Петербургский Речной яхт-клуб, собирая на этот праздник весь цвет столичного спортивного мира. Велосипедисты на Масленицу устраивали маскарады, фигурное катание и рыцарские турниры на велосипедах. Но самое, пожалуй, эффектное масленичное спортивное гуляние традиционно проводилось «С.-Петербургским обществом любителей бега на коньках» в Юсуповом саду. Чем дальше от центра к окраинам, тем народнее, проще были масленичные развлечения. Охта славилась кулачными боями, устраивавшимися на льду Невы.
Большими праздниками в конце апреля – начале мая спортивные общества и кружки Петербурга начинали по обыкновению летний сезон. Особо торжественно открытие сезона выглядело в яхт-клубах. Это была расписанная до мелочей торжественная церемония, на которую приезжали особо почетные гости.
География спортивного Петербурга начала XX в. мало напоминала сегодняшнюю. К числу самых спортивных мест северной столицы относились Марсово поле, Юсупов сад на Садовой улице, Семеновский ипподром, Михайловский манеж. Причем на этих «площадках» устраивались состязания в самых различных видах спорта.
Настоящим «островом спорта» называли в начале XX в. петербуржцы Крестовский остров. Еще на протяжении XIX столетия он служил местом народных гуляний и развлечений, многие из которых были спортивного характера: здесь можно было увидеть и канатоходцев, и акробатов; устраивались рыцарские игры. Одной из отправных точек спортивной летописи Крестовского острова можно считать 1863 г., когда здесь поселился Речной яхт-клуб. Кроме него, водный спорт перед революцией на Крестовском острове культивировали английское гребное общество «Стрела», Всероссийский союз гребных обществ, Петербургское гребное общество, а также столичный Парусный клуб под покровительством великого князя Александра Михайловича.
Какими только видами спорта не занимались на Крестовском острове! В начале XX в. столичные газеты пестрели объявлениями о всевозможных спортивных состязаниях на острове – футбольных матчах, гребных гонках, испытаниях по легкой атлетике и т. д. Кроме всего прочего, существовало на острове еще и Крестовское голубиное стрельбище, охота на котором носила исключительно аристократический характер.
В летнее время прекрасную картину представляло взморье Финского залива. «На невских рукавах насчитывается свыше двух тысяч гребных и парусных судов, – отмечалось в начале 1910-х гг. на страницах «Петербургской газеты». – По праздникам сотни яхт выходят в залив для состязаний».
А что же зимой? Несмотря на то что в давние времена в Петербурге были весьма суровые зимы, спортивные состязания проходили тогда главным образом на открытом воздухе. Замерзшие водные пространства служили ареной спортивных событий. На Неве проходили конные бега, на реках и каналах устраивали ледовые катки. Взморье Финского залива становилось местом катания на буерах.
С.-Петербургский кружок любителей спорта («Спорт») устраивал состязания на коньках, лыжах, а также игры в хоккей на своем катке у Крестовского острова. В Юсуповом саду, по традиции, общество любителей бега на коньках проводило хоккейные матчи, состязания по фигурному катанию, а также традиционную рождественскую елку и маскарад. Хозяином катка на Марсовом поле являлось Русское национальное общество любителей спорта. Симеоновский каток на Фонтанке являлся объектом неустанных забот С.-Петербургского кружка конькобежцев-любителей.
На Семеновском ипподроме проходили зимние рысистые бега, а Николаевскую улицу (ныне – ул. Марата), которая вела к ипподрому, петербуржцы называли «любимым местом спортсменов». Здесь находилось большинство самых известных столичных конюшен, обслуживавших бега. На скачки весь Петербург съезжался на Коломяжский ипподром – там с огромным успехом действовал тотализатор. В Михайловском манеже проходили конские состязания и устраивался велосипедный трек.
Футбол процветал главным образом в манеже Павловского военного училища, которое помещалось на Большой Спасской улице (ныне – ул. Красного Курсанта) на Петербургской стороне – в нем зимой составлялись сборные команды из всех клубов. Игры проходили только по воскресеньям. А гимназисты играли в полковых манежах, те из года в год, также по воскресеньям, предоставлялись к их услугам.
Местом спортивных зрелищ подчас становилась стрелка Елагина острова – легендарный «пуант», где собиралась изысканная столичная публика. Именно здесь нередко устраивались праздники «моторов» (чаще всего вместе со «стальными конями» – велосипедами). Правда, эти шоу носили скорее не спортивный, а увеселительный характер, являясь зрелищем для столичного бомонда.
Летом спортивная жизнь перемещалась в ближние и дальние дачные пригороды. Причем здесь в роли спортсменов выступали чаще всего петербургские дачники, а также «зимогоры» – петербуржцы, жившие на дачах круглый год. Отдыхая на дачах, горожане охотно занимались велосипедным спортом, катались на лодках и яхтах, ходили в туристские походы, занимались бегом и другими видами легкой атлетики, вступали в местные футбольные команды и т. д.
Едва ли не в любой дачной местности непременно возникал спортивный кружок. Как отмечал краевед С.А. Красногородцев, Павловск и Тярлево можно с полным правом считать местами зарождения массового легкоатлетического спорта в северной столице. С Павловском связаны и традиционные пробеги «Русский марафон», проводившиеся с 1912 по 1917 г. между Петербургом и Павловском на призы газеты «Вечернее время».
В Царском Селе процветал велосипедный спорт. Надо сказать, велоспорт развивался поначалу именно в пригородах, поскольку городские власти чинили всяческие препятствия для появления «стального коня» на улицах столицы. Царскосельский кружок велосипедистов организовался одним из первых, в 1888 г. В пригородах появлялись велодромы («циклодромы»). На них устраивались трековые гонки, а шоссейные, как правило, проходили на Волхонском, Московском или Выборгском шоссе. Что же касается автомобильного спорта, то здесь одной из главных спортивных трасс являлось Волхонское шоссе.
В Стрельне существовали парусный клуб и многочисленный кружок велосипедистов. В Дудергофе в 1913 г. открылся бобслей-клуб, положивший начало новому для России виду спорта – бобслею.
Особенно славились спортивными занятиями и состязаниями любимые петербуржцами дачные пригороды на севере столицы – Озерки и Шувалово: превосходные озера привлекали любителей водного спорта, гористый Шуваловский парк – велосипедистов, играли в нем также в крокет, итальянские кегли, лаун-теннис. Популярны были легкая атлетика, гимнастика, футбол, баскетбол и т. д. Спортивная жизнь в Озерках и Шувалове не замирала и зимой. С 1891 по 1911 г. в Шувалове снимал дом на зимний период первый в Петербурге кружок любителей лыжного спорта «Полярная звезда». На Нижнем Суздальском озере устраивались ледяные горы и каток, проводились лыжные соревнования, а прекрасные окрестности становились территорией лыжных прогулок.
Большой популярностью у любителей лыжного, а особенно горнолыжного, спорта пользовались Юкки, расположенные неподалеку от Шувалова и Озерков. Сюда в 1911 г. перебрался лыжный кружок «Полярная звезда», устроивший здесь первый в России трамплин для прыжков. В состязаниях участвовали российские, финские, шведские, датские и норвежские лыжники.
Не меньшей спортивной славой пользовались Коломяги. Они вообще относятся к числу тех мест, где история словно бы движется по спирали. Сегодня рядом с Коломягами, в Удельном парке, расположена тренировочная база «Зенита», а сами Коломяги с полным правом называют родиной знаменитого питерского футбольного клуба – ведь предтечей «Зенита» считается футбол-клуб «Коломяги», возникший здесь в начале XX в.
Еще одно спортивное место в северных окрестностях Петербурга – Мурино. Здесь появилось одно из первых, если не самое первое, поле для занятий гольфом. Его устроили англичане, отдыхавшие в Мурине и облюбовавшие эти места для занятия гольфом.
Впрочем, не только дачники занимались спортом в Петербургской губернии. В городах повсеместно возникали спортивные кружки и общества, объединявшие увлеченных новым делом местных обывателей. «Гатчина – место для спорта очень благоприятное, – писал в марте 1914 г. обозреватель газеты «Гатчина». – Великолепный парк с идеальными дорожками для бега и велосипедных гонок, горы и обширные озера для катания на коньках и лыжах, хорошие дороги за 30 верст в окружности – все это вместе взятое ставит Гатчину в ряды лучших мест для занятия спортом».
В Царском Селе активно действовало спортивное общество «Луч», довольно быстро завоевавшее хорошую репутацию среди местных обывателей и администрации. Кстати, 20 января 1913 г. именно здесь торжественно открылся, как сообщали организаторы сего действа, ни много ни мало – «первый русский стадион». Под стадионом они понимали место, где можно было бы заниматься всеми видами спорта. Толчком к открытию Царскосельского стадиона стали не самые удачные выступления российских спортсменов на V Олимпийских играх, проходивших в июле 1912 г. в Стокгольме.
Как известно, именно в этих Олимпийских играх впервые официально участвовала российская команда. Трезвые головы в России понимали, что нет смысла стенать по поводу униженного национального достоинства, а следует много и напряженно трудиться, чтобы добиться результатов. Царское Село в начале прошлого века служило одним из спортивных очагов близ Петербурга, поэтому не случайно, что стадион открылся именно тут.
Увы, петербургская хроника сохранила немало примеров и аферистов от спорта, пытавших «надуть» публику. К примеру, в мае 1912 г. редактор-издатель выходившей в Петербурге газеты «Вестник спорта» Н.Я. Петров, известный как предприимчивый антрепренер, устроитель популярных «чемпионатов французской борьбы» и велогонок в провинциальных городах России, объявил петербуржцам о проведении на Семеновском ипподроме доселе невиданного зрелища – грандиозного спортивного праздника с участием аэропланов и мотоциклеток. Горожанам обещали разнообразную программу с сенсационными номерами, в том числе «первое в истории» состязание аэроплана с автомобилем и первое в истории соревнование на скорость между аэропланом, мотоциклом, велосипедом и скаковой лошадью. Кроме того, заявлены были заезды велосипедистов и мотоциклистов и велосипедно-моторные гонки на призы от торгово-промышленного товарищества «Жорж Блок». Героем дня обещал стать знаменитый спортсмен Сергей Иванович Уточкин.
Публике обещали полеты аэропланов «Фарман и Блерио» с препятствиями, метание бомб с аэроплана, «эволюцию в воздухе» и точные спуски, а также полеты авиаторов с пассажирами. Каждого трехсотого посетителя и тех, на кого выпадет жребий, обещали прокатить на самолете бесплатно. «Сегодня весь спортивный Петербург соберется на Семеновский беговой ипподром», – сообщали 27 мая 1912 г., в день праздника, рекламные объявления на страницах питерских газет. Весь сбор от устраиваемого спортивного праздника на Семеновском ипподроме, как обещал Петров, должен был поступить в пользу Уточкина – на приобретение ему аэроплана «Ньюпор».
Публика, купившаяся на рекламу, в назначенный час до отказа заполнила трибуны Семеновского ипподрома. Однако, как стало вскоре выясняться, обещания Петрова оказались обманом. «Боже, какой это был балаган! – возмущался на следующий день репортер «Петербургского листка». – Казалось, все это происходит не в столице, а где-то в маленьком захолустном городишке». Жалкое впечатление производил потрепанный и невзрачный аэроплан Уточкина «Фарман». Обещанное «цветочное корсо велосипедистов» также представляло собой явный суррогат: его представлял один дамский велосипед с огромной шляпой в виде зонтика. Не показали зрителям и запланированного состязания Уточкина на скаковой лошади с мотоциклеткой. Устроители праздника ссылались на погоду, якобы она спутала все карты.
Однако публика терпеливо сносила все эти «издевательства», надеясь все-таки дождаться «гвоздя» программы – соревнования между аэропланом и наземными видами передвижения. Наконец, сигнал был дан. Рядом с самолетом разместились автомобиль, мотоциклетка и лошадь с седоком. Загудел мотор аэроплана, «стальная птица» побежала, быстро поднялась вверх, но тут же, едва не задев мачты, грузно села на траву. «Не могу летать, – заявил выбравшийся из аэроплана весьма сконфуженный Уточкин. – Аппарат тяжелый, да и повернуться негде». Без аэроплана обещанное состязание теряло смысл. Уточкин сделал еще одну попытку подняться в воздух, но снова неудачно. Этим праздник и ограничился.
Брать на борт пассажиров, как было заявлено в рекламе, Уточкин категорически отказался, заявив, что сегодня это очень опасно. Публика возмущенно загудела, а какая-то впечатлительная барышня, которая специально приехала в Петербург ради этого спортивного праздника, дававшего возможность побывать в воздухе с ее кумиром Уточкиным, и назавтра должна уже была возвращаться домой в провинцию, забилась в рыданиях. Публика готова была взорваться. Зрители стали догадываться, что они стали жертвой грандиозного надувательства. В толпе раздались свист и негодующие крики: «Это издевательство! Безобразие! Кто устроитель? Подать сюда Петрова! Он забрал все деньги и уехал!»
Наиболее активные представители публики требовали немедленно составить протокол и обещали не уходить с ипподрома, пока не будет оформлен документ и опечатана касса. Полиция пыталась успокоить людей, однако написание протокола ни к чему не привело: деньги зрителям не вернули. В следующие дни газеты довольно скупо отозвались о происходившем на Семеновском ипподроме: одни назвали разыгравшееся действо «позорищем», другие просто сделали вид, что ничего не произошло…
Спортивная жизнь – уникальная часть общественной жизни, как в капле воды отражавшая различные процессы и явления. К примеру, даже в спорте ярко проявлялась ориентация на иностранные модели: так, гимнастические системы пришли в Россию из Германии и Швеции, а «сокольство» – из Чехии. В исключительных исторических условиях спортивные события приобретают особый характер. И хотя в своей книге мы ограничиваемся только началом XX в., нельзя не привести яркий пример: знаменитый «блокадный» футбольный матч, сыгранный летом 1942 г. в осажденном Ленинграде, имел огромное моральное значение для горожан и для всей страны. Он стал символом стойкости ленинградцев, несгибаемости воли и духа, знаком неминуемой победы над врагом.