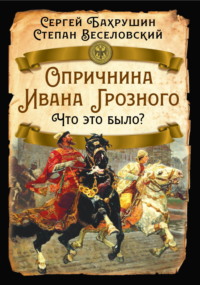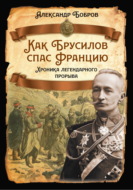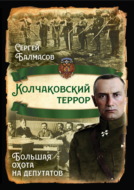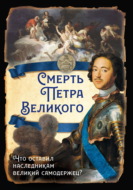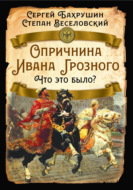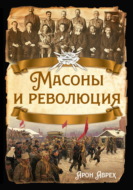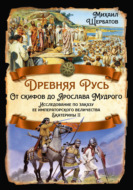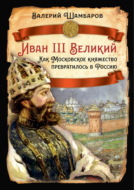Kitobni o'qish: «Опричнина Ивана Грозного. Что это было?»
Серия «Русская история»

© ООО «Издательство Родина», 2025
С.В. Бахрушин
Опричнина
Введение
Личность Ивана Грозного всегда привлекала внимание как ученых, так и художников. И тех и других увлекало сочетание в его натуре самых противоположных свойств, яркость и трагизм событий, которые связаны с его именем.
Больше всего поражала воображение жестокость Ивана IV: наиболее яркий представитель историографии первой четверти XIX века Н.М. Карамзин представлял Ивана Грозного «героем добродетели в юности», а в последующий период жизни – «неистовым кровопийцею», упивавшимся «кровью агнцев». В конечном итоге Карамзин признал его одним из тех «ужасающих метеоров… блудящих огней страстей необузданных», которые «озаряют для нас в пространстве веков бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся».
Точку зрения Карамзина защищал и развивал Н.И. Костомаров. Он не отрицал, что Иван IV «много сделал для утверждения самодержавия на Руси», но категорически заявлял, что для этого «не нужно было царю Ивану большого ума; достаточно было самодурства – цель достигалась лучше, чем могла быть достигнута умом». Он видел в Грозном «сумасбродного тирана».
В.О. Ключевский, один из самых талантливых представителей исторической науки, отказывался видеть в Иване IV «государственного дельца» и почти целиком отрицал положительное значение его царствования. «Вражде и произволу, – писал он, – царь жертвовал и собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше которого сидели его враги». Объяснение деятельности Ивана IV Ключевский искал тоже исключительно в его характере, в «одностороннем, себялюбивом и мнительном направлении мысли», в его «нервной возбужденности».
Образ Ивана Грозного воплощен и в произведениях русских писателей. Пушкин в «Борисе Годунове» несколькими штрихами изобразил двойственность в натуре Грозного: «свирепый внук» «разумного самодержца» Ивана III, своим жезлом подгребающий угли в костре, на котором жгут его врагов, выступает вместе с тем «с душой страдающей и бурной», мечтающим о монастырской жизни.
А.К. Толстой в драме «Смерть Ивана Грозного», как и Пушкин, показал двойственность в характере Ивана IV, переходящего от искреннего умиления к проявлениям чрезвычайной жестокости и от самоунижения к приливам ничем не сдерживаемой гордыни.

Иван Грозный. Реконструкция по черепу методом М.М. Герасимова
В изобразительном искусстве И.Е. Репин в своей знаменитой картине «Иван Грозный и сын его Иван» стремился показать сыноубийцу перед лицом совершенного им злодеяния.
Однако уже С.М. Соловьев, учитель В.О. Ключевского, отдавал себе отчет в том, что нельзя сводить к психологическому моменту сдвиг в жизни русского государства, происшедший в царствование Ивана Грозного. Основные моменты в истории России в описываемую эпоху наложили отпечаток и на характер, и на деятельность Ивана Грозного.
Назревание конфликта
В начале 1560-х годов в правящей среде России назревал серьезный конфликт между царем и его ближайшими сотрудниками, и между Избранной радой и широкими кругами дворянства. Этот конфликт был неизбежен. Адашев, один из ближайших сотрудников царя из Избранной рады, проводил политику при содействии представителей крупной феодальной знати, и поэтому в ряде вопросов он должен был идти на уступки боярству, которое нарушало интересы дворянства. Но главным поводом для недовольства дворянства являлось отношение Избранной рады к царской власти.
Дворяне хотели иметь на престоле сильного царя, способного удовлетворить нужду служилого класса в земле и в крепостном труде. Идею абсолютизма последовательно проводил в своих памфлетах Иван Пересветов. Но ярче всего идеологию царского «самодержавства» развил сам Иван IV в своей полемике с князем А.М. Курбским – идеологом феодальной знати. «Самодержавство, – писал он, – божиим изволением почин получило от великого князя Владимира, просветившего всю Русскую землю святым крещением, и великого царя Владимира Мономаха, иже от греков… дошло и до нас, смиренных скипетродержания Русского царства».
Два момента освящают «самодержавство» Ивана IV: во-первых, «божье изволение», во-вторых, законность его прав на престол. Он не избран «многомятежным человеческим хотением», как польский король, а «прирожденный государь», воцарившийся «божиим велением и родителей своих благословением»; «свое взяли мы, а не чужое похитили». Поэтому он является всевластным господином над своими подданными. Всякое неповиновение царю равносильно преступлению против бога, греху. Царь имеет неограниченное право жизни и смерти над подданными. «А пожаловать мы холопов своих вольны, – писал Иван, – а и казнить их вольны же». В области управления власть царя не ограничена. «А российские самодержцы, – говорит он, – изначала сами владели всем государством, а не бояре и вельможи».
«Если, – рассуждает Иван IV, – царю не будут повиноваться подвластные, то никогда не прекратятся междоусобные брани», а «кто может вести брань (войну) против врагов, если царство будет разрываться междоусобными бранями?»
Теорию самодержавия, преемственно переходящего со времени Владимира Киевского в роде русских государей, в литературе развивало духовенство, объединяемое митрополитом Макарием.
Необходимость укрепления центральной власти сознавалась и боярством. Но вместе с тем они добивались участия в управлении централизованным государством, выраставшим на развалинах феодальной раздробленности, хотели делить с царем его власть и могущество. «Царей и великих князей и прочих властителей», с их точки зрения, установил бог, но цари и великие князья должны «всякие дела делать милосердно со своими князьями и с боярами и с прочими мирянами», должны «с боярами и с ближними приятелями обо всем советоваться накрепко». А.М. Курбский писал: «Царю достойно быть главой и любить своих советников, как члены тела». В том и заключается отличие разумных существ от неразумных, что они руководятся «советом и рассуждением».
Курбский требовал от Ивана ответа: «Почто, о царь, сильных побил ты и воевод, от бога данных тебе, различным смертям предал ты?» «Уж не разумею, – писал он в другом послании, – чего ты от нас хочешь. Уж не токмо единоплеменных княжат, ведущих свой род от великого Владимира, поморил ты и движимое стяжание и недвижимое, чего еще не разграбили отец и дед твой, пограбил, но и последних сорочек, могу сказать с дерзновением… твоему прегордому и царскому величеству не возбранили мы».
Как последнее средство самозащиты от растущей царской власти бояре отстаивали право отъезда: когда князь Семен Лобанов-Ростовский подвергся опале за попытку отъехать в Литву, друзья Адашева окружили его всяческой заботой.
* * *
Однако среди боярства не было единства. Родственники царя были заинтересованы в том, чтобы освободить его от опеки фаворитов и их сторонников. «Шурья царевы» Захарьины пользовались родственной близостью к царю, чтобы настраивать его против Адашева и его друга и соратника протопопа Сильвестра, особенно после того, как у царицы Анастасии Романовны, сестры Захарьиных, родился наследник царевич Дмитрий. Сама царица интриговала против всесильных временщиков, которые со своей стороны не скупились на резкие выражения по ее адресу, «уподобляя ее всем нечестивым царицам».
Этот раскол в ближайшем окружении царя проявился особенно резко вскоре после взятия Казани, в январе 1553 г., когда Иван серьезно захворал, и остро встал вопрос о его преемнике.

Юный царь Иван и Сильвестр во время московского пожара.
Художник П.Ф. Плешанов
На скорую руку царь составил завещание в пользу своего новорожденного сына и потребовал, чтобы бояре присягнули ему. Ближние бояре и Адашев принесли присягу. Только князь Дмитрий Курлятев, приятель Адашева, сказался больным и от присяги уклонился. Оставалось неясным, какую позицию займет двоюродный брат царя удельный князь Владимир Андреевич Старицкий, возможный соперник малолетнего Дмитрия. До дворца доходили слухи, что он и его мать княгиня Евфросииья, женщина энергичная и честолюбивая, собирали своих дворян и раздавали им деньги. Некоторые из бояр, присягнувших Дмитрию, одновременно спешили договориться и с князем Владимиром и обещали ему поддержку в случае смерти царя.
Во дворце поднялась тревога. На следующий день стали приводить к присяге остальных бояр. Царь чувствовал себя очень плохо и не мог лично присутствовать при церемонии. Присяга приносилась в передней палате, рядом с той комнатой, где лежал больной, и проходила далеко не гладко. Между боярами шли перекоры и перебранки. Князь Иван Михайлович Шуйский отказался целовать крест (присягать) на том основании, что «государя тут нет».
Отец Адашева, окольничий Федор Григорьевич Адашев, откровенно высказал мысль многих присутствовавших: «Тебе, государю, и сыну твоему, царевичу князю Дмитрию, крест целуем, а Захарьиным нам не служить. Сын твой, государь, еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, а мы уже от бояр в дни твоего детства видели много бед!» И другие бояре говорили: «Ведь владеть нами будут Захарьины, лучше чем служить государю малому, станем служить взрослому, князю Владимиру».
Захарьины перепугались. Царь обратился к боярам, присягнувшим накануне его сыну: «Вы поклялись служить мне и сыну моему, а теперь вот бояре не хотят признавать сына моего государем; так если я помру, то помните свою присягу, не дайте боярам сына моего извести, бегите с ним в чужую землю. А вы, Захарьины, чего испугались? – обратился Иван к перепуганным своим родственникам, – или вы думаете бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецами будете! И вам бы за сына моего и за мать его умереть, а жены моей боярам на поругание не отдать!»
Окрик царя смутил бояр, и они нехотя пошли в переднюю избу целовать крест, но сделали это с неудовольствием и ворчаньем. После того как присягнули бояре, стали приводить к присяге и князя Владимира. Он долго отказывался, и его почти насильно принудили целовать крест.
Иван выздоровел, но события, сопровождавшие его болезнь, показали ему, что он не может рассчитывать на верность даже ближайших своих советников. Алексей Адашев держался очень осторожно во время «мятежа» и «шума» во дворце. Отец его открыто отказался от присяги.
Тем не менее положение Адашева, Сильвестра и их советников не пошатнулось, потому что в это время их поддерживали дворяне, ожидавшие от них улучшения своего положения. Дело изменилось в конце 50-х годов. К этому времени выяснилось, что реформы, проведенные Избранной радой, далеко не оправдали всех надежд, которые на них возлагались.
Неудачи в войне
Недовольство дворян подогревалось военными кампаниями. Дворяне были не удовлетворены результатами «Казанского взятия». Война на территории бывшего Казанского ханства все еще тянулась, население восставало, из-за Камы угрожали набегами ногайские татары, и в этих условиях дворянское землевладение в завоеванном крае развивалось крайне туго.
Война с Крымом также сулила очень мало выгод дворянству, она была сопряжена с большими трудностями и тяготами.
В то же время дворянство горячо поддержало план завоевания Ливонии, рассчитывая на приобретение там плодородных и хорошо возделанных земель с многочисленным крепостным населением.
Между тем Избранная рада, видя перспективу трудной войны с Польшей, Литвой и Швецией из-за Ливонии, требовала заключения мира и отстаивала свою программу войны с Крымом. На этой почве начались столкновения между боярами во главе с Адашевым и царем, который, чувствуя за собой поддержку дворянства, настойчиво проводил в жизнь свои предположения в отношении Ливонии.
Летом 1560 г. отношения настолько обострились, что Адашев вынужден был уйти в отставку. Он получил назначение в армию, действовавшую в Ливонии, и после взятия Феллина, по распоряжению царя, должен был остаться там в качестве воеводы.
Последовавшая в августе смерть царицы Анастасии Романовны, возглавлявшей партию, враждебную временщикам, послужила их врагам средством окончательно их погубить: они были обвинены в ее отравлении. Адашева только смерть спасла от преследования. Впрочем, обвинение это было только предлогом, чтобы развязаться с неугодными временщиками. Сам царь, по-видимому, не придавал веры этим наветам. Через некоторое время подверглись опале и карам и наиболее видные из их «советников».

Русские войска под Нарвой. Художник Б.В. Хориков
Одной из причин, ускоривших падение Избранной рады, были осложнения, создавшиеся на Ливонском фронте. Еще весной 1560 г. литовский воевода Радзивилл занял своими войсками несколько городов в Ливонии, а в 1561 г. намечался раздел Прибалтики между Швецией, Польско-Литовским государством и Данией. Таким образом, Москве предстояла борьба уже с тремя могущественными державами, за спиной которых стояла Священная Германско-Римская империя.
Германский император издал указ о блокаде Москвы, по которому воспрещалось плавание в Нарву.
Дальнейшее ведение войны встречало большие затруднения. Устранение и последовавшая затем смерть Адашева далеко еще не означали прекращения активной борьбы со стороны той части боярства, которая примыкала к нему. Этим объясняются опалы и казни, постигшие в 1563 г. родственников и «приятелей» Адашева.
Весной 1564 г. произошло событие, выходившее из ряда вон: один из самых видных полководцев, пользовавшийся большим доверием царя, князь А.М. Курбский вступил в переговоры с литовским командованием и, получив от короля Сигизмунда обещание больших земельных пожалований, отъехал в литовский стан с некоторыми преданными ему дворянами. Тогда же вскрылись «многие неисправления и неправды» князя Владимира Андреевича Старицкого. Таким образом, оказалось, что царь не мог положиться ни на кого из своих вассалов.
При таких обстоятельствах военные действия принимали все более неблагоприятный оборот. В январе 1564 г. русские потерпели тяжелое поражение от литовского войска близ Орши; предводитель князь П.И. Шуйский пал в бою. «Дела русских в настоящее время пришли в очень тяжелое состояние», – писали агенты датского короля.
К осени положение еще более осложнилось вмешательством в войну крымских татар, подкупленных литовско-польским правительством. Хан произвел неожиданный набег на рязанскую область; город Рязань едва был спасен усилиями местных дворян; Москва уже готовилась увидеть под своими стенами крымцев, и царская семья спешно выехала в Суздаль. Но встретив сопротивление около Рязани, татары ушли восвояси.
В такой обстановке и созрела, по-видимому, у царя мысль о необходимости какой-то радикальной реорганизации всего государственного строя.
Начало опричнины
Не доверяя боярам, Иван не чувствовал себя в безопасности в своей столице ни от внешних, ни от внутренних врагов. У него возник план перенести свою резиденцию в более верное место и окружить себя более надежными защитниками из среды мелких феодалов. Есть указание, что к этому решению царя побудила его родня по первому браку, Захарьины-Юрьевы, заинтересованные в безопасности его наследников, и брат его второй жены, кабардинской княжны Марии Темрюковны, князь Михаил. Именно последний мог указать царю и соответствующие примеры на Востоке. Кроме янычар, о которых писал Пересветов (черновой список его произведений хранился в казне Ивана IV), совсем недавно крымский хан Сахиб-Гирей завел себе особый отряд телохранителей.
Едва ли все детали плана были ясны самому царю, когда в воскресенье 3 декабря 1564 г. он неожиданно выехал со всей своей семьей из Москвы, везя с собой всю свою казну – «золотое и серебряное, и платье и деньги», и «святость» – дорогие иконы и кресты. Его сопровождал штат «ближних» бояр, дворян и приказных людей и отряд особо отобранных городовых (провинциальных) дворян; всем им было велено взять с собой семьи, коней, вооруженных слуг и весь «служебный наряд» (воинское снаряжение). Это было целое войско. Из-за беспутья и непогоды царь остановился на две недели в подгородном своем селе Коломенском, затем двинулся в укрепленный Троицкий монастырь, откуда перебрался в Александровскую слободу.
Александровская слобода, окруженная крепкими стенами, представляла собой сильную крепость, в которой царь мог чувствовать себя более или менее в безопасности. Отсюда он 3 января отправил в Москву грамоту к митрополиту и Освященному собору. В грамоте он обвинял духовенство, бояр, приказных людей во всех непорядках, которые чинились в государстве после смерти отца его Василия III, когда он сам был в «несовершенных летах»: бояре и приказные лица грабили казну и не заботились о казенных «прибытках», разобрали промеж себя государственные земли, людям многие убытки делали; бояре и воеводы, «держа за собой поместья, вотчины великие и кормления и собрав себе великие богатства, не радели о государстве и о всем православном христианстве» и не обороняли их от внешних врагов – от крымского хана, от литовского великого князя и от немцев, – но сами христианам чинили насилия и удалялись от службы, не желая стоять против врагов, за «православных христиан»; духовенство же, «сложась с боярами и с дворянами и с приказными людьми», во всем их покрывало и заступалось всякий раз, как царь хотел их за их вины наказать и смирить.
В итоге Иван IV объявлял своим неверным вассалам, что он «от великой жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпеть, оставил свое государство и поехал поселиться, где его бог наставит». К грамоте был приложен список боярских измен. В особой грамоте, адресованной к посадскому населению Москвы, «к гостям (высший разряд купечества) и ко всему православному христианству», которую было приказано прочесть публично перед «всеми людьми», царь Иван заверял московских посадских людей, чтобы они «никакого сомнения не держали, гнева на них и опалы никакой на них нет».

Царские палаты в Александровской слободе. Современный вид
Отъезд царя и грозные вести, пришедшие из слободы, как гром, поразили столицу. Всех жителей охватило «великое недоумение». В городе поднялось волнение. Гости и купцы открыто заявляли о своей готовности самим расправиться с изменниками-боярами, только бы царь «над ними милость показал, государства не оставлял и их на расхищение волкам (т. е. боярам и приказным людям) не отдавал, наипаче от рук сильных (вельмож) избавлял».
Приказные люди разбежались из приказов. Перепуганные бояре и духовенство в страхе обсуждали создавшееся положение с митрополитом. В Александровскую слободу двинулась депутация в лице новгородского архиепископа Пимена и пользовавшегося любовью царя архимандрита Чудовского монастыря Левкия; за ними поехали и другие духовные лица, вся Боярская дума, многие приказные люди, гости, купцы, простонародье.
Царь принял депутацию милостиво и выразил согласие остаться «на государстве» под условием, «что ему на своих изменников, которые измену ему делали и в чем ему были непослушны, на тех опалу класть, а иных казнить и имущество их имать (конфисковать), и учинить ему себе в государстве опричнину, двор ему учинить себе и весь обиход особный».
Из состава дворян в опричнину переводилась для начала тысяча человек. На содержание опричнины выделялся ряд городов и волостей, в которых предполагалось «испоместить» (обеспечить поместьем) взятых в опричнину дворян. Остальное государство – «воинство и суд и |управу и всякие дела земские» – царь оставил в ведении Боярской думы во главе с князьями И.Д. Бельским и И.Ф. Мстиславским (оба приходились ему родственниками), с тем чтобы они докладывали ему обо всех «великих делах». Расходы по переезду в слободу, в огромной сумме 100 тысяч рублей, царь возложил на земскую казну.
Все условия были приняты, конечно, беспрекословно. Уже в феврале подверглись казни несколько видных бояр, в том числе участник осады Казани князь А.Б. Горбатый-Шуйский с сыном; много дворян было сослано с семьями в Казань.
* * *
С устройством опричнины все государство было разделено на две части: земщину – государственную территорию – и опричнину – особо выделенное владение, лично принадлежавшее государю (от олова «опричь», т. е. особо). Царь выделил на содержание царской семьи и своего «особного двора» часть страны, доходы с которой шли в «опричную», «особную» казну.
В опричнину было взято Поморье с его богатыми торговыми городами и важным речным путем в Белое море, ряд городов и уездов в центре государства (Можайск, Вязьма, Ростов, Ярославль, Старая Русса и др.) и на юг от Москвы. Были выделены в опричнину некоторые улицы и слободы Москвы: весь район от Москвы-реки до Никитской улицы; слободы: Воронцовская, Ильинская, Под Сосенками и др. Позднее к опричнине были присоединены Старица, Кострома, Дмитров, Переяславль-Залесский, торговая сторона Новгорода.
В опричнину, таким образом, отошли области торгового и промышленного значения (поморские города, Ярославль, половина Новгорода Великого, Старая Русса) и целые уезды, в которых были расположены старинные княжеские владения (Ростов и Ярославль, вокруг которых лежали вотчины многочисленных ростовских и ярославских князей, владения удельных князей – дмитровских и старицких и т. д.).
Из опричнины были удалены крупные землевладельцы, и на место выведенных были помещены «опричные служилые люди», образовавшие особый корпус опричников. Их набирали преимущественно из малоземельных дворян, на верность которых царь мог положиться. В опричнине было устроено свое особое управление по образцу общегосударственного: своя дума, свои приказы, своя казна.
Остальная территория, земщина, управлялась по-прежнему старыми государственными учреждениями и Боярской думой. Утратив свое первоначальное значение, со случайным составом при государе, Боярская дума превращалась в орган текущей государственной работы, действовавший под строжайшим контролем царя, без утверждения которого ни одно мероприятие не могло быть осуществлено.
Опричнину часто называют «эпохой казней», периодом бессмысленного «сумасбродства». В.О. Ключевский считал, что опричная политика Грозного была лишена всякого политического смысла, была сплошным недоразумением. Она, по его словам, была «направлена не против порядка, а против лиц», и этим определялась ее «политическая бесцельность». Однако уже С.М. Соловьев верно угадывал, что опричнина – закономерное явление, вызванное ходом развития государства, понимаемого Соловьевым, конечно, совершенно идеалистически. С.Ф. Платонов в своих «Очерках по истории Смуты» на фактическом материале показал, что опричнина была средством ослабления землевладельческой и политической мощи бывших удельных князей.

Пыточная камера в Александровской слободе.
Современная реконструкция
В настоящее время мы смотрим на вопрос гораздо шире. Опричнина представляется нам как неизбежный этап в борьбе за абсолютизм.
Сам Иван Грозный отчетливо показал цель своей реформы. Им выдвигались, как мы видели, три мотива, побудившие его удалиться из Москвы: поведение бояр во время его малолетства, недостаточно добросовестное исполнение ими своих военных обязанностей и, наконец, необходимость разорвать негласную круговую поруку, которая связывала всю верхушку правящего класса и тем самым ослабляла эффективность мер, принимаемых верховной властью.
Вторая задача заключалась в укреплении обороны государства, страдавшего от отсутствия достаточной централизации в военном деле; вопрос этот стоял особенно остро в середине 60-х годов, в самый разгар Ливонской войны, требовавшей громадного напряжения всех сил страны.