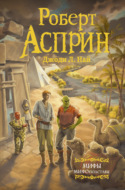Kitobni o'qish: «Повести Невериона»
Samuel R. Delany
Tales of Nevèrÿon
Neveryóna, or: The Tale of Signs and Cities
© Samuel R. Delany, 1979, 1983, 1988, 1993
© Перевод. Н. Виленская, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
* * *
Повести Невериона
Посвящается Джоанне Расс, Луизе Уайт и Айви Хэкер-Дилэни
Вернуться… Предисловие
Человечество все еще пребывает в доисторическом состоянии, ожидая подлинного сотворения мира. Мы находимся не в начале, а в конце нашего бытия – подлинное бытие начнется лишь тогда, когда общество и экзистенция станут радикальными, то есть отыщут свои корни. Корнем истории, однако, является человек – работающий, производящий, реформирующий, преодолевающий окружающие его данности. Если люди отыщут себя и принадлежащее им на основе подлинной демократии, без деперсонализации и отчуждения, в мир придет то, что освещает любое детство и где никто еще не бывал: дом.
Эрнст Блох1, Принцип надежды
Автор приглашает нас в далекую страну за рекой, протекающей неизвестно где. Где же все-таки? Одни полагают, что в Средиземноморье, другие – в Месопотамии. Логично, впрочем, предположить, что страна эта находится в Азии или Африке. А климат и география (город между горами и морем, где бывает дождь и туман, но нет снега) очень напоминают Пирей или Сан-Франциско, где до написания этой серии, если верить биографам, жил Дилэни.
Одно ясно: все это происходит в глубокой древности.
Насколько все же глубокой? Четыре тысячи лет назад, шесть тысяч, восемь?
Самое точное указание, напечатанное на бумажной обложке первого издания, отсылает нас к «пограничью истории». В этой древней стране царит полный хаос, из которого постепенно, страница за страницей, появляется то, что делает историю узнаваемой: деньги, архитектура, ткачество, письмо, столица… Присутствует здесь и магия – то в виде драконов, разводимых в Фальтских горах, то в виде огромного страшного чудища, полубога-полузверя.
Читатель может заинтересоваться, почему это предисловие пишу я, персонаж одной из будущих книг. Чувство действительно странное, но мне нравится. Издатель просил меня упомянуть о загадочном происхождении этих книг (вам, возможно, уже встречались заметки об археологических находках, которые легли в их основу). Я согласилась при условии, что мне позволят включить сюда пространное историческое отступление. Но кое-что в этой серии отклоняется от первоисточника в пользу вымысла. Как бы то ни было, объясняю еще раз – как для новых читателей, так и для старых, которые уже про меня забыли: представляйте меня как среднюю афроамериканку, работающую в большей частью белой среде среднезападного университета, в студентах так и не сумевшую выбрать между математикой и немецкой литературой. (Отношения между нашими факультетами математики и современной литературы слишком сложны, чтобы исправить это теперь.) Когда я получала свою первую степень, последним криком была теория категорий, от которой затем отпочковалась теория наименований, списков и перечисления; понимают ее человек семьдесят пять во всем мире, и только двадцать способны с ней как-то работать. Я решила утвердиться как раз на этих тихих высотах, а в летние каникулы путешествовала и читала тексты на самых древних и экстравагантных языках, какие только могла найти.
Где-то в середине семидесятых мне выпала задача приложить теорию наименований, списков и перечисления к переводу текста примерно из девятисот слов (количество зависит от языка), называемого Кулхарским фрагментом или Миссолонгским пергаментом. Этот отрывок дошел до нас в нескольких переводах на древние языки.
Поводом для моей работы стало открытие в запасниках Стамбульского археологического музея еще одной версии Кулхара, на языке древнее всех предыдущих. В примечании к тексту, написанному на самом раннем варианте греческого языка (линейное письмо Б), утверждается, что это первая письменность в истории человечества, а линейное письмо Б употреблялось примерно за полторы тысячи лет до н. э.
Но поскольку Кулхар существует лишь в частичных и противоречивых порой переводах, мы не знаем наверняка, каким письмом он был выполнен первоначально, и не можем быть уверены в его географическом происхождении.
Происхождение письменности столь же туманно и проблематично, как происхождение языков в целом. Некоторые из этих проблем в приложении к первой книге неверионской серии обсуждает мой друг, а порой и коллега, С. Л. Кермит.
Приложение это написано по моей просьбе. Дилэни, с которым я пока не встречалась лично, прислал мне на адрес университета дружеское письмо о том, как много для него значит моя работа. (До сих пор заметки о ней появлялись лишь в самых заумных журналах, но скоро они, благодарение богам, сольются в долгожданную книгу.) Он спрашивал также, не могу ли я или кто-то из моих знакомых написать о моих дешифровальных успехах в виде приложения к его сборнику. От его имени, что бы там ни говорил мой дорогой старый друг (хотя обстоятельства, надо признаться, были сложные, время поджимало, а погода стояла просто ужасная), я попросила профессора Кермита написать эту статью в своей доходчивой, ясной манере.
Все, кого интересуют детали, могут прочитать приложение к первой книге и перейти к приложению № 2.
Я работала с этим древним, неполным, отрывочным документом, читая о варварах, драконах, затонувших городах, знаках на тростниковой бумаге, воительницах с двойными мечами, об одноглазом мальчике и загадочных мячиках много месяцев, растянувшихся затем на несколько лет; и меня радует, что мои изыскания и комментарии привели Дилэни к созданию собственного Невериона.
В превосходном эссе профессора Кермита, входящем в эту книгу, много говорится о том, как Кулхарский документ помог Дилэни разработать сюжет его фэнтези. Однако распространяться об этом до того, как вы прочли саму книгу, значит предполагать, что между постмодернисткой литературой и текстами древнего Ура существует более тесная связь, чем на самом деле. Кулхар и неверионские повести связывает скорее воображение, чем научный анализ. Книги Дилэни, если на то пошло, представляют собой деконструкцию Кулхара, что означает «анализ возможных (в отличие от невозможных) значений, опровергающий все надежды когда-либо расшифровать данный текст». Этот термин очень полюбился мне, как и многим другим, за последние десять лет, но профессор Кермит его решительно отвергает.
Однако просьба издателя написать вступление ко всей серии книг Дилэни меня порадовала не меньше того факта, что внимание Дилэни к Кулхару привлек именно мой перевод. Сейчас и начну.
Рекомпиляция этого обширного фэнтези вернет к нему внимание многих тысяч читателей; некоторые, возможно, вспомнят даже первоначальную «Повесть о Горжике», опубликованную в «Сайенс фикшн мэгэзин» Айзека Азимова весной 1979. Повесть номинировалась на премию «Хьюго», а сборник первых пяти повестей в бумажной обложке, вышедший в том же году – на премию «Американская книга». В сборнике «Повесть о Горжике» стала, как мы видим, длиннее.
Мега-фэнтези Дилэни, взятое вместе – это завораживающая смесь идей, зеркальный зал, интригующие рассуждения о власти, сексуальности и самом литературном повествовании. «Повесть о старой Венн», вторая в сборнике, комментирует матч между утонченным интеллектом и примитивной страстью. В третьей, «Повесть о юном Сарге», проглядывает садомазохизм, как всегда занимательный, а девятая, «Повесть о чуме и карнавалах», рассказывает, можно сказать, о вспышке СПИДа в крупном американском городе.
Куда все это ведет, спросите вы?
Но в этом и заключается очарование неверионской серии.
Некоторые критики обнаружили в ней веяния столь разных трудов (и пародии на них же), как «Три очерка по теории сексуальности» Фрейда; «Законы формы» Спенсера Брауна; «Критика политической экономии» Маркса; «Открытое общество и его враги» Карла Поппера; «Платонова аптека» Деррида и, наконец, «Волшебник из страны Оз». Другие сочли ее громоздкой нелепицей; то, что Дилэни затратил десять лет на маргинальный проект в маргинальном жанре, представляется им маниакальным упрямством.
Но нам не нужно вникать во все оттенки аллюзий этой серии, чтобы насладиться историей бывшего рудничного раба в мире драконов, варваров, амазонок, доисторической роскоши, извращенных страстей и тогдашних мыслителей. Если бы мы в них вникали, Дилэни не завоевал бы аудиторию, насчитывающую уже сотни тысяч читателей благодаря трехтомнику в бумажной обложке. Да и не так много у нас столь изощренных читателей, чтобы их уловить.
Неверионскую сагу характеризируют по-разному. Сам Дилэни назвал ее «детским садом семиотики». Лично я слышала на факультетской вечеринке, как на чей-то вопрос, что это за произведение, ответили так: это ближе кDer Mann ohne Eigens-chaften, чем к Die Frau ohne Schatten2. Но любимое мое определение дала автор научной фантастики Элизабет Линн. На одной веранде в округе Уэстчестер кто-то спросил Лиззи насчет первого тома, только что вышедшего. (Не помню уже, знали ли они, что я слышу их разговор.) «Представь, – сказала она, – что отправился на выставку картин с интеллигентным, высокообразованным другом, прекрасно осведомленным на предмет экономики того времени, знающим биографии художников и их моделей, цитирующим отзывы критиков на каждое полотно; и ты, переходя с ним от картины к картине, желаешь лишь одного: чтобы он заткнулся!»
Ничего себе рекомендация для героического фэнтези!
Но поразмыслим немного. Этот благожелательный надоедливый голос, бубнящий свое перед каждой картиной – голос мастера, – всегда говорит нам о двух вещах. Одна из них правда: «История доступна для обсуждения. В ней можно разобраться и объяснить, почему случилось то или иное несчастье. А поскольку история человечества еще не закончена, можно оценить и изменить обстоятельства, приводящие к подобным несчастьям. Каждый человек вправе овладеть этим умением в течение своей жизни». Второе утверждение, неразрывно связанное с первым – ложь: «Историю уже много раз обсуждали, поэтому любая попытка узнать что-то еще в лучшем случае ошибочна, а в худшем крамольна. То, что у нас есть хоть какие-то инструменты исторического анализа, означает, что история в каком-то смысле завершена. Всё идет так, как должно, и ничего нельзя изменить. Наши муки и наши радости, как физические так и духовные, определены высшей властью, как бы она ни называлась – Богом или самой историей; поэтому ни один человек не вправе оспаривать то, что мучает его или доставляет удовольствие мне».
Голос, несущий эту двойную весть, имеет ценность только в диалектическом процессе – можно даже сказать, в диалоге. (Утверждения, допустимые в начале дискуссии, недопустимы в конце.) Но если ложь нельзя заглушить целиком – слишком тесно она связана с нашим опытом, языком и желаниями, – то автор может, по крайней мере, сделать акцент на правде и попытаться показать, где она, а где ложь.
Выход возможен всегда.
Марксисты традиционно заявляют, что когда Дефо говорит от лица проститутки Молль Флендерс, а Пол Т. Роджерс3 – от лица гея-проститутки Синдбада, голос автора, отстаивающего интересы своего класса, все равно слышен через речь персонажа; его классовое происхождение всегда можно определить путем литературного анализа, хотя рассказчик якобы пролетарий.
Но представьте себе затруднения нашего марксиста при чтении, например, монолога в восьмой части серии «Повесть о лицедеях» (а также его леденящего кровь постскриптума в 6-й главе девятой части «Повесть о чуме и карнавалах»), где автор говорит от лица актера, играющего мужчину-проститутку. Для начала читателю придется распутать все эти апроприации – а где-то за кулисами, почти полностью разделяя позицию читателя, стоит Мастер, нагнетая устами своего персонажа негодование, которое, как мы видим из постскриптума, приобретает, хотя и бессознательно, убийственные пропорции.
Кто же от чьего лица говорит? Что написано, а что сказано, и где среди всего этого искать правду?
Читателям, нуждающимся в подтверждении, что автор знает, о чем пишет, приятно будет узнать, что 6-я глава «Повести о чуме и карнавалах» перекликается с лекциями Поппера о Платоне (с оглядкой на Райла)4, но это не обязательно для понимания, что Дилэни – сторонник свободного политического диалога и противник политической закрытости. Эта позиция, иногда ясная, иногда зашифрованная, доступна и убежденным марксистам, и убежденным капиталистам, и тем, кто еще не определил свою сторону в этой всемирной дискуссии.
Дилэни дал своей серии общее название «Возвращение в Неверион», а поскольку в английском оригинале слово «Nevèrÿon» пишется таким образом, издатель опасается, что диакритические знаки оттолкнут самую загадочную из статистических категорий – массового читателя (не вас, конечно, и не меня); он будто бы читает только ради сюжета, глух к литературному стилю и приветствует порнографию и насилие, оставаясь при этом на удивление довольным личным и политическим статус кво.
Кстати о понятности. «Повесть о сплетне и желании», как сказал мне издатель во время совместного обеда, Дилэни написал, когда планировался двухтомник коротких неверионских новелл. Эта, последняя в двухтомнике, повесть задумывалась как переход от «Повести о драконах и мечтателях» к «Повести о тумане и граните» для тех, кто не одолеет полномасштабный роман «Невериона, или Повесть о знаках и городах», который, хотя и представляет собой шестую часть серии, слишком велик, чтобы втиснуть его в два этих томика – которые, к сожалению, так и не вышли в свет. События этой повести развертываются сразу после окончания «Неверионы»; если хотите, тогда же и прочтите ее, но уверяю вас, что никакого тематического смысла в этом не будет. Ее прерывистая игра только запутает вас при погружении в плотный туман третьей книги.
«Возвращение» Дилэни предназначется, конечно, не только для читателей, уже ознакомившихся с его фэнтези. Ссылаясь на немецкого философа Эрнста Блоха, чья цитата из «Принципа надежды» служит эпиграфом к моему предисловию, Дилэни в своем научно-фантастическом романе «Звезды как песчинки в моих карманах» (писавшегося параллельно с первыми неверионскими повестями) говорит следующее:
«Дом? Это место, куда нельзя прийти в первый раз: к тому времени, когда оно становится домом, вы там уже не раз побывали. Домой можно только вернуться».
В книгах, куда нас просит вернуться Дилэни, есть намек на «вечное возвращение» Ницше. По замыслу автора, в Неверион, как и домой, можно только вернуться – и Дилэни, в соответствии с этим, постоянно возвращается (пересматривая ее) к романтической позиции, связанной с названием романа Томаса Вулфа, на которое он с легкой насмешкой ссылается в приведенной выше цитате5. В своем эссе о «Приключениях Аликс» Джоанны Расс, говоря о соотношении фэнтези и научной фантастики в ее книгах, Дилэни пишет: «Жанр «меч и колдовство» относится к картинам будущего, называемым научной фантастикой, примерно так же, как простая арифметика к булевой алгебре… Еще точнее его можно представить как переход от бартерной экономики к денежной, в то время как научная фантастика – это переход от денежной экономики к кредитной».
Это подразумевает, что в любой фантастике место,куда возвращаются, исторически неразрывно связано с местом, откуда в него возвращаются.
Ностальгическое воссоздание далекого прошлого всегда производится из культурных материалов настоящего, отчего прошлое предстает как нечто загадочное, неизвестное и не поддающееся познанию. Подобные произведения, основанные будто бы на исторических трудах, являются в действительности антиисторическими – или, во всяком случае, продуктами нашей текущей истории.
Панорама прошлого, создаваемая Дилэни, имеет очень мало общего с какими-либо древними обществами, культурами или географическим местоположением. Автор не стремится исследовать то, что было когда-то. Нам остается сделать лишь маленький скачок – к чему побуждают нас предшествующие каждой части эпиграфы, – чтобы понять: на самом деле это современная концепция того, что могло бы быть. Протягивая руки к экзотике, мы на самом деле суем их в собственные карманы проверить, что там застряло в швах. В «Повести о чуме и карнавалах» Дилэни пишет для тех, кто еще не понял: «Неверионская серия от первой повести до последней – это документ нашего времени, составленный притом очень тщательно».
Кроме того, это увлекательная приключенческая фантастика, а все ее части вместо взятые образуют черную комедию о сексе и власти, что отнюдь не является портретом какого-либо воображаемого прошлого.
Поверьте мне, я-то знаю. Первоначальным, так сказать, исследованием занималась я.
Некоторые читатели Дилэни заново пересмотрят (в который раз) этот калейдоскоп идей и образов, интеллектуальной твердости и воображаемого величия, лунного тумана и гранита с вкраплениями слюды, бесед и споров. Другие столкнутся со всем этим впервые. Я определяю эти книги как фэнтези, а Дилэни, придерживаясь термина «меч и колдовство», введенного Фрицем Лейбером, называет их «паралитературой». При их перечитывании, однако, невольно вспоминается популярная цитата из австрийского писателя Германа Блоха: «Литература есть нетерпение, проявляемое знанием». Поэтому меня подмывает назвать их просто литературой – ведь они исследуют область, о которой история мало что знает, а нам не терпится знать. Если бы это писалось в 60-х, мы могли бы назвать неверионскую серию «спекулятивной фантастикой»: тогда этим термином обозначалась смесь экспериментальной и фантастической литературы. Но она, при всей своей исторической тематике, определенно принадлежит последней четверти двадцатого века.
Наше возвращение начинается (и заканчивается) вторжением в первоисточник современной культуры, включая представления современной культуры о прошлом. Будто бы заманивая в другой век и другую страну, оно показывает нам сквозь кривые (или, лучше сказать, формообразующие) линзы паралитературных условностей наш родной дом. Вместо погружения во что-то экстремальное мы в очередной раз приходим домой… еще один способ сказать, что простоприйти домой невозможно. Поэтому, прежде чем начать первую повесть, помните, что мы прекрасно знаем материал, из которого она сделана.
Это наше родное, наше сиротское.
Дешифровальная работа вроде моей (возвращаясь к началу) не гарантирует точности. Та часть манускрипта, что вдохновила Дилэни, переводилась больше десяти лет назад. Успехи в области работы с самыми стойкими – возможно, вечными – памятниками человечества представляются нам самим весьма эфемерными и всеобщее внимание привлекают не часто. Даже маленький триумф вряд ли прославит ученого – но я надеюсь, что даже те читатели, которые «возвращаются» сюда впервые, вспомнят Кулхарскую рукопись.
Я счастлива представить вам чудо, зародившееся из моего скромного труда.
Итак, вернемся в Неверион…
К. Лесли Штейнер6
Энн-Арбор, лето 1986
Повести Невериона
И если предположение об ответственности за собственные высказывания приводит нас к заключению, что все заключения по определению условны и поэтому неконклюзивны, что все оригиналы одинаково неоригинальны, что сама ответственность может сосуществовать с легкомыслием – это еще не повод для мрачных мыслей… Деррида, таким образом, просит нас изменить некоторые стандарты мышления: источники не всегда авторитетны; первоисточник – это след, противоречащий логике; мы должны научиться пользоваться языком, одновременно его вычеркивая… Мы всегда связаны перспективами, но можно хотя бы как можно чаще обращать эти перспективы в обратную сторону, показывая, что оппоненты – на самом деле сообщники… принцип единства противоположностей есть инструмент и следствие уравнивания, а растворение противоположностей – жест философа, направленный против жажды власти и потрясающий самые основы ее.
Гаятри Чакраворти Спивак7. Предисловие переводчика к кн. Жака Деррида «О грамматологии»
Повесть о Горжике
Поскольку нам приходится иметь дело с неизвестным, чья природа по определению спекулятивна и лежит вне текущей цепочки знания, любое наше действие по отношению к нему будет не более чем вероятностью и не менее чем ошибкой. Сознавать, что в рассуждениях возможна ошибка, и несмотря на это продолжать рассуждения – это столь важное явление в истории современного рационализма, что его значение, как мне думается, нельзя переоценить… Тем не менее, вопрос, как и когда мы убеждаемся в том, что действуем, вполне возможно, неправильно, но говорим, что это, по крайней мере, начало, следует изучить во всей его исторической и интеллектуальной полноте.
Эдвард Вади Саид8. Начала: идея и метод
1
Мать утверждала, что происходит из великого рода рыбачек с Ульвенских островов. Глаза у нее правда были как у них, но волосы не такие. Отец-моряк повредил бедро в плавании и с тех пор работал в порту Колхари кладовщиком у богатого купца. Горжик рос в самом большом портовом городе Невериона, поэтому его детство было значительно более бурным, чем хотели его родители, и причиняло им немало тревог – хотя повезло ему куда больше, чем кое-кому из друзей: его не убили в случайной стычке и даже не арестовали ни разу.
Детство в Колхари… Солдаты и матросы со всего Невериона слоняются по Старой Мостовой, купцы с женами фланируют по Черному проспекту, названному так из-за покрытия, в жаркие дни липнущего к сандалиям; путешественники и торговцы беседуют у портовых гостиниц – «Отстойника», «Кракена», «Притона»; рабы и рабыни снуют повсюду. Те, что принадлежат аристократам, одеты получше иных купцов, но есть до того грязные и оборванные, что мужчин от женщин не отличишь. Железные ошейники, однако, носят все поголовно: поверх новых или обтрепанных воротников, поверх голых плеч, на тощих или мясистых шеях; порой их даже прикрывают оборки из тонкого дамаска, расшитые бериллами и турмалинами. Горжика часто посещало воспоминание: из комнаты, где монеты, столбиками и россыпью, лежат на листах исписанного пергамента, он заходит на склад к отцу и вместо тюков шкур или конопли видит десятка два людей, сидящих, поджав ноги, на грязном полу; кто-то прислонился к глинобитной стене, трое спят в углу, один справляет малую нужду над канавой посередке. Угрюмые, безмолвные, голые, не считая железного обруча на шее. На него они даже не смотрят. Когда он приходит на склад час, два или три спустя, там уже пусто, а на полу лежат двадцать раскрытых ошейников, и от каждого тянется цепь к вделанному в стену кольцу. В прохладном воздухе висит смрад, в соседней комнате позвякивают монеты. Сколько ему могло быть лет – пять, шесть, семь? На улице за складами женщины делали украшения, мужчины плели корзины, мальчишки за пару медяков продавали печеный картофель – зимой холодный и хрусткий снаружи, чуть теплый внутри, летом горячий с сырой сердцевиной; матери звали дочерей из окон, занавешенных пальмовыми циновками: «Сейчас же иди домой, тут работы полно!»
Весной с юга приходили красные корабли, о которых говорить запрещалось. Они привозили черные мячики. (Запретные темы обсуждались куда как подробно в темных переулках, в кабаках, за колодцами – о них, не гнушаясь сквернословия, толковали и мужчины, и женщины. Бывает, однако, и такое, что ни в высокие, ни в низкие слова не укладывается. Простые умы ужасаются подобным вещам, более изощренные делают вид, что этого вовсе не существует. Корабли, обеспечивая пищу и тем и другим, продавали свой груз, и говорить о них запрещалось.) Мячик, упругий и твердый, легко помещался в мужском кулаке; при надрезе в нем обнаруживался пузырек величиной с ноготь. Гонишь такой по улице, отбивая рукой, к ближайшему колодцу и говоришь стишок:
Пошли с Бабарой мы опять,
Чтоб Яму южную занять,
Но не случилось – кабы знать!
Враги нас обратили вспять,
И полегла вся наша рать,
А полководцу наплевать…
Повторяешь и импровизируешь на ходу, а под конец говоришь:
И охнул орел, и заплакал змей,
Как пророчица и сказала!
И впечатываешь мячик в колодец с солевыми подтеками. Он взлетает высоко. Мальчишки и девчонки подскакивают, щурясь на ярком солнце. Кто поймает, гонит мяч к следующему колодцу.
Иногда говорилось «как безумная ведьма» или «безумная Олин сказала», хотя никто не знал толком, что это значит. Сторонников «безумной ведьмы» дразнили: ясно же, что такая о плохом не станет предупреждать. Некоторые мячики падали в колодцы, некоторые просто терялись, как теряются все игрушки. К осени они все пропадали. Горжик грустил из-за этого: он долго тренировался на заброшенном колодце за зерновым складом и научился запускать мячик выше всех своих сверстников – только старшие ребята бросали выше. Но стих застревал в памяти и всплывал, через все более долгие промежутки, перед сном в зимние вечера или на берегу Большой Кхоры следующим летом.
Улицы Колхари, где звучала ругань на десяти языках… На Шпоре Горжик узнал, что «вольдрег» означает «обгаженная срамная часть верблюдицы»; этот эпитет часто слышался в гортанной речи северян в темных хламидах, но, если сказать им «ини», что значит «белый цветок», можно нарваться на оплеуху. В Чаячьем переулке, где жили большей частью шепелявые южане, женщины, таская обмазанные глиной корзины с водой, говорили «ниву то, ниву сё» и посмеивались – но когда он спросил девчонку-южанку Мьесе, носившую в «Кракен» рыбу и овощи, что это значит, она прыснула и сказала, что мужчинам этого лучше не знать.
– Это про то, что с женщинами каждый месяц бывает? – спросил он со всей осведомленностью городского четырнадцатилетнего парня.
– Ну, это вам как раз знать полезно. – Мьесе, придерживая корзину на бедре, отвела плечом кожаную занавеску, служившую «Кракену» задней дверью днем, когда убирали доски. – Нет, женские крови тут ни при чем. Взбредет же такое в голову – да что с вас взять, с городских.
Так он и не узнал, что это за ниву такое.
Нижний конец Новой Мостовой (называемой так от десяти до десяти тысяч лет) упирался в гавань. В верхнем, где улица пересекала мост Утраченных Желаний, прохаживались, пили и торговались шлюхи мужского и женского пола – кто родом из дальних стран, кто из самого Колхари; в большинстве своем смуглые от рождения или загоревшие дочерна, как все порядочные горожане (в том числе Горжик), но попадались и бледные, желтоволосые, сероглазые, шепелявые варвары (вроде Мьесе).
Кажется, в этом году их стало больше, чем в прошлом?
Одни стоят на солнце почти что голые, на других нарядные юбки, пояса, ожерелья; у большинства женщин и половины мужчин глаза обведены черным. Одни сонные и едва шевелятся, другие улыбаются и задевают прохожих – то засмеются, то вдруг обозлятся, и тогда по мосту порхают свеженькие ругательства, объединяющие женский срам, мужское семя и кухонную утварь. Но истории у всех, если с ними заговорить, на удивление схожие, как будто одна и та же жизнь, полная бедности, обид и страданий, передается от одного к другому – на время, только чтобы про нее рассказать; разными бывают только названия их городков, имена родичей-обидчиков да провинности, из-за которых рассказчик не может вернуться домой.
На пыльных дворах с каменными постройками останавливались торговые караваны с мулами, лошадьми, фургонами и телегами. Там Горжик как-то разговорился с караванным стражником, который стоял в стороне от других, занятых игрой в кости.
Стражник, вытирая потные ладони о короткую кожаную юбку, начал рассказывать о разбойниках, промышляющих в горах и в пустыне – но тут к ним, пыля парчовым подолом, подбежал сморщенный, как чернослив, купец с клочковатой бородой и вычерненными зубами.
– Ты! – закричал он, потрясая кулаками. – Никогда больше тебя не найму! Караванщик мне рассказал, какой ты ворюга и лгун! Стану я доверять свои грузы трусу, пособнику грабителей! Вот… – Он швырнул стражнику в грудь горсть монет, и тот шарахнулся, словно их раскалили в кузнечном горне. – Тут половина условленного – забирай и скажи спасибо, другой бы тебе и железяки не дал.
У стражника на бедре висел нож, а у стенки позади него стояло копье, притом он был моложе, больше и определенно сильнее разгневанного купца, однако он подобрал монеты, бормоча что-то – даже не выругался вслух, – взял копье и поспешил прочь, оглянувшись только раз, на углу. Другие стражники прервали игру и подошли ближе, явно ожидая, что им-то заплатят полностью. Старик, еще не остыв, увел их на склад, а Горжик так и не услышал, чем кончилась история про разбойников.
В другой раз, когда они с друзьями играли около гавани, их из-за груды бочек окликнула женщина:
– Эй, ребятки! – Ростом она была выше, чем отец Горжика, с волосами короче, чем у его матери. Лицо ее избороздили морщины, мозолистые руки и ноги потрескались. – Где тут прачек нанимают?
Дети переглянулись.
– Так где же? – Говорила она с сильным акцентом и была еще темней Горжика, которого часто дразнили черным. – Сказали, что где-то здесь. Мне работа нужна… скажите, куда идти?
Горжик распознал в ее голосе страх; детям трудно понять, чего могут бояться взрослые, особенно такие высокие и сильные, как она.
– Зря ты хочешь в прачки, – сказала одна из девочек постарше. – Туда только варварок нанимают, на Шпоре.
– Мне нужна работа, – повторила женщина. – Где это – Шпора?
Один мальчишка стал показывать ей дорогу, но другой с воплем подкинул вверх мячик, и они помчались прочь, перекликаясь, перескакивая через бухты канатов, обегая перевернутые лодки. Горжик оглянулся – женщина что-то кричала им вслед, – но приятель утащил его за угол, и он так и не узнал, о чем она еще хотела спросить. Весь остаток дня за криками портовых грузчиков и своей веселой ватаги он слышал ее, слышал затравленный голос нужды, страха, надежды…
Потом как-то раз в нежилом, пустынном дворе, он увидел на заброшенном колодце парнишку (на пару лет старше себя? лет шестнадцати-восемнадцати?).
Худющий какой, первым делом подумал Горжик при виде угловатых плеч и тощих коленок. Кожа у них была одинаковая, темно-коричневая, но у другого парня она казалась совсем черной из-за грязи, покрывавшей его с головы до пят. Смотрел он не на Горжика, а куда-то на мостовую, поэтому Горжик подошел совсем близко, разглядел у него на шее железный ошейник и остановился как вкопанный.
Его бросало то в жар, то в холод, сердце громко стучало. Когда в глазах чуть-чуть прояснилось, Горжик заметил еще и рубцы на боках у парня – одни розовые, другие темные. Он знал, откуда они, хотя раньше никогда их не видел – по крайней мере, так близко. В провинциях преступников – и, конечно, рабов – наказывают кнутом.