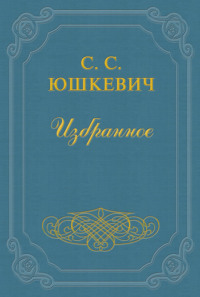Kitobni o'qish: «Ита Гайне»
Роза Бильтрот, или просто Роза, была факторшей, и в ее большой и пустынной, как сарай, комнате, исполнявшей роль справочной конторы, с утра до ночи толкалось много женского народа. Но мадам Бильтрот редко можно было застать дома. Она имела огромное знакомство во всех концах города и за день едва успевала побывать во всех местах, тем более что никогда не ездила, а для скорого передвижении была уже не молода Она была вдовой. Похоронив мужа лет тридцать тому назад, она, подобно большинству еврейских женщин, не пожелала выйти вторично замуж, хотя охотников на нее было немало.
Вся же ее работа и хлопоты предназначались для единственной дочери, бывшей замужем за чахоточным столяром, и заработки целиком уходили на лечение, на докторов и поддержание его здоровья. Факторшей она сделалась лет десять тому назад, унаследовав это занятое от старшей сестры, умершей неожиданно для всех, внезапно, хотя по внешности должна была прожить не менее сотни лет.
Бильтрот, познавшая после смерти мужа ряд тяжелых голодных годов, быстро утешилась в смерти сестры и с жаром принялась за дело. Сначала оно не пошло, но она не упала духом и так долго била в одну точку пока не поставила дело на ноги. Понемногу она втянулась в работу, значительно расширила круг знакомств и в последние годы уже так прочно стояла, что была незаменима в самых лучших домах, и с ней охотнее предпочитали входить в сношение, чем со многими справочными конторами. В самое горячее время, когда требование на кормилиц случалось огромное, Роза никогда не бывала в затруднении, и в то время, когда во всех родильных приютах и конторах медлили и затягивали присылку женщин, она поставляла их так же свободно и легко, как обыкновенно, Весною она бывала особенно незаменима поставкой женской прислуги, так как, чем ближе шло к лету, девушки и женщины разъезжались массами, накопив денег за зимнюю работу. Словом, Роза зарекомендовала себя большим талантом, считалась знаменитостью во многих кругах общества и пользовалась большим уважением в среде наемниц.
Как было сказано, все заработки ее уходили в бездонное место, и, будучи сама не жадной и равнодушной к удобствам существования, она жила странной, запущенной жизнью. Она занимала огромную, годную под танцкласс, комнату, в которой стояла большая русская печь, впрочем, никогда не топившаяся, широкая деревянная кровать, едва прикрытая коротким, грязным одеялом, стол и несколько длинных скамеек, поставленных, главным образом, для ожидавших женщин. Но так как женщин всегда было много, то часть из них стояла у стен, другие с грудными детьми на руках сиживали просто на полу, и этот беспорядок и теснота не только не мешали Розе, но были ей приятны. Даже адский шум в этой комнате, из-за которого почти невозможно было понять друг друга, был ей мил, и она особенно прекрасно себя чувствовала, когда ей приходилось надрываться, чтобы быть услышанной. Уходила она с раннего утра, но каждые два часа регулярно возвращалась на несколько минут, чтобы захватить с собою новую партию женщин, с которыми опять отправлялась, оживленно разговаривая и объясняя то по-русски, то по-еврейски, по-малоросийски и даже по-польски, как вести и держать себя с нанимателями. По отбытии партии ряды наемниц смыкались, женщины переменялись местами, и гул от разговоров и криков детей перемещался от одной группы к другой. На смену ушедшим появлялись новые, и шум не прекращался ни на минуту. Говорили здесь громко, заглушая, не понимая друг друга, и невзирая на плач грудных детей, ссорились и мирились, утоляли на ходу голод бубликами или хлебом, жажду – прямо из крана, находившегося тут же под рукой, вновь суетились, ругались, спорили, полоскали детское белье, заметали комнату, и каждая вела себя так, как будто она была единственной хозяйкой квартиры, а все остальные – приятные или неприятные гости. В такой суете день проходил незаметно и быстро, дело делалось своим порядком, сколько его положено было для дня, и следующей день уже не приносил ничего нового.
Городская волна мерно продолжала то поглощать, то выбрасывать определенное количество наемниц, и та часть, что вчера работала в западной части города, завтра была уже в северной, и так колесо это безостановочно крутилось изо дня в день со своими спицами то вверху, то внизу, принося относительно равную степень удовлетворения и недовольства и тем, которые требовали, и тем, которые предлагали.
Народу у Розы было еще немного. Возле топившейся печурки сидело несколько женщин и занимались важным делом. Испекши в горячей золе в картофель, они теперь вынимали его, дули изо всех сил на обожженные пальцы, ломали картофель и осторожно ели. В комнате был удушливо сухой воздух, испорченный угаром, шедшим от раскалившегося чугуна. С правой стороны у стены на полу лежали грудные дети и сладко спали. Сама Бильтрот сидела на своей обширной, как вагон, кровати и пила чай. При входе Гайне, все в комнате оглянулись на нее, чтобы встретить восклицанием, но так как она оказалась никому не знакомой, то, перестав есть и разговаривать, смотрели на нее с любопытством. Роза немедленно позаботилась о порядке.
– Не стой же на пороге и закрой дверь. Теперь, слава Богу, не лето.
– Это вы факторша? – спросила Гайне, исполнив беспрекословно приказание.
– Я факторша, – что ты хотела?
Ите вдруг захотелось заплакать, так ей сделалось завидно теплоте и тому, что женщины ели горячий картофель. Давно уже она у себя не видела такого довольства.
– Что же тебе нужно от меня? – повторила Роза, подозревая в Ите одну из нищенок, знавших к ней отлично дорогу.
Что ей нужно? Когда приходишь с ребенком в такую погоду к факторше, то, конечно, не для того, чтобы сказать: здравствуйте. Не Бог весть какая загадка, что ей нужно.
Ребенок под шалью и тряпками начал кричать и прервал ее ответ. Он кричал по своему обыкновению неистово, совсем не подозревая, где он и что с ним, и, ища с закрытыми глазами грудь, нетерпеливо и капризно дергал ручонками и ножками. Но так как при входе Ита отняла его от груди, то, не находя ее так скоро, как бы хотел, он немедленно после крика поднял такой визг, что у матери от стыда выступили слезы на глазах. Роза же недвусмысленно задвигалась на своем месте.
– Он у меня разбаловался, – с виноватой улыбкой оправдывала мальчика Ита. – Прежде, – здесь она запнулась, – муж мой работал на спичечной фабрике, а я смотрела за хозяйством. Потом хозяин фабрики обанкротился, и муж остался без работы, я же после родов два месяца болела и не вставала, и мы разбаловали ребенка, то есть я разбаловала. Первых детей ведь любишь, как жизнь, – опять извинилась она. – Вот я его сейчас успокою.
Она ловким движением расстегнулась и приложила лицо мальчика к своей груди.
Мальчик немедленно, как по волшебству, успокоился, а Ита просто прибавила:
– Вот, видите. Это всегда так у меня с ним. Он бы, кажется, спал в молоке, так оно ему приятно. – Она добродушно улыбнулась, погладила ручку ребенка, лежавшую на груди, развязала шаль и поискала глазами место, чтобы присесть. Розе сразу понравилось чрезвычайно симпатичное лицо и спокойная деловитость этой молоденькой еще женщины. Она усадила ее подле себя и мельком осмотрела ребенка.
– Он у тебя первый? – спросила она. – Как тебя зовут?
– Ита,
– Ита? Хорошо. Совсем не звучит по-еврейски. Теперь не в моде еврейские имена и из-за этого могут и не принять. Даже себя – а на что я уж стара и не нуждаюсь, – я прозвала Розой, хотя зовут меня Рейзи. Нашим дамам не нравятся еврейские имена. Оставим это. Ты хочешь в городе наняться или можешь поехать, если случится?
– Я лучше бы хотела здесь. У меня… муж.
– Ты венчалась?
Ита покраснела и ничего не ответила.
– М… м… – протянула Роза, – значит так, как Бог не велел?
Ита наклонила голову и упрямо уставилась глазами в угол, будто она там увидела что-то очень интересное
– Ты говоришь, что ребенок у тебя первый? Лучше, если бы был второй. Как у тебя молоко?
– У меня хорошее молоко. Посмотрите только на мальчика. Такое уж хорошее молоко у меня, яи не знаю почему. Сама ведь почти ничего не ем, а ребенок вот.
Она быстро освободила мальчика от тряпок, в которые тот был завернут, и Роза, взглянув на него, ахнула от восторга. Прижавшись к груди, так что виднелся один только розовенький в складочках затылок, он извивался, как гуттаперчевый, пока Роза с восхищением ощупывала его животик и взвешивала на руках пухлые ручки и ножки. Он был весь розоватый, без малейшего пятнышка на теле, весь в ямочках, складочках, тепленький и гладенький, как маленький котеночек. Роза не могла оторваться от него и щипала, и гладила мальчика своей морщинистой рукой, приговаривая со смехом:
– Где ты его взяла такого?.. Наверно, ты его украла у богатых людей. Признавайся-ка.
Ита от радости начала смеяться, и лицо ее опять сделалось добродушным.
– Я ведь говорю вам, что молоко у меня такое. Такое уж молоко, и ничего с этим не поделаешь. А сколько его у меня, что я бы, кажется, взрослого накормила, если бы хоть немного наелась.
Она быстро завернула ребенка, но так внимательно и осторожно, что мальчик даже не пошевельнулся.
– Ну, хорошо, – произнесла, наконец, Роза, после некоторого раздумья, – я тебя уже пристрою. Ты сиди здесь, а я пойду. Много мне выходить нужно сегодня.
В комнате говорили громко, но не очень шумели, воздерживаясь все-таки при Розе, которой отчасти побаивались. Наемницы понемногу прибывали. Женщины, девушки, подростки сидели и стояли группами. Некоторые еще завтракали. Какая-то горбатенькая старушка, долго уже поджидавшая места няни, прилежно и с изумительной ловкостью подметала комнату, врезываясь, как волчок, в каждое свободное от ног местечко. Три старые женщины, очень полные, с лоснящимися потными лицами, с искривленными и как бы разбухшими от ревматизма пальцами, не отходили от печурки и хотя уже расстегнули кофты, все сидели и грелись, упиваясь теплотой. Два подростка, девушки лет по четырнадцать, в грязных юбках, которые они, сидя на подоконнике, почему-то постоянно приподнимали, давая видеть худые и тоже грязные ноги, подмигивали друг дружке на старух и громко смеялись, выбрасывая визгливый, короткий хохот так, точно в их горле помимо собственной воли что-то взрывалось. У них были наглые, циничные лица, и все в них говорило, что суровая школа жизни не прошла для каждой даром. В самом дальнем углу тощая старуха с непомерно длинным и толстым горлом и богобоязненным лицом громко рассказывала соседке своей о новом чудесном лекарстве, которым она теперь только и спасала себя от удушья.
– Мрамором, мать моя, и спасаюсь. Натолку его немножко, выпью, и как рукой снимет. С мраморщиком, что монументы делает, познакомилась, и у него достаю я камень-то. Я без мрамора теперь и в комнате не переночую.
– Каменное лечение! – колыхалась соседка от изумления. – Ах ты, Боже мой, дела какие бывают. Мрамором? В самом деле мрамором?
Ита понемногу осваивалась. С ней заговорила еврейка и переманила ее к себе. Ребенок тихо спал, и потяжелел для рук. Роза уже кончила приготовления к выходу и, отобрав несколько женщин, ушла с ними. Сразу сделалось значительно шумнее.
Стекла в дверях и окнах оттаяли, наконец, и казались нарочно забрызганными мутной жидкостью, а видневшийся снег вырисовывался темным и грязноватым. Мелькали неправильные фигуры людей, ходивших по двору.
Ита уже сидела возле новой соседки, обязательно осмотревшей ее ребенка.
– Вы тоже ищете места? – спросила у нее Ита, переложив мальчика на другую руку.
Соседка оказалась девушкой, искавшей места служанки.
– Да, давно уже, – ответила та и прибавила чрезвычайно просто: – У меня недостаток, и это мешает.
Гайне только теперь обратила внимание на то, что у девушки время от времени вырывался легкий крик, точно от испуга, и что она старалась заглушить его, закрывая рот рукой.
– Откуда это у вас? – с участием спросила Ита, но невольно отодвигаясь.
– Вы не бойтесь, – сказала та, заметив движение Иты, – у меня не черная болезнь.
– Я и не боюсь, – улыбнулась Гайне, придвинувшись.
– Другим это неприятно, но что же делать? Это ведь не от рождения, а от испуга. Я служила в гостинице нумеранткой, и мне было недурно. Но случился один приезжий… И когда я как-то утром убирала его комнату, он бросился на меня, а я так испугалась, что не могла крикнуть… Потом это сделалось у меня. Теперь уже как будто меньше. Доктора говорили, что это пройдет, и я отдала им понемногу все деньги, что имела, – но еще не прошло. У них ведь все проходит.
Она подавленно пискнула два, три раза, но вдруг не выдержала и резко вскрикнула.
– Вот видите, – произнесла она, успокоившись, – разве меня возможно держать в доме?
Ита сочувственно посмотрела на нее и спросила:
– Вы так и оставили дело?
– Что же я могла сделать? Я ведь дурой была, приезжий уехал, а я забеременела.
– Забеременели? – переспросила Ита. – Ах вы, бедная!
– Конечно, забеременела, хотя все сделала, чтобы сбросить. Но не помогало. Нарочно поднимала шкафы, прыгала с лестниц, била кулаками живот, но ребенок крепко держался. Здоровая я очень была. В шестом месяце я должна была бросить место, и до родов очень мучилась. Никто меня не хотел держать, а деньги, что были, ушли на лечение. Родила же я ночью в отхожем месте. Я шла по улице, не зная, где переночевать. У каких-то ворот почувствовала боли. Крадучись я забралась в отхожее место и два часа мучилась. Кричать ведь нельзя было.
Она рассказывала спокойно эти ужасы, точно она говорила о самых обыкновенных вещах. Потом она задумчиво прибавила:
– Вероятно, ребенка подобрали еще живым, так как это случилось летом. Но лучше бы он умер.
Ита с возраставшим страхом слушала ее. Жестокость большого города как бы вплотную придвигалась к ней и показывалась теми грозными сторонами своими, о которых она, выросшая в маленьком городишке, и не подозревала.
– Где же вы теперь живете? – тихо спросила она, чувствуя все больше и больше симпатии к девушке.
– Где придется. Ведь я всех беспокою. Вот, Бог даст, выздоровею, и тогда все поправится. А не выздоровею, то уж знаю, что сделаю.
Она произнесла это таким мрачным голосом, что Ита вздрогнула.
– Что вы сделаете? – шепотом спросила она.
– Проституткой стану, – по-прежнему просто ответила девушка. – Старые женщины говорили мне, что это наверное излечит. Славное лекарство, правда? Вы думаете, что я верю. Вот настолько не верю, и хотя знаю, какие женщины мне советовали, но хочу верить. Нужно же мне верить, Боже мой, – Она внимательно посмотрела Ите в глаза. – Хоть забудусь от горя, – я ведь даром пропала.
В разных углах слышались крики и плач просыпавшихся детей. Кормилицы с трудом отрывались от разговоров и ворчливо вставали. Какая-то худая еврейка, со скверными глазами и сиплым голосом, уже била малютку, испачкавшего пеленки. Она била с наслаждением и точно отчеканивала удары; из того же места возвращались тончайшие и колючее, как иглы, крики.
Девушка равнодушно слушала и вдруг шепнула Ите:
– В моем городе меня жених ждет. И он ничего не знает. Что говорите? А я из железа, теперь из железа. Еще в прошлом году он от солдатчины освободился и ждет меня. Нарочно в город поехала, денег накопить, чтобы ему помочь. Понимаете, непременно проституткой сделаюсь. Все равно теперь.
Ита дрожала от страха. Такой глубины падения она еще не знала. Было и у нее много скверного и ужасного, но до такого отчаяния она еще не доходила. Сколько сил хватало, она боролась, подлаживаясь и урезываясь до последней степени: она вечно охраняла себя от последней пропасти, откуда не могло быть возврата. Но безыскусственность и простота девушки, отчего даже отталкивающее выходило как бы освобожденным от грязи, поражала и пленяла ее. В ее доверчивости она находила отклик и своей душе, желавшей и жаждавшей дружбы. Как давит жизнь! Вот и она дожилась до того, что согласилась наняться в кормилицы. Зачем она здесь? Тут ведь не скот продают, не людей, а матерей. И ее продадут и оторвут от ребенка, которого она должна будет бросить в чужие руки. Как жизнь ужасна! Она боялась размышлять больше, чтобы не появилось желание убежать отсюда: дома было ведь еще хуже. Девушка теперь молчала и каждый раз боролась с приступом.
– Как я вас жалею, – шептала Ита, – как жалею…
Кормилицы уже кормили детей. Они собрались рядышком на самой большой скамье подле стены, и лица их были серьезны, как будто эти женщины были ученицами и ждали прихода учителя. Все дети, точно условившись лежали на левой стороне и квакали и свистели от наслаждения. С закрытыми глазами, в ряд, с раскрасневшимися носами, они играли грудью, то отворачивались вдруг от нее, сладко улыбаясь и потягиваясь, то опять набрасывались, производя от жадности звуки крепких поцелуев. Матери, положив на них грубые, некрасивые от работы руки, не обращали внимания на шалости и чинно вели свои беседы. Потом все, как бы испытав одно и то же чувство усталости и отвращения, привычным движением перебросили детей на правую сторону, ни на минутку не прекращая своей беседы. Ита с умилением смотрела на эту картину. Женское чувство потянуло ее к ним, и, повинуясь ему, она встала и пошла к группе матерей. По дороги ее остановил звонкий, развязный голос, шедший от дверей. Кучка женщин столпилась у противоположной стены и слушала. В середине стояла девушка и говорила так, как будто во рту у нее был колокольчик и она им позванивала. Одета она была недурно и производила странное впечатление среди неряшливых и бедных женщин, которые как бы еще более опустились и потускнели рядом с ней. Ита заинтересовалась и подошла послушать.
– У матери моей дом, – ну, знаете, дом такой, публичный, – рассказывал развязный голос, и девушка не смущалась от десятка любопытных, пожиравших ее и ее слова, – а отец, то есть отчим, при матери. Две сестры есть, да два брата. Сестры давно уже сбились и идут с гостями. Тут, правда, отчим виноват, так как он первый их развратил, когда им еще по тринадцати лет не было, но и так бы пропали. Мать тоже не могла уберечь, хотя и жалко ей было и ревновала. Отчим на двадцать лет ее моложе, и очень красив. Сам он шулер страшный, но всегда проигрывается, а когда проиграется, то матери моей здорово достается. Братья, – она пожала плечами и зазвенела, – братья – один живет на деньги девушки нашей одной, а другой вор и сидит в остроге. Но когда был на свободе, то вечно дрался с отчимом, и такая каторга у нас шла, что чуть мы все не передрались. Старший брат никогда не мешался. Тот другой совсем.
– А ты-то сама как? – продолжала спрашивать одна из слушательниц.
– Я? – переспросила она. – Ну, отчиму-то не далась, хотя он и обхаживал меня и чуть что на руках не носил.
– Хорошо, девка, – вырвалась у одной немолодой женщины, – и я бы не далась.
– Но на четырнадцатом году, – продолжала девушка, – сама побежала к цирюльнику, что жил супротив нас, и стала потом часто ходить к нему. Здорово играл он на гитаре, и я не выдержала. Только бы он играл мне тогда. Когда бывало заслышу его музыку, так я, как воск, делаюсь. Душа моя таяла, а что такое было – и до сих пор не понимаю.
– Не порола мать, когда узнала? – сурово спросила первая.
– Кто? Мать? Меня? Попробовала бы. Меня все боялись за мой характер. Младший брат какой зверь, – и то меня боялся. Я ведь его подколола раз.
– За что так?
– За то. Нечего к сестре подбираться. Чужих девушек немало на свете!
– Ах, ты, Боже мой, – вздохнула одна, – вот так жизнь.
– И не то еще бывало, – засмеялась девушка.
– Чего же ты сюда пришла? – допытывалась первая.
– А ты зачем? На место поступить хочешь? Я, может, этого теперь еще больше твоего хочу. Отдохнуть хочу, потому что надоело мне. Хочу в честной жизни пожить. Никогда я не трудилась, посмотрю каково человеку в труде. Очень уже много дряни на мне.
Ита с тяжелым сердцем отошла, чувствуя себя не в силах слушать больше. Настроение от того, что она слышала здесь, становилось мрачнее, и казалось ей, кто-то стоит над людьми, хлещет их кнутом, и некуда от этого кнута спрятаться.
Три толстые старухи, подложив кофты под головы, уже спали около остывшей печурки и громко храпели. Подростки щебетали о чем-то и, обрывая ногтями штукатурку со стены, бросали ею в старух, а те сердито ворочались и обмахивались искривленными и разбухшими пальцами, не сознавая, что их тревожит. Ита осторожно обошла старух и уселась возле кормилиц. Она была страшно угнетена, и ей уже не хотелось ни разговаривать, ни слушать. Мальчик пошевелился, и она принялась кормить его.
Время между тем не стояло. Роза явилась, выбрала кучку женщин и ушла с ними. Потом она явилась другой раз, еще раз выбрала и опять ушла, оживленная и рассеянная. Оттого, что становилось меньше людей в комнате, сделалось просторнее и холоднее. Теперь Ита, при каждом приходе Розы, бросала на нее вопрошающий взгляд, но та знаками приказывала ее ожидать. Часам к трем она почувствовала сильный голод и решилась съесть свою четвертушку черствого хлеба. Но когда Маня, – так звали больную девушку, с которой она познакомилась утром, – красноречиво посмотрела на нее, она с радостью предложила ей поделиться. Обе они сели подле печурки, и Ита решилась наконец, по настоянию Мани, положить ребенка на пол. Хлеб был разделен пополам, и каждая начала не спеша есть. Постепенно они опять разговорились, но на этот раз шепотом. В это время вошло еще несколько запоздавших кормилиц с детьми на руках, а вскоре начали приходить те, которые по разным причинам не успели пристроиться на предложенных Розой местах. Шум опять возобновился, и Ите, как лицу уже известному, пришлось знакомиться с новыми кормилицами.
Роза явилась в четвертый раз и приказала одной из старух растопить печурку. Сделалось снова тепло. Дети проголодались и стали кричать. Возле крана шла стирка пеленок, и кормилицы, расплескивая воду и переругиваясь откровенными словами, спешили скорее окончить работу, чтобы пеленки успели высохнуть, пока печурка не остыла.
Ита, увлеченная новыми знакомыми, не заметила, как вошла какая-то старуха, и обернулась только тогда, когда та громко и резко прокричала:
– Вот, и я здесь, дети, я здесь, я здесь.
Ита шепотом осведомилась у первой соседки о новопришедшей.
– Это старуха Миндель, – ответила та, – такой мы бы с вами не выдумали. Может быть, она полоумная. Я ее всегда боялась. Но подождите, она сейчас вам скажет, кто она такая.
Действительно старуха, объявив, что она здесь, своим не то мужским не то женским голосом стала возглашать:
– Кто хочет отдать своих детей на выкорм? Спешите, я здесь.
Подождав для формы ответа, она закончила таким страшным голосом припев «есть кто-нибудь?» что все невольно оглянулись на нее.
Ита вздрогнула и со страхом схватила своего мальчика, точно старуха хотела отобрать его у нее.
А Миндель все ходила по комнате и зорко искала, нет ли новых лиц. Вся она была чудная какая-то с головы до ног. Она носила мужские сапоги и держала приподнятой высоко от полу свою толстую красную юбку, будто в комнате лежала грязь по колено. Сверху она носила что-то напоминавшее шубенку, обшитую каким-то грязным мехом, почти везде вылезшим. Голова ее повязанная косынкой, была покрыта огромной серой шалью, из-под которой выглядывало плутовское желтое лицо с отвисшей кожей, пара красных, с оттопыренными веками глаз, воспаленных и слезящихся.
– Кто хочет отдать детей своих? – вопрошала она возле каждой группы и непременно уже обращалась к ближайшей женщине: – Вам не нужно? Я знаю такую женщину, что теленок пожелал бы отведать у нее сосцов. Не нужно вам? Почему? Как это не нужно? Разве вы подкинете своего ребенка? Хотите я вам подкину его? За пять рублей сегодня же он будет подброшен, где вы укажете. Нет. Может быть, вы хотите, чтобы не подбросить, но лишь бы вышло, будто подбросили? Я также могу. В одной деревне у меня есть довольно женщин, которые за тридцать рублей совсем возьмут от вас ребенка и могут сделать, чтобы вы о нем больше ничего не знали. Вы только скажите мне. Я все могу, все, только за это нужно дать мне денежки, денежки, денежки…
Она смеясь переходила к другим и опять повторяла то же, шутила, но незаметно ловко рекламировала себя, обещая сделать все, что нужно человеку в трудную минуту. Ита прислушивалась, и сердце ее тревожно билось, когда та случайно взглядывала на нее.
– Вы без нее не обойдетесь, – сказала другая соседка Ите, заметив ее волнение, – мы все без нее никуда не годимся, даже меньше чем без Розы.
Старуха уже стояла подле Иты и, спокойно отвернув ее шаль, рассматривала спавшего ребенка.
– Ого, – произнесла она, – какой хороший мальчик, – по тебе нельзя было догадаться. Хороший мальчик, – повторила она, – но почему ты, дура, родила такого хорошего? Похуже тебе нельзя было? Кормилице грех родить хороших детей. Нужно родить уродов, калек, уродов.
Она глубоко ущипнула ребенка, и тот закричал. Ита сердито отвела ее руку.
– Не сердись, красавица. Когда нужно отрезать палец не смотрят на ноготь. Тебе ведь нужно отрезать от себя мальчика. Это у тебя первый? Ага, оттого он и вкусненький такой. Ты корми его поменьше. Ведь он может из груди кровь высосать, не то что молоко. Никто у тебя не возьмет шесть рублей за такого разбойника. Пусть он поголодает несколько дней.
– Вы сумасшедшая, – рассердилась, наконец, Ита. – Заставить голодать своего ребенка! Что-что, а этого не будет.
– Ну, так заплатишь денежки, – рассмеялась старуха, – денежки, денежки. Мы еще поговорим об этом, я ведь здесь каждый день бываю.
Она пошла дальше, и та кормилица с сиплым голосом, что беспощадно била утром своего ребенка, остановила старуху, отвела ее в сторону и стала о чем-то шептаться с ней. Ита сидела под впечатлением слов старухи и так задумалась, что не слышала криков мальчика, хотя он бился и метался на ее руках.
Между тем день угасал, и нужно было уходить. Многие уже одевались, другие с сожалением поднимались со своих мест. Старухи у печурки сидели и охали, жалуясь на ломоты, и не спеша перебирали тряпье, которыми закутывали ноги до колен… Темнота густыми потоками вливалась через стекла дверей и окон, и углы комнаты скрылись, как будто их никогда не было. Ита заторопилась, и Маня бросилась ей помогать. Пришла Роза. Она была страшно утомлена и дрожала от холода. День ее кончился, и она с наслаждением мечтала об отдыхе. Ита подошла к ней узнать, не нашлось ли для нее чего-нибудь.
– Сегодня нет еще, – сказала она, приказав мимоходом одному из подростков растопить печурку, – да я тебя и не отдам так, куда-нибудь. У тебя такое молоко, что меньше тринадцати-четырнадцати рублей тебе нельзя взять. Приходи завтра.
И она отпустила ее жестом, как повелительница. Ита была в восторге. Четырнадцать рублей, когда она не рассчитывала больше, чем на десять! Михель ее уж наверно будет доволен.
Она распростилась с Розой с очень хорошим чувством и вышла вместе с Маней, которая за день привязалась к ней, как собачка. За ними гурьбой вышли кормилицы, и все они остановились у ворот, чтобы расспросить друг у друга, куда кто идет. Кухарки, служанки и подростки, шедшие позади, сейчас же разошлись. Кормилицы же все стояли и торговались, кому с кем пойти, и были похожи на стадо коров, лениво собиравшихся домой. Потом они потихоньку разбрелись, увязая в снегу и болтая, чтобы незаметно было расстояние, а дети, лежа у теплой груди, тихо засыпали от качки, перестав, наконец, есть.
Ита шла с Маней, которую она из жалости пригласила ночевать, а рядом с ними плелась та самая кормилица с сиплым голосом, которая вечером о чем-то шепталась со старухой Миндель.
– Теперь, – говорила она, – Цирель поднимет голову. Что такое дети? Кому они нужны? Богатым. А Цирель не богачка. У меня муж в больнице лежит, и у него парализованы ноги. Вы думаете, его вылечат? Еще бы. От этой скверной болезни, что у него уже двадцать лет, вылечиться нельзя, и ноги его пропали. У меня было девять выкидышей, и слава Богу. А этот черт все-таки родился.
Ита хмуро молчала, а Маня, не имевшая припадков на улице, сказала:
– Я бы его в снег бросила и ушла от него.
– А Цирель бы не бросила? – возразила та. – Но я боюсь. Я городового хуже смерти боюсь и вот ношу его, проклинаю и ношу. Я боюсь это сделать. А вы подумайте еще, что мне никто больше восьми рублей в месяц платить не будет. Я маленькая, немолодая, и слышите, какой у меня хриплый голос. Какой же хороший дом возьмет меня? Примут меня, значит, такие уже бедняки, что больше восьми рублей не дадут. Дай Бог хоть восемь. Теперь посчитайте: должна я за ребенка хоть четыре рубля в месяц платить, а то и пять? Наши времена – новые времена, и дешево вы ничего не достанете. А Миндель уж все устроит. Она хотела двадцать рублей с меня, чтобы я о нем ничего не знала больше, но я выторговала за пятнадцать, Цирель умнее ее.
Ита и Маня слушали, не прерывая, и ковыляли в снегу. Ночь наступила, и повсюду зажглись огни. Мороз крепчал. По утоптанной дороге мчались сани, и лошади звенели бубенцами. Кому было весело от них, кому грустно. Небо же было чисто и высоко, и ничего не хотело знать о том, что внизу.
И от него все ниже спускалась ночь, чтобы на время не было видно и не слышно, и разобрать нельзя было, кому хорошо, кому скверно.
А лошади мчались, и бубенцы звенели.
Целая неделя прошла без результатов. Ита правильно посещала Розу, сидела у нее до вечера и возвращалась намученная и утомленная домой, где злой, как зверь, ее поджидал сожитель Михель. Требований на нее было немало, но все как-то расстраивались, и это сказывалось на Гайне самым невыгодным образом. Каждый лишний безрезультатный день подвергал ее все большей опасности быть искалеченной или даже убитой Михелем, у которого были совсем другие, чем у Иты, виды на ее будущее. Теперь она совсем подружилась с Маней и почти не разлучалась с ней, счастливая, что нашла хоть одного человека, искренно расположенного к ней. В своей крошечной комнатки она уступила ей угол, и обе в досужее вечернее время, когда Михель не устраивал скандала, засиживались до полуночи в мечтательных разговорах о лучшем будущем. Спавший мальчик мирно лежал под родительской подушкой, маленькая лампочка посылала сквозь мутное стекло неяркий желтый свет, по стенам шуршали всегда торопливые тараканы, а беседа женщин, не спеша, лилась непрерывной струей.
Утром, запасшись четвертушкой хлеба, они отправлялись к Розе и спешили придти пораньше, словно их ожидала служба, обе – со смутной надеждой, что сегодняшний день принесет конец этой невыносимой жизни. На улице ничто не привлекало их внимания, и когда они иногда засматривались в окна магазинов или на людей, сидевших в санях, или на важно проходивших мимо них дам и господ, то все казалось существующим не на самом деле, а как необходимая обстановка улицы; единственно же реальным и важным были они, их интересы. Роза, конкурировавшие кормилицы и слуги. У Розы они сидели рядышком и с досадным чувством наблюдали, как на их глазах происходила смена женщин. Каждый день алчная рука города выхватывала кучу невольниц, нужных ему, выбрасывала назад маленькие армии их, почему-либо не понравившихся. Наблюдая за этими сменами, можно было следить за настроением города, которое было так же капризно, как давление атмосферы на ртуть барометра. Сегодня выбрасывались неспособные, худые, злые, и проглатывались здоровые, толковые, податливые, а завтра здоровые и податливые уже не годились, и как будто требовались капризные, злые, больные. На глазах сменялись лица кормилиц и характеры их сменялись, как волной смытые, старухи, няни, подростки, но комната вечно была переполнена, и вечно в ней раздавался голос живой жизни со всеми ее оттенками: жажданием и алканием, пороком, завистью, горем, сплетней. Сюда приносились все сенсационные происшествия города, выраставшие в чудовищные легенды, и чем пикантнее и циничнее выходила история, тем больше она имела успеха. Убийства и грабежи, развод и побои, разврат в самых разветвленных и утонченных формах и мечтательные, сантиментальные любовные случаи были здесь в полном почете, и женщины отравлялись ими с такой же жадностью, как в других кругах отравляются азартной игрой, опиумом или морфием. Сюда приносились подробнейшие данные о положении и состоянии нанимателей, о их привычках и причудах, о их алчности, злости или доброте, обо всех тайнах и пороках семьи, – решительно все, что от прислуги нельзя уберечь. Известна была всем и причина отказа от места каждой наемницы; про тех, что пристроились, рассказывались интимнейшие истории из их жизни, и в этом базаре, где громко и бесцеремонно обсуждалось все, что выходило из ряда вон, каждая находила такую школу низменной житейской мудрости, что малейший проблеск хорошего неминуемо погибал.