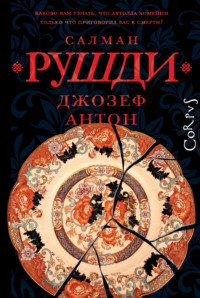Kitobni o'qish: «Джозеф Антон. Мемуары»
Моим детям
Зафару и Милану,
их матерям
Клариссе и Элизабет
и всем,
кто помогал
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Salman Rushdie, 2012
All Rights Reserved
© Д. Карельский, перевод на русский язык (главы 1,2), 2012
© Л. Мотылев, перевод на русский язык (пролог, главы 3-10), 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство ACT”, 2024
Издательство CORPUS ®
Пролог
Первая птица
Потом, когда вокруг него взрывался мир, когда гибельные черные дрозды облепляли каркас для лазанья на школьном дворе, он досадовал на себя, что забыл фамилию репортерши Би-би-си, которая сообщила ему, что старая его жизнь кончена и впереди новое, мрачное существование. Она позвонила ему домой и не стала объяснять, кто ей дал телефонный номер. “Каково вам, – спросила она, – узнать, что аятолла Хомейни только что приговорил вас к смерти?” Лондон, вторник, солнце – но вопрос заставил утренний свет померкнуть. Он ответил, не понимая толком, что говорит: “Приятного мало”. А подумалось:я мертвец. Он задался вопросом, сколько еще дней ему отпущено, и ответом, казалось, должно было послужить однозначное число. Он положил трубку и бросился из своего кабинета на первый этаж узкого дома в Излингтоне, стоявшего впритык к таким же узким домам. Окна гостиной закрывались деревянными ставнями, и он, хоть в этом не было никакого смысла, запахнул их и запер. Потом запер и входную дверь.
Был День святого Валентина, но с женой, американской писательницей Мэриан Уиггинс, отношения у него в последнее время разладились. Хотя с тех пор как они поженились, прошел только годс небольшим, шесть дней назад она сказала ему, что несчастлива с ним, что ей “совсем не так хорошо, как раньше”, да и он понимал уже, что их брак – ошибка. Сейчас она смотрела, как он, гальванизированный новостью, словно весь под током, нервно мечется по дому, занавешивает окна, проверяет задвижки и шпингалеты, и ему пришлось объяснить ей, что происходит. Отреагировала она достойно – стала обсуждать с ним, как быть дальше. Использовала слово “мы”. Да, это было храбро.
К дому подкатила машина американского телеканала Си-би-эс. У него была договоренность, что он отправится к ним в студию в Найтсбридж, в Боуотер-Хаус, где в прямом эфире выступит в утренней программе, передаваемой через спутник.
– Я не могу это отменить, – сказал он жене. – Прямой эфир. Нельзя просто взять и отказаться.
Позднее в то утро в православной церкви на Москоу-роуд в Бэйсуотере должна была пройти служба в память его друга Брюса Чатвина2. Меньше двух лет назад он отпраздновал с Брюсом его сорокалетие в его доме в Хомер-Энде, графство Оксфордшир. И вот Брюс умер от СПИДа, а теперь и в его дверь постучалась смерть.
– А с церковью как же? – спросила жена. Он не знал, что ответить. Отпер входную дверь, вышел, сел в машину и поехал, не придавая особого значения расставанию с жилищем, не зная, что вернется в этот дом, где обитал пять лет, только через три года, когда дом уже будет не его.
Дети в школьном классе в Бодега-Бэй, штат Калифорния, поют печальную бессмысленную песенку. Раз в год она в руки брала расческу, шуршики-пуршики, мо-мо-мо. За окнами школы дует холодный ветер. Прилетает один черный дрозд и усаживается на каркас для лазанья на пришкольной площадке. Песенка детей движется по кругу. Она начинается, но конца не имеет. Повторяется и повторяется. Взъерошит, пригладит, уронит слёзку, шуршики-пуршики, хей-бомбуршики, кричики-крячики, переворачики, тренчики-бренчики, мо-мо-мо. Вот уже четыре черных дрозда на каркасе, к ним летит пятый. Дети в школе поют и поют. Сотни черных дроздов облепили каркас, а в небе их тысячи – казнь египетская. Песня началась, а конца ей не будет.
Когда на каркас опускается первая птица, она кажется чем-то единичным, частным, особенным. И нет как будто необходимости выводить из ее присутствия общую теорию, включать ее в некую широкую картину. Позднее, когда начинается бедствие, казнь, легко увидеть в этой первой птице предвестье. Но сейчас, когда она только села на каркас, это всего-навсего одна птица.
В последующие годы он будет видеть эту сцену во сне, понимая, что его история – своего рода пролог, повесть о том, как прилетела первая птица. Поначалу это касается только его – единичный, частный, особенный сюжет. Из которого никому не хочется делать далеко идущих выводов. Двенадцать с лишним лет пройдет, прежде чем эта история заполонит собой небо, подобно архангелу Джабраилу, возвышающемуся над горизонтом, подобно двум самолетам, врезающимся в два высоких здания, подобно казни птицами в великом фильме Альфреда Хичкока3.
В Си-би-эс он почувствовал себя новостью дня. Люди в отделе новостей и те, кто вещал с разнообразных мониторов, уже произносили слово, которое вскоре повиснет у него на шее как жернов. Они произносили его так, словно оно было синонимом “смертного приговора”, и ему хотелось возражать, педантично втолковывать им, что оно имеет другой смысл. Но с этого дня для большинства людей на земле оно будет иметь ровно такой смысл, и никакого другого. И для него в том числе.
Фетва.
“Я извещаю неустрашимых мусульман всего мира, что автор книги “Шайтанские аяты”, направленной против ислама, Пророка и Корана, а также все, кто, зная ее содержание, был причастен к ее публикации, приговариваются к смерти. Призываю мусульман казнить их, где бы они их ни обнаружили”. Когда его вели в студию на интервью, кто-то дал ему распечатанный текст. И опять его старому “я” хотелось спорить, на сей раз со словом “приговор”. Потому что это не был приговор, вынесенный тем или иным судом – судом, который он бы признавал или который имел бы над ним юрисдикцию. Это был указ, выпущенный жестоким умирающим стариком. И в то же время он понимал, что привычки его старого “я” больше не имеют значения. Он уже был другим человеком. Он был человеком в глазу бури, уже не темСалманом,какого знали его друзья, а Рушди, автором книги, которую, исказив название, превратили в книгу “Шайтанских аятов”. Он написал роман “Шайтанские аяты”4, но выходило, будто он – автор неких аятов, продиктованных ему шайтаном, он был теперь “шайтан Рушди”, рогатое чудовище на плакатах в руках у демонстрантов на улицах далекого города, повешенный с красным вывалившимся языком на грубых карикатурах, которые они несли. Повесить шайтана Рушди!Как легко оказалось стереть прошлую жизнь человека и соорудить новую версию его личности, неодолимую, которую, кажется, не побороть!
Король Карл I заявлял, что суд, вынесший ему смертный приговор, не имел над ним юрисдикции. Это не помешало Оливеру Кромвелю отрубить ему голову.
Он не был королем. Он был автором книги.
Он смотрел на журналистов, смотревших на него, и мелькнула мысль: не так ли разглядывают тех, кого ведут на виселицу, на электрический стул, на гильотину? Одного иностранного корреспондента, который, похоже, проникся к нему дружескими чувствами, он спросил, как ему относиться к заявлению Хомейни. Насколько это серьезно? Пустая пропагандистская угроза или нечто по-настоящему опасное?
– Не придавайте большого значения, – сказал ему журналист. – Президента Соединенных Штатов Хомейни каждую пятницу приговаривает к смерти.
Во время телепередачи, когда его спросили о его реакции на угрозу, он сказал: “Знал бы – написал бы еще более острую книгу”. Он гордился этим ответом – и в тот день, и неизменно потом. Это была правда. Он не считал, что очень уж остро критикует в своей книге ислам, но, как он заявил тем утром по американскому телевидению, религия, чьи лидеры так себя ведут, вероятно, заслуживает некоторой критики.
После интервью ему сообщили, что звонила жена. Он перезвонил домой.
– Сюда не возвращайся, – сказала она ему. – Тут тебя поджидают сотни две журналистов.
– Я поеду в агентство, – сказал он. – Собери сумку, и встретимся там.
Его литературное агентство “Уайли, Эйткен и Стоун” располагалось в белом здании с лепниной на Ферншоро-уд в Челси. Журналистов снаружи не было: мировая пресса явно не предполагала, что в такой день он отправится к своему агенту, – но, когда он вошел, все телефоны в здании звонили, и все звонки были о нем. Гиллон Эйткен, его британский агент, уставился на него с изумлением. Гиллон разговаривал по телефону с британцем индийского происхождения Китом Вазом, депутатом парламента от Восточного Лестера. Он прикрыл трубку рукой и прошептал:
– Хочешь с ним поговорить?
По телефону Ваз тогда сказал, что случившееся “ужасает, просто ужасает”, и пообещал свою “полную поддержку”. А через несколько недель он был одним из главных ораторов на демонстрации против “Шайтанских аятов”, в которой участвовало более трех тысяч мусульман, и назвал это событие “одним из великих дней в истории ислама и Великобритании”.
Он обнаружил, что не в состоянии думать о будущем, что понятия не имеет, какие очертания теперь примет его жизнь, что не может строить планов. Он мог сосредоточиться только на ближайшем, а ближайшим была служба в память Брюса Чатвина. “Ну что, мой милый, – сказал ему Гиллон, – думаешь, тебе стоит ехать?”
Он принял решение. Брюс был его близким другом. “Стоит, не стоит – мне насрать, – сказал он. – Едем”.
Появилась Мэриан, глаза блестели слегка безумным блеском, ее вывела из равновесия атака фотографов, налетевших на нее, когда она вышла из дома 41 по Сент-Питерс-стрит. На следующий день этими глазами она будет смотреть с первых страниц всех газет страны. Одна из газет дала ее взгляду название, которое напечатала аршинными буквами: ЛИК СТРАХА. Она была немногословна. Он тоже. Сели в его черный “сааб”, и он повел машину через парк в Бэйсуотер. Гиллон Эйткенс озабоченным лицом, сложив пополам свою длинную томную фигуру, ехал на заднем сиденье.
Его мать и самая младшая из сестер жили в Карачи. Что их теперь ждет? Средняя сестра, давно отколовшаяся от семьи, жила в Беркли, штат Калифорния. Не опасно ли ей там будет? Самин, его сестра-погодок, жила с семьей в северном лондонском пригороде Уэмбли, недалеко от знаменитого стадиона. Как их защитить? Его сын Зафар, которому было девять лет и восемь месяцев, жил со своей матерью Клариссой в доме 60 по Берма-роуд, около Грин-Лейнз и Клиссолд-Парка. Десятый день рождения Зафара казался в тот момент далеким-далеким. “Папа, – спросил его однажды Зафар, – почему ты не пишешь таких книжек, чтобы я мог их читать?” Это заставило его вспомнить строчку изSt. Judy’s Comet –колыбельной песни Пола Саймона для его младшего сына. Если я не могу моего малыша убаюкать – чего она стоит, вся моя популярность? “Хороший вопрос, – ответил он Зафару. – Дай только окончить книгу, которую сейчас пишу, и тогда возьмусь за книгу для тебя. Договорились?” – “Договорились”. Книгу он окончил, она вышла в свет, но написать новую он вряд ли успеет. Обещание, данное ребенку, нельзя нарушать, подумалось ему, и его бурлящий мозг тут же сделал идиотскую добавку: но смерть автора – случай особый.
Мысль об убийстве была неотвязна.
Путешествуя пять лет назад с Брюсом Чатвином по “красному центру” Австралии, взяв в Алис-Спрингс на заметку граффити: СДАВАЙСЯ, БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТВОЙ ГОРОД ОКРУЖЕН, он с трудом поднимался на скалу Айерс-Рок, в то время как Брюс, гордый своим недавним восхождением к базовому лагерю на Эвересте, бодро скакал вперед, словно по самому пологому из склонов, а местные проводники рассказывали про так называемое “дело о ребенке и динго”5; в захудалом “Инланд-мотеле”, где они остановились, годом раньше тридцатишестилетний водитель-дальнобойщик Дуглас Крабб обиделся на бармена, отказавшегося налить ему еще, потому что он и так уже был хорош, начал грубить, был вышвырнут и тогда, сев за руль своего грузовика, на полном ходу врезался в бар и убил пять человек.
Крабб как раз давал показания в суде в Алис-Спрингс, и они зашли послушать. Шофер был одет скромно, глаза опущены, говорил тихим, ровным голосом. Он настойчиво утверждал, что он не из тех, кто способен так поступить, и на вопрос, почему он в этом настолько уверен, ответил, что водил грузовики много лет, “ухаживал за ними, как за своими собственными” (на этом месте – секундная пауза, и непроизнесенным словом в ней могло быть “детьми”), и вот так взять и разбить машину – совсем не в его характере. Лица присяжных, когда они это услышали, заметно посуровели, и стало ясно, что на оправдание ему рассчитывать нечего. “Я убежден, – прошептал Брюс, – что он говорит чистую правду”.
Бывают убийцы, для которых грузовики ценнее, чем люди. Пять лет спустя, возможно, другие убийцы уже отправились в путь, чтобы расправиться с писателем за кощунство, и вера – точнее, некое особое ее понимание – была тем грузовиком, который они любили больше, чем человеческую жизнь. Это кощунство, напомнил он себе, у него не первое. Восхождения на Айерс-Рок, вроде того, что совершили они с Брюсом, потом запретили. Скалу, священную для аборигенов, передали им обратно, вернув ей древнее название Улуру, и туристов перестали на нее пускать.
Именно тогда, в 1984 году, в самолете, на обратном пути из Австралии, он начал понимать, как написать “Шайтанские аяты”.
Служба в соборе Святой Софии – греческом православном соборе Фиатирской и Великобританской архиепископии, построенном и щедро украшенном но лет назад по образцу величественного византийского храма, прошла на звучном, таинственном греческом языке. В ритуалах была византийская пышность. Гур-гур-гур Брюс Чатвин, выводили священнослужители, гур-гур Чатвин гур-гур. Вставали, садились, преклоняли колени, вставали, опять садились. Стояла крепкая вонь от священных каждений. Он вспомнил, как в детстве, когда они жили в Бомбее, отец в мусульманский праздник Ид уль-Фитр повел его молиться. Наидгах — молитвенном поле – звучал только арабский, коленопреклоненные люди стукались о землю лбами, вставали на ноги, делали перед собой из ладоней подобие раскрытой книжки, бормотали незнакомые слова на непонятном ему языке. “Просто делай как я”, – сказал ему отец. Семья была не религиозная, и в таких ритуалах они участвовали крайне редко. Он не выучил никаких молитв и не знал, что они означают. Лишь имитировал, бывало, чужие движения и бормотал, не понимая, заученные фразы. И поэтому бессмыслица церковной службы на Москоу-роуд показалась ему знакомой. Они с Мэриан сидели рядом с Мартином Эмисом6 и его женой Антонией Филлипс. “Мы за тебя очень беспокоимся”, – сказал Мартин, обнимая его. “Я и сам за себя беспокоюсь”, – отозвался он. Гур-Чатвин-гур-Брюс-гур. На один ряд дальше от алтаря сидел писатель Пол Теру. “Ну что, Салман, на следующей неделе твоя очередь отпеваться?” – спросил он.
Когда они приехали, у церкви была всего какая-нибудь пара фотографов. Писателей папарацци обычно не слишком жалуют вниманием. Но во время службы журналисты один за другим начали проникать в церковь. Одна непостижимая религия предоставила площадку для новостного сюжета, порожденного непостижимо зверской атакой со стороны другой религии.Один из худших аспектов случившегося, – писал он позднее, – в том, что непостижимое стало постижимым, невообразимое – вообразимым.
Служба завершилась, и журналисты стали проталкиваться к нему. Гиллон, Мэриан и Мартин пытались его от них оградить. Один особенно настырный серый субъект (серый костюм, серые волосы, серое лицо, серый голос) протиснулся через толпу, выставил микрофон и принялся задавать очевидные вопросы.
– Извините, – сказал он серому, – но я здесь на церковной службе в память моего друга. Неподходящее место для интервью.
– Вы меня не поняли, – озадаченно проговорил тот. – Я из “Дейли телеграф”. Меня послалиспециально.
– Гиллон, выручай, – попросил он.
Огромного роста Гиллон наклонился к репортеру и твердо, своим самым величественным тоном, произнес:
– А ну пошел в задницу.
– Вы не имеете права так со мной разговаривать! – возмутился сотрудник “Телеграф”. – Я выпускник частной школы.
На этом смешное закончилось. Когда он вышел на Москоу-роуд, журналисты роились там, как трутни, осаждающие пчелиную матку, фотографы забирались друг другу на плечи, образуя шаткие конструкции, стреляющие вспышками. На мгновение он растерялся – стоял моргал, не знал, куда двинуться.
Казалось, от них не спастись. Дойти до машины, припаркованной в ста шагах, невозможно было без свиты из людей с фотоаппаратами, людей с микрофонами, выпускников всевозможных школ, посланных специально. Избавителем стал его друг Алан Иентоб, телевизионщик с Би-би-си, с которым он познакомился восемь лет назад, когда Алан сделал документальный фильм для телесериала “Арена” – о молодом писателе, чей недавно опубликованный роман “Дети полуночи” имел успех. У Алана был брат-близнец, но многие говорили: “Салман – вот кто выглядит как твой близнец”. Они с Аланом возражали, однако такое мнение бытовало. И в тот день для Алана явно было предпочтительней, чтобы его не принимали за его неродного “близнеца”.
Алан в машине Би-би-си подкатил прямо к церкви. “Залезай”, – скомандовал он, и они уехали, оставив позади крикливых журналистов. Некоторое время ездили вокруг Ноттинг-Хилла, пока толпа около церкви не рассосалась, потом направились к припаркованному “саабу”.
Они с Мэриан сели в его машину – и вдруг оказались одни, тишина тяжко давила на обоих. Радио в машине включать не стали, зная, что новости будут напичканы злобой. “Куда двинемся?” – спросил он, хотя оба знали куда. Мэриан недавно сняла маленькую полуподвальную квартирку в юго-западном углу площади Лонсдейл-сквер в Излингтоне, недалеко от дома на Сент-Питерс-стрит, – якобы для того, чтобы там работать, но на самом деле из-за нараставшего напряжения между ними. О существовании этой квартиры знали очень немногие. Там они могли укрыться на время, оценить ситуацию и принять какие-то решения. В Излингтон ехали молча. Говорить было не о чем – так казалось.
Мэриан была отличная писательница и красивая женщина, но он порой обнаруживал в ней то, что ему не нравилось.
Переехав к нему, она оставила на автоответчике его друга Билла Бьюфорда, редактора журнала “Гранта”, сообщение, что ее телефон изменился. “Мой новый номер тебе, может быть, знаком, – услышал Билл дальше, а затем, после паузы, которая его встревожила, прозвучало: –Я его захомутала”. Он сделал ей предложение в сумятице чувств из-за смерти отца в ноябре 1987 года, и отношения между ними довольно быстро начали портиться. Все его лучшие друзья – Билл Бьюфорд, Гиллон Эйткен, американский коллега Гиллона по агентству Эндрю Уайли, актриса и писательница из Гайаны Полин Мелвилл – и сестра Самин, которая неизменно была ему ближе, чем кто бы то ни было, в один голос стали признаваться, что никогда не были от нее в восторге. Если у тебя в семье нелады, подобные дружеские признания, конечно, вещь обычная, и он делал на это скидку, – но он сам несколько раз поймал ее на лжи и был этим потрясен. За кого она его держит? Она часто выглядела недовольной и имела привычку, говоря с ним, смотреть куда-то через его плечо, точно обращалась к призраку. Она всегда привлекала его умом, остроумием, и это никуда не исчезло, как и физическое влечение: хороши были ниспадающие волны ее рыжеватых волос, ее полные губы, ее широкая американская улыбка. Но она стала ему непонятна, и он ловил себя на мысли, что женат на незнакомке. На женщине в маске.
Однако в это послеполуденное время их личные затруднения выглядели малозначащими. В этот день по улицам Тегерана шли толпы с плакатами, на которых было его лицос выколотыми глазами, похожее на лица трупов в “Птицах” с почерневшими, окровавленными, расклеванными глазницами. Вот каким был сюжет дня: несмешная валентинка, полученная им от этих бородатых мужчин, от этих закутанных женщин, от этого умирающего у себя в комнате злобного старика, пожелавшего напоследок увеличить свою особую мрачную, смертоносную славу. Придя к власти, имам уничтожил многих из тех, кто привел его к ней, он убивал всех, кто ему не нравился. Профсоюзных деятелей, феминисток, социалистов, коммунистов, гомосексуалистов, проституток, а также своих бывших приспешников. В “Шайтанских аятах” был выведен такой имам – имам, ставший чудовищем, чья огромная пасть пожирает его собственную революцию. Реальный имам вовлек свою страну в бессмысленную войну с соседним государством, в которой, пока старик не дал отбой, погибли сотни тысяч его молодых сограждан – целое поколение. Имам заявил, что помириться с Ираком – все равно что принять яд, и он принял-таки его. После этого мертвые возопили против имама, и его революция стала непопулярна. Понадобился способ мобилизовать ее сторонников, и для этого пригодились книжка и ее автор. Книжку объявили дьявольской, автора – дьяволом, и так возник враг, в котором имам нуждался. Этим врагом был писатель, затаившийся в полуподвальной квартире в Излингтоне вместе с женой, с которой они было почти расстались. Вот что представлял собой дьявол, необходимый умирающему имаму.
Школьный день уже кончился, и ему надо было повидаться с Зафаром. Он позвонил Полин Мелвилл и попросил ее побыть с Мэриан, пока он съездит к сыну. В начале восьмидесятых она была его соседкой на Хайбери-Хилле – щедро жестикулирующая, сердечная, смешанного происхождения женщина с блестящими глазами, актриса, готовая бесконечно рассказывать разные разности – про родную Гайану, где один из ее предков Мелвиллов познакомился с писателем Ивлином Во, показывал ему страну и, по ее словам, послужил прототипом мистера Тодда из “Пригоршни праха”, старика с причудами, не отпускавшего Томми Ласта из своего домика в джунглях и заставлявшего его без конца читать ему вслух Диккенса; про то, как она вызволила своего мужа Ангуса из Иностранного легиона, стоя у ворот форта и крича, пока его не отпустили; про то, как она играла маму Адриана Эдмондсона в популярном комедийном телесериале “Молодежь”. Выступая с комическими номерами на эстраде, она изобрела мужской типаж – субъекта, который “сделался таким опасным и страшным, что пришлось перестать его играть”, сказала она. Она записала несколько своих историй про Гайану и показала ему. Получилось очень-очень здорово, и ее первую книгу “Оборотень”, в которой они были собраны, приняли весьма благосклонно. Этой твердой, практичной и преданной друзьям женщине он доверял безоговорочно. Она приехала тут же, не говоря ни слова, несмотря на свой день рождения и на то, что была невысокого мнения о Мэриан. Он с облегчением оставил Мэриан в полуподвале на Лонсдейл-сквер и один поехал на Берма-роуд. Прекрасный день с зимним солнцем, чье изумительное сияние казалось упреком далеко не прекрасным мировым новостям, уже кончился. Февральский Лондон, по которому школьники шли домой, был темен. Когда он подъехал к дому Клариссы и Зафара, полиция была уже там.
– А, вот и вы, – сказал ему полицейский. – Мы тут как раз думали, где вас искать.
– Что происходит, папа?
У сына было такое выражение лица, какого никогда не должно быть у девятилетнего мальчика.
– Я объяснила ему, – бодрым тоном промолвила Кларисса, – что тебя будут хорошенько охранять, пока эта туча не пройдет, а потом будет полный порядок.
Она обняла его, как не обнимала пять лет, с тех пор как они расстались. Она была первой женщиной, которую он любил. Они познакомились 26 декабря 1969 года, за пять дней до конца шестидесятых, когда ему было двадцать два, ей – двадцать один. Кларисса Мэри Луард. У нее были длинные ноги и зеленые глаза, в тот день она надела хипповское замшевое пальто, поверх тугих каштановых кудрей – головная повязка, и от сияния, которое она излучала, светлели все сердца. У нее были друзья в мире поп-музыки, которые прозвали ее Хэппили (это прозвище благополучно – happily – приказало долго жить вместе с шальным десятилетием, которое его породило), и была пьющая мать, а отец, бывший военный летчик, вернувшийся со Второй мировой контуженым, покончил с собой, прыгнувс крыши здания, когда ей было пятнадцать. У нее была гончая по кличке Безделушка, которая мочилась на ее кровать.
Bepul matn qismi tugad.