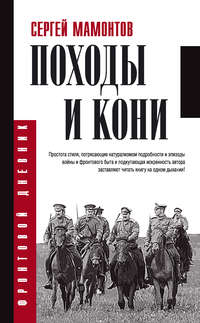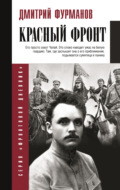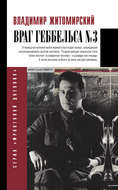Kitobni o'qish: «Походы и кони»
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Все очень быстро забывается.
Мне же повезло – у меня сохранился дневник, и я остался жив. Поэтому считаю своей обязанностью изобразить все, что видел.
Может быть, это пригодится будущему историку.
С. Мамонтов
До гражданской войны
Военное училище. Первый урок верховой езды
Половина нашего отделения выстроена в “маленьком манеже” (он громадный) для первого урока верховой езды. Нас шестнадцать человек. Мы волнуемся, потому что думаем, что верховая езда – это главный предмет.
Перед нами прохаживается наш отделенный офицер – штабс-капитан Жагмен. В глубине манежа солдаты держат орудийных лошадей. Вначале обучение происходит на громадных и грубых упряжных лошадях, и это оказалось очень хорошо. После обучения на этих мастодонтах, строевые лошади были для нас игрушками.
– Кто умеет ездить верхом – три шага вперед – говорит Жагмен.
Некоторые юнкера из вольноопределяющихся, побывавшие уже в батареях, выступили вперед. Остальные из студентов. Я был уверен, что умею ездить, и, превозмогая застенчивость, шагнул вперед. Мне думалось, что нас поставят в пример другим и дадут шпоры, которые мы еще не имели права носить.
Но Жагмен взглянул на нас со скукой, повернулся к унтер-офицеру и сказал:
– Этим вы дадите худших лошадей и поставите в конце колонны. Их будет трудней всего переучить.
Все мое вдохновение слетело, и, шлепаясь на строевой рыси, без стремян, на грубейшем мастодонте, я понял, что ездить не умею.
Долгие месяцы обучение состояло в ненавистной строевой рыси без стремян. Нужно научиться держаться коленями и не отделяться от седла, придав корпусу гибкость. Вначале мы зло трепыхались в седле, все почки отобьешь, мучаясь сами и мучая лошадь. После езды ноги были колесом, и старшие юнкера трунили над нашей походкой.
Но постепенно мы привыкли и даже могли без стремян ездить облегченной рысью. Мы стали чувствовать себя “дома” в седле и мечтали о галопе и препятствиях. Но Жагмен упорно продолжал строевую рысь без стремян. Только поздней я оценил его превосходную систему.
Когда впервые он скомандовал: “Галопом ма-а-рш!” (исполнительная команда растягивается, чтобы лошадь имела время переменить аллюр), поднялся невообразимый кавардак. Только немногие всадники продолжали идти вдоль стены манежа. Большинство же юнкеров потеряли управление лошадьми и скакали во всех направлениях. Жагмен посреди манежа защищал свою жизнь, раздавая длинным бичом удары по лошадям и по юнкерам.
Я шел галопом вдоль стены, когда юнкер Венцель на громадном коне врезался перпендикулярно в моего коня и отбросил нас на стенку. Стукнувшись о стену, я снова попал в седло и был удивлен, что это столкновение не причинило никакого вреда ни мне, ни моей лошади. Вообще не припомню в нашем отделении несчастных случаев за все время обучения.
Конечно, вскоре мы научились не балдеть на галопе и спокойно брать барьер без стремян.
Было одно исключение. Юнкер Смирнов бледнел каждый раз, когда слышал команду: «Перемена направления на барьер. Ма-а-рш!». У барьера он неизменно бросал повод и обеими руками вцеплялся в луку. Конь прыгал, а Смирнов, раскинув руки и ноги, как самолет, летел над конем и зарывался лицом в песок манежа. Ни уговоры, ни наказания не могли его отучить хвататься за луку. Хоть мы его жалели, но с нетерпением ждали этого зрелища, потому что это было смешно. Для него верховая езда была мукой.
Мы любили вольтижировку. Лошадь гоняли на корде. На ней была подпруга с двумя рукоятками. Юнкера по очереди подбегали к лошади изнутри круга, хватались за рукоятки, отталкивались от земли и садились на лошадь. Вновь спрыгивали, отталкивались и садились. Так несколько раз. Потом перепрыгивали через лошадь и, что трудней, извне снова садились на ее спину. И уступали место следующему юнкеру. Вначале ничего не получалось. Но стоило уловить темп – все делалось само собой одним галопом лошади.
Очень интересна была типология – наука сложения и болезней лошади. Приводили вороную лошадь, и лектор рисовал мелом на ней ее внутренности. Он начинал свои лекции (конечно, нарочно) с фразы:
– Лошадь делится на три неравные половины. Голова, туловище и ноги.
Тут мы кое-чему научились.
Наука была очень хорошо поставлена. Особенно блестящ был профессор артиллерии полковник Гельбих. С интересом мы слушали теорию вероятности.
В училище были две батареи и два курса. Старший, 9-й ускоренный курс, состоял из кадет и был очень дисциплинированный. Нашего, младшего, 10-го курса немного побаивались, потому что мы были студентами. Но мы оказались тоже дисциплинированы, и юнкера сумели во время революции сохранить порядок и всех офицеров, обуздать склонных к расхлябанности солдат и сохранить даже наши лагеря в Дудергофе. Не все училища показали такую спайку.
Цука* у нас почти не было, хоть мы относились с почтением к старшим юнкерам. Когда мы стали старшими, то я раз цукнул молодого юнкера, не уступившего места в трамвае раненому офицеру. Я был младшим фейерверкером с двумя лычками, то есть портупей-юнкером.
В каждой батарее было по 10 отделений по 32 человека, которые составляли по четыре взвода в батарее. Два старших и два младших. Всего юнкеров было 640 человек, 150 солдат и человек 35 офицеров.
Я попал во вторую батарею, в 8-е отделение, номер 258.
Строились обе батареи в белом зале – огромном и красивом помещении, выходившем на Забалканский проспект, сад выходил на Фонтанку.
Первая батарея шла размеренным шагом, мы же, вторая, семенили.
Позднее, чтобы “товарищи” не завладели зданием, мы, юнкера, спали в белом зале.
Кормили нас хорошо и прекрасно учили. Я сохранил самые теплые чувства к училищу.
Революция
Поступил я в Училище 21-го февраля 1917 года. 28-го февраля сидел я на подоконнике в белом зале и зубрил, с полным отчаянием, тезоименитства всего дома Романовых. Это должен был быть первый экзамен, и я боялся получить плохую отметку. Я даже точно не знал своих собственных именин, а семья Романовых была многочисленна, и дело казалось мне безнадежным. Запомнить все даты просто немыслимо. А получить хорошую отметку на первом экзамене было важно – ведь по ней будут судить остальные профессора.
Было часов 5 вечера. Вдруг по улице проехал какой-то странный грузовик… еще один, полный расхлябанными солдатами. Очень странно. Публика на тротуарах тоже на них смотрела. Подошел юнкер и вполголоса сказал, что в городе беспорядки. Через некоторое время другой сказал, что казаки вместо разгона братаются с демонстрантами. Потом появились на улице люди с красными бантами. Кое-где в городе стали слышны выстрелы.
Первое чувство было беспокойство. Неужели революция? О ней давно говорили, но все же она случилась неожиданно. Зубрить тезоименитства я уже не мог. Мелькнула мысль: если революция, то этого экзамена ведь не будет. Из-за этого я стал ожидать революцию. Как мелки и эгоистичны человеческие побуждения!
Мой сосед по кровати юнкер Радзиевич, грузин, оказался большевиком, но объяснить мне сущность большевизма не мог. Был дубоват. Как-то так случилось, что его послали представлять Училище в Думе. Но он говорил совсем не то, что думали юнкера. Юнкера его выгнали из Училища.
На второй или третий день революции вооруженная и возбужденная толпа потребовала роспуска юнкеров. Помню трясущегося начальника Училища генерала Бутыркина, а я вышел со счастливой улыбкой, потому что получил неожиданный отпуск. Но моя улыбка и мой восторг вскоре исчезли. Революция хороша лишь в книгах, много позже, но не на улице, когда она происходит. Тут грабили, громили магазины, избивали все одного, совершенно неизвестно за что. На улицу вышли подонки, чернь и солдатня, потерявшие человеческий образ. Все искали, чем бы попользоваться, украсть, а то и просто ограбить. Народ, крестьяне, в революции не участвовали. И на каждом углу демагогические речи. Просто какой-то понос речей с бесстыднейшим враньем и подлой лестью. Грязь, вонь, глупость, злость и безграничное хамство. Все худшие чувства вылились потоком наружу, как только исчез с угла городовой и появилась безнаказанность. Потом говорили, что революцию сделали наполовину социалисты, по глупости, и наполовину агенты центральных держав, с которыми мы были в войне. Немцам русская революция обошлась дорого. Но и союзники давали на нее деньги.
Мы стояли на углу улицы, когда окна над нами разлетелись. Толпа разбежалась, а мы, юнкера, ничего не понимая, продолжали стоять. Это была пулеметная очередь. Другие думали, что мы храбрецы, а мы были всего только дураками.
Я пошел к дяде Федору Николаевичу Мамонтову и провел у него на квартире три дня. Конечно, больше на улице, чтобы все видеть. Повидал я многое: убийства, грабежи, поджоги и хамство. Ничего красивого и героического не видел. В книгах, думается, все красивое придумано.
Вернулся я в Училище гораздо меньшим революционером, чем вышел из него три дня назад. Какая прекрасная вещь порядок. Его только начинаешь ценить, когда его нет. Все же эти три дня принесли мне немалую пользу – никакая пропаганда меня больше не прошибет. Я видел революцию воочию и во всей ее “красоте”.
Случилось так, что я никогда никому не присягал. Ни царю, ни Временному правительству, ни большевикам. Другим приходилось присягать всем трем. Я никогда не принадлежал к политической партии и не голосовал. Нет вещи гаже политики.
А не присягал я вот почему. В день присяги меня назначили караульным начальником к денежному ящику, в отдаленной части Училища. У меня были три юнкера часовых. Пришел адъютант начальника Училища, сказал пароль и велел увести часового.
– Мне надо тут работать, – сказал он.
Мы находились в соседней комнате. Я заметил, что прошло немало времени, а адъютант меня все не зовет. Пошел взглянуть и ахнул. Дверь канцелярии раскрыта, в комнате никого, и дверь денежного ящика распахнута.
Я взял двух часовых и поставил их в раскрытых дверях, запретив входить в комнату и впускать кого-нибудь. Сам же стремглав помчался к дежурному офицеру, моему прямому начальству, доложил и так же бегом к моим часовым. Я был обеспокоен: не пропали ли деньги или документы из денежного ящика. Вскоре явился адъютант и запер денежный ящик. Никакой истории, слава Богу, не было. А для присяги нас четырех просто забыли. А мы и не протестовали.
Генерал Мамонтов
Первым экзаменом была фортификация. Было важно получить хороший балл.
– Мамонтов… Мамонтов… Вы не родственник инспектору артиллерии генералу Мамонтову? – спросил меня капитан-экзаменатор.
Я знал, что не родственник, но генерал, да еще инспектор артиллерии мог оказать протекцию в Училище.1
Так точно, господин капитан, – ответил я без запинки. Как он вам приходится? Двоюродным дядей, господин капитан. А где его старший сын?
Где он мог быть, сын генерала?
На фронте, господин капитан. А второй сын?
Капли пота выступили на моем лбу. Вдруг спросит, как их зовут. Что я отвечу?
– Тоже на фронте, господин капитан.
Пот все сильней выступал на лбу. Я стоял “смирно” и отереть его не мог.
– А третий сын?
Господи, да сколько же их? Пот стал капать с носа.
– Не знаю, господин капитан.
Увидя капающий пот, капитан прекратил расспросы и приступил к экзамену.
Я получил 12 – высший балл.
На Пасху я получил отпуск на несколько дней в Москву. На Арбатской площади я услыхал военную музыку. Хоронили кого-то на лафете орудия. Меня интересовало, как прикрепляется гроб к орудию. Ведь раз я стал артиллеристом, то и меня будут хоронить на лафете. Я прихвостился к идущим за гробом и помаленьку стал продвигаться вперед. Но рассмотреть было трудно, потому что гроб был завален венками. Вот уж я в первом ряду, рядом со вдовой. Нарочно роняю перчатку и, поднимая ее, стараюсь взглянуть снизу, на чем же стоит гроб? В это время ветер разворачивает ленту венка, и я читаю: Генералу Мамонтову. Не верю глазам. Мелькает мысль, не на свои ли похороны попал каким-то оккультным образом? Смотрю внимательно на вдову и на окружающих – никого не узнаю. Замедляю шаг и в задних рядах спрашиваю кого-то:
Скажите, пожалуйста, кого хоронят? Генерала Мамонтова, инспектора артиллерии из Гродно.
Тогда я вспомнил экзамен фортификации, зашел вперед и встал на тротуаре во фронт и отдал честь генералу, оказавшему мне невольную протекцию.
Неудавшийся переворот
Вскоре выяснилась полная бездарность министров Временного правительства. Они говорили речи и бездействовали. Далеко им было до прежних министров, которых они так ругали. Великая Россия поручила свою судьбу маленькому болтливому присяжному поверенному Керенскому. Разруха увеличивалась. На этом фоне ничтожеств вдруг появился генерал Корнилов, бежавший из плена. Все надежды обратились к нему. Его назначили начальником Петроградского военного округа.
13-го марта 1917 года я был дневальным и с шашкой на боку и в фуражке шел по бесконечным коридорам Училища. Мне навстречу шел офицер. Это не был офицер Училища. Он был в защитном полушубке и в серой папахе. Сердце мое дрогнуло – я узнал по фотографиям генерала Корнилова. Я встал во фронт.
– Вы в наряде, юнкер?
Так точно, Ваше Превосходительство! (А не “господин генерал”.) Скажите юнкерам уйти из орудийной каморы, мне она нужна.
Две комнаты с моделями орудий служили курильней и всегда были полны юнкерами. Мелькнула мысль: значит, он окончил наше Училище, раз знает об орудийной каморе. Я влетел туда вихрем.
– Выходите все. Генерал Корнилов тут и хочет камору для себя.
Все расхохотались, приняв это за шутку.
– Не валяйте дурака. Он тут в коридоре, посмотрите сами.
Некоторые посмотрели и вышли, другие же продолжали гоготать. Но Корнилов вошел, и они вскочили в положении “смирно”.
– Останьтесь перед дверью и отгоняйте любопытных. Я жду офицеров.
Примчался начальник Училища генерал Бутыркин, застегивая мундир. Я хотел было ему рапортовать, но он отмахнулся и повторил приказание Корнилова. Офицеры стали прибывать один за другим. Генералы и полковники. Было их человек 25–30. Было ясно, что в нашей каморе происходит какое-то важное совещание. Там даже стульев не было, сидеть можно было на лафетах и на подоконниках. Совещание длилось минут двадцать, затем так же разошлись по одному, по два. Вышел и Корнилов, не обратив на меня внимания. Я заглянул в камору, она была пуста.
На следующий день, 14-го марта 1917 года, с утра, старший курс запряг обе наши батареи, мы же, 10-й курс, шли пешком в строю. Все вышли на улицу. В то время дефилировать по городу было модно, и это никого не удивило.
Но проходя мимо Владимирского пехотного училища, мы увидели, что юнкера с винтовками на плечах вышли из Училища и пошли за нами. А когда мы подходили к Павловскому пехотному училищу, то увидели все Училище, построенное уже на улице. Оно дожидалось нашего прихода и тотчас же двинулось дальше. Тут мы навострили уши – это неспроста. Образовалась очень внушительная колонна из трех Училищ: Павловское, наше и Владимирское. Мы вышли на обширную Дворцовую площадь перед Зимним дворцом. Тут уже были выстроены несколько юнкерских Училищ. Мы пристроились. Все новые колонны юнкеров подходили и выстраивались. Под конец тут были собраны все военные училища Петрограда и окрестностей. Во всех Училищах были знакомые, и мы вскоре узнали, что все вооружены и с патронами. По нашим расчетам нас было 14 000 человек, лучших в то время войск в России: дисциплинированных, молодых, храбрых и не рассуждающих. Корнилову удалось собрать такую силу в центр города, и собрать тайно ото всех. Сомнений не было: будет переворот. Мы были в восторге. В Петрограде нет силы, способной оказать нам сопротивление. Полки потеряли дисциплину, порядок и офицеров, а многие, вероятно, к нам присоединятся.
Мы были настроены воинственно.
Но драгоценное время шло, а Корнилов все не являлся.
Преимущество неожиданности терялось. Красные успели принять меры, а мы изнывали от бездействия. Пыл наш падал.
Как мы потом узнали, против нас в Зимнем дворце Керенский уговаривал Корнилова ничего не делать и… уговорил. Единственным, кто показал нерешительность, оказался сам Корнилов. Такой благоприятный момент был им непростительно упущен.
Наконец Корнилов показался на балконе Зимнего дворца. Мы встрепенулись. Он пропустил нас как на смотру и вместо приказа действовать, заговорил…
Речи мы не слушали, всем уже осточертели речи.
Нас разрозненными колоннами провели по городу для демонстрации. (Разрозненными, чтобы легче с нами справиться, если мы чего устроим.)
Шли мы плохо, хотелось есть, рыхлый снег промочил ноги, а главное, было досадное чувство провороненного переворота. Воинственности больше не было. Поздно вечером вернулись в Училище голодные, мокрые и злые.
* * *
Корнилова, конечно, удалили из Петрограда. Юнкерские училища взяли под красный надзор, чтобы они не могли больше собраться воедино. Когда в сентябре Корнилов двинул против Петрограда конный корпус генерала Крымова, было уже поздно. Казаки замитинговали, а училища не могли прийти на помощь, да и состав юнкеров был уже не тот. Генерал Крымов застрелился. Корнилов был арестован в Быхове. Он бежал на юг, организовал и возглавил Белое Движение на Дону. Он был хорошим генералом и организатором. Корнилов был убит под Екатеринодаром. Зная его, непонятно, как мог он проявить слабость 14-го марта 1917 года.