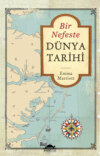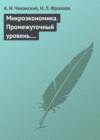Kitobni o'qish: «Счастливый Петербург. Точные адреса прекрасных мгновений»
© Всеволодов Р. С, текст, 2018
© «Страта», оформление, 2018
* * *
У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание…
Э. М. Ремарк
Многие петербургские дома украшены мемориальными табличками. Высеченные на мраморе, граните или металлическом сплаве, даты вступают в спор со скоротечностью жизни. Человека уже нет на свете, но он как будто все равно присутствует здесь, благодаря памяти потомков не покидая дом, в котором когда-то жил.
Однажды я подумал: а что, если бы на домах появились таблички, сообщающие нам, что за теми или иными окнами прожил свои самые счастливые мгновения какой-нибудь замечательный человек?
Конечно, понятие счастья каждый толкует по-своему. Однажды совсем еще юный Володя Высоцкий задал вопрос маме: «А что такое счастье?» – Мама, как могла, объяснила ему. На следующий день вернувшийся из детского сада мальчик торжественно объявил: «У нас сегодня было счастье. Манная каша без комков».
Однако о своих счастливых минутах никто не молвит всуе. Каждый бережет их в своей памяти, даже если редко о них говорит.
Когда я просил современных писателей (им посвящена вторая часть книги) назвать свои «счастливые адреса», их взгляд, голос (с кем-то я говорил на расстоянии, по телефону) теплел. Из признаний замечательных литераторов, художников, композиторов сложился необычный путеводитель точных адресов счастливых петербургских мгновений.
Авторы книги о доме Мурузи А. Кобак и Л. Лурье писали: «Каждый дом говорит с нами на двух языках. Его архитектура приоткрывает историю движения и смены эстетических предпочтений: то, что при строительстве воспринималось как последний крик моды, через десять лет может оказаться образчиком безвкусия, потом вызвать ностальгию, а еще позже, отойдя в далекое прошлое, превратиться в эстетический шедевр. Возможен и другой подход. Под крышей каждого дома проживали тысячи людей. Изучение судьбы этих людей, быть может, и есть, в первом приближении, воскрешение отцов. Эти два языка сливаются тогда, когда мы начинаем понимать, что каждый дом – это поле огромного числа связывающих друг друга смыслов».
Дом, в котором кто-то был счастлив, – это всегда особенный дом.
Автор
Часть первая
Классики
Глава 1
Невский проспект, 68 / Фонтанка, 40 – Федор Достоевский
В наше время имя Виссариона Белинского ассоциируется с хрестоматийной классикой, школьной программой. Трудно найти тех, кто зачитывался бы его критическими статьями как увлекательным детективом, восторженно цитировал бы наизусть пассажи из его сочинений. А ведь когда-то Белинский был властителем дум, его вдохновенные статьи делали шуму больше, чем самые рейтинговые современные телевизионные скандальные передачи.
Огромное значение Белинского признавали даже те, кто презирал его. Например, Иван Аксаков, называвший сочинения знаменитого критика «объедками чужих мыслей», говорил при этом с усмешкой: «Его “Письмо к Гоголю” лежит у каждого учителя провинциальной гимназии вместо Евангелия».
Сохранились свидетельства современников, согласно которым Белинский в один день пришел к знакомым с восклицанием: «Подлец тот, кто не верит в бессмертие души!». А на другой день, заглянув к ним же, заявил: «Мерзавец тот, кто верит в бессмертие души!». Но даже самые непримиримые враги страстного публициста единодушно отмечали бескорыстность его убеждений, огромную силу воздействия его пламенных статей.
Герцен свидетельствовал:
«Статьи Белинского ожидались молодежью в Москве и Петербурге каждый месяц в день выхода журнала, где он печатался. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли “Отечественные записки”, тяжелый номер рвали из рук в руки.
– Есть Белинского статья?
– Есть.
И она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами».
Если Петр Вяземский осуждающе назвал Белинского «бунтовщиком, который за неимением у нас возможности бунтовать на площадях бунтует в журналах», то Ленин это свойство счел за несомненное достоинство. Неудивительно, что при такой высокой оценке творческого наследия Белинского самим Ильичом именем вдохновенного критика в советское время были названы сотни улиц и площадей.
Но до посмертной славы своей Белинский был связан прежде всего с домом 68 на углу Невского проспекта и Фонтанки.
В начале XIX века дом этот приобрел оборотистый купец Федор Лопатин. Купцу хотелось размаха, и он нанял архитектора, чтобы тот перестроил корпус, выходящий на Фонтанку. Дом, имевший теперь почти сотню квартир, был одним из самых (если не самым) больших доходных домов Петербурга.
Этому дому предстояло стать одним из главных литературных центров города. Здесь поселился редактор «Современника», здесь же квартировал первый издатель «Литературной газеты». Тут снимал квартиру Тютчев, чтобы быть поближе к предмету своего внезапного увлечения.
Но дом получил особый, хоть и неофициальный статус, когда в нем поселился Белинский. Вокруг него в этих стенах бурлила жизнь. Не счесть имен впоследствии именитых писателей, мэтров отечественной словесности, которые приходили сюда за благословением прославленного критика.
Было время, когда он определял литературные репутации, когда одного его доброго слова было достаточно, чтобы молодой неокрепший талант поверил в себя.
Некрасов, Тургенев, Григорович, Гончаров – не счесть имен тех, кого «благословил» Белинский, кому своим участием помог утвердиться в литературе.
Дом Лопатина и квартиру Белинского можно найти в воспоминаниях отечественных классиков, которые в пору своей молодости приходили за этим благословением к нему прямо домой.
До наших дней сохранились описания одного из центров тогдашней литературной жизни Петербурга, квартиры Белинского.
Павел Анненков в книге «Замечательное десятилетие» так описывал ее: «Белинский, уже женатый, занимал небольшую квартиру на дворе дома Лопатина, которого лицевая сторона выходила на Аничкин мост и Невский проспект. В этом помещении Белинский предоставил себе три небольшие комнаты, из коих одна, попросторнее, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьяновым диваном с обязательными креслами вокруг него, а третья – нечто вроде глухого коридорчика об одном окне – предназначалась для его библиотеки и кабинета, что подтверждали шкаф у стены и письменный стол у окна. Впрочем, сам хозяин нисколько не подчинялся этому распределению: в столовой он постоянно работал и читал, а диван гостиной служил ему большею частию ложем при частых его недугах; в кабинет он заглядывал только для того, чтоб достать из шкафа нужную книгу. Две задние комнаты занимала его семья, умножившаяся вскоре дочерью Ольгою».
«Его небольшая квартира, – вспоминает Иван Панаев, – у Аничкова моста, в доме Лопатина, отличалась, сравнительно с другими его квартирами, веселостию и уютностию. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою “Обыкновенную историю”».
Именно в этой квартире довелось пережить одни из самых счастливейших часов в своей жизни никому тогда еще не известному молодому дарованию – Федору Достоевскому.
Сам Достоевский снимал в ту пору квартиру в Графском переулке (Владимирская, 11). Робкий, стеснительный юноша выбрал именно это место для своего проживания по той только причине, что ему очень понравился любезный хозяин дома. Он прямо-таки очаровал молодого Федора своей деликатностью.
Снятая квартира находилась на втором этаже и состояла из двух комнат. Дабы разделить поровну бремя платы за съемное жилище, в той же квартире с Достоевским чуть позже поселился близкий товарищ юных лет – Дмитрий Григорович. Они учились с Достоевским в Инженерном училище и подружились, несмотря на разницу темпераментов.
Григорович был импульсивен, открыт, задирист, Достоевский – замкнут, скрытен, скромен. Но Григорович раньше всех других разглядел в своем товарище какой-то особый дар. Он удивлялся начитанности сверстника, взрослости его суждений, мудрости наблюдений и всей душой тянулся к нему. Он очень жадно прислушивался к советам Достоевского относительно своего творчества и не обижался на самые суровые критические замечания.
Как-то Григорович прочитал другу свой очерк. Достоевский сдержанно похвалил его и сделал замечание. У Григоровича было написано: «Когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика».
– Не то! Не так! – воскликнул Достоевский, – это слишком сухо! Что это, «пятак упал к ногам»?! Так нельзя писать!
– А как же надо? – спросил растерянный автор.
– Пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая, – уверенно ответил Достоевский.
– Точно! – тут же согласился Григорович.
Вместо того чтобы обидеться на придирку товарища, Григорович потом вспоминал, что одно только это критическое замечание Достоевского открыло ему огромную разницу между сухим выражением и живым художественно-литературным приемом.
При такой редкой дружелюбности отношений оба товарища, конечно, не опасались поселиться в одной квартире. Друзья были неэкономны в средствах, и получаемые от родных ежемесячно деньги спускались в первые дни, а затем приходилось довольствоваться булками да ячменным кофе.
В этой квартире (в Графском переулке) Достоевский познакомил друга со своим переводом романа Бальзака (не все сейчас помнят, что начинал великий писатель как переводчик).
Григорович был совершенно очарован переводом. Но при этом он, хорошо зная товарища, предполагал, что тот ничего не сделает для продвижения своей рукописи. И Григорович решил действовать сам: уж если идти к кому, то к Белинскому! Вот кто по достоинству оценит работу молодого дарования! Он-то поймет, как здорово, как искусно переведен роман французского автора.
Григорович явился домой к Белинскому вместе с Некрасовым.
«Я ждал, как счастья, видеть Белинского, – вспоминал потом Григорович, – я переступал его порог робко, с волнением, заблаговременно обдумывая выражения, с какими я выскажу ему мою любовь к знаменитому французскому писателю. Но едва я успел коснуться, что Достоевский, имя которого никому не было тогда известно, перевел “Евгению Гранде”, Белинский разразился против общего нашего кумира жесточайшею бранью, назвал его мещанским писателем, сказал, что, если бы только попала ему в руки эта “Евгения Гранде”, он на каждой странице доказал бы всю пошлость этого сочинения».
Григорович был совершенно растерян. Вот уж таких слов он никак не ожидал здесь услышать!
«Я был до того озадачен, что забыл все, что готовился сказать, входя к Белинскому; я положительно растерялся и вышел от него как ошпаренный, негодуя против себя еще больше, чем против Белинского. Не знаю, что он обо мне подумал; он, вероятно, смотрел на меня как на мальчишку, не умевшего двух слов сказать в защиту своего мнения».
И все-таки именно в этой квартире Белинского Достоевскому вскоре предстояло прожить одни из самых счастливых часов своей жизни.
Григорович, конечно, зная болезненную впечатлительность своего товарища, ничего не сказал Достоевскому о холодном приеме Белинского. Он хотел чем-то отвлечь друга, но тот был одержим какой-то новой идеей, целыми днями не отходил от письменного стола.
– Ты что-то пишешь? – спрашивал Григорович. Достоевский молча кивал.
– Что? Делаешь новый перевод? Сочиняешь что-то сам?
– Потом, потом, – отмахивался Достоевский, не желая пока делиться сокровенным замыслом даже с ближайшим своим товарищем.
Но когда роман (а это был роман «Бедные люди») был закончен, Достоевский сам поспешил открыть другу свое творение. И если в первый раз тот был очарован искусностью перевода, то теперь потрясен, разбит, раздавлен. Григорович был абсолютно уверен – он стал первым слушателем настоящего шедевра.
Почти силой выхватил рукопись у Достоевского, побежал с ней к Некрасову, которому прочитал вслух с такой страстностью, что разрыдался на последних страницах. Некрасов был впечатлен.
Несмотря на четвертый час ночи, Григорович стал уверять Некрасова, что непременно надо пойти к не признанному еще никем гению и громогласно вдвоем объявить ему, что он – гений. Некрасов поначалу отказывался, но потом все-таки согласился.
Когда тебя будят посреди ночи и говорят, что ты гений, это, конечно, может несколько обескуражить. Поэтому Достоевский, открывши дверь Некрасову с Григоровичем, был изрядно растерян.
«Должен признаться, я поступил в настоящем случае очень необдуманно, – сетовал впоследствии Григорович. – Зная хорошо характер моего Достоевского, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его, не тревожить неожиданною радостью и вдобавок не приводить к нему ночью незнакомого человека; но я сам был тогда в возбужденном состоянии, в такие минуты здраво рассуждают более спокойные люди. На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность, но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа».
Лестные слова, конечно, были милы сердцу, но Некрасов в то время не был таким ярким авторитетом, как Белинский! Вот Белинский – да! Его одобрение воистину могло бы окрылить, дать силы, почувствовать призвание.
Некрасов с Григоровичем отдали рукопись Белинскому, тот прочел ее сначала с недоверием, но вскоре пришел в такой же сильный восторг.
И Достоевского повели домой к прославленному критику. Молодое дарование в силу природной робости очень волновалось.
«Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно, – вспоминал потом Достоевский. – Что ж, оно так и надо, – подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые хотел он мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: “Да вы понимаете ль сами-то, – повторял он мне несколько раз и вскрикивал, по своему обыкновению, – что это вы такое написали! – он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. – Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным – и будете великим писателем!”»
Сам Белинский сказал ему, что он будет великим писателем! Критик, один лишь росчерк пера которого способен создавать и разрушать литературные судьбы, цитирует наизусть целые предложения из его романа! Строгий судья стоит перед ним, как восторженный мальчишка! Мэтр склоняет перед ним голову, как перед истинным художником!
На этот раз Достоевский чувствовал себя абсолютно счастливым. Сам Белинский так горячо похвалил его!
«Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель)», – такие строки появились в «Дневнике писателя».
Но похвала так вскружила голову молодому романисту, что следующий свой роман он потребовал при публикации в журнале набрать особым шрифтом и каждый лист его поместить в особую рамку.
Внезапный прилив уверенности в своем предназначении привел к тому, что Достоевский с Григоровичем решили жить отдельно. Как-то больше не складывались их дружеские отношения. Дальнейшее хорошо известно. Достоевский попал на каторгу, где тяжелейшие физические и душевные испытания сделали из него совсем другого человека и совсем другого писателя. Но счастливые мгновения, пережитые им в квартире Белинского, поддерживали его в самые страшные дни.
«Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил», – писал Достоевский.
Есть такие счастливые события, которые озаряют всю нашу жизнь.
Что касается дома, где когда-то располагалась знаменитая квартира Белинского… Во время Великой Отечественной войны в здание попала фугасная бомба. В послевоенные годы здание было реконструировано. Но тот, легендарный ныне, дом исчез во Времени, растворился в небытии, переместившись из подлинной реальности в область воспоминаний и преданий.
Глава 2
Царское Село – Александр Пушкин
Незадолго перед женитьбой в письмах, разговорах Александра Пушкина слово «счастье» звучало все чаще. «Пора жить, то есть знать счастье. Только женившись, можно познать всю полноту жизни».
«До этого, – решил поэт, – он, пожалуй, и не жил вовсе».
Но, посватавшись к возлюбленной своей Наталье Гончаровой и встретив недовольство со стороны ее матушки, Пушкин вдруг начал сомневаться в себе. Только что он был уверен в своих силах, наперекор всему торопил женитьбу, – и вдруг сомнения. А сможет ли он сделать свою жену счастливой?
«Не мое счастье меня беспокоит – разве я не могу не быть счастливейшим из людей возле нее! – я волнуюсь, только думая о судьбе, которая, может быть, ее ожидает, я боюсь, что не смогу сделать ее столь счастливой, как я бы того хотел».
Несмотря на недовольство будущей тещи, которая числила Пушкина вовсе не гением, а самым незавидным женихом, согласие на брак все-таки удалось получить. Помолвка! Но к радости примешивалась тревога. Матушка невесты зло вопрошала: как, дескать, намереваются жить молодые, на что?
И Пушкин всерьез задумался над ее словами. Так уж ли безоблачно его будущее семейное счастье?
«Жениться! Легко сказать! Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок. Другие – приданое и степенную жизнь… Третьи женятся так, потому что все женятся – потому что им тридцать лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь, – напишут они, – я жертвую независимостью, моею беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?»
Он думал о счастии как обязательном условии своей семейной жизни.
Но матушка невесты слишком рьяно постаралась нарисовать самые мрачные картины будущей семейной жизни, коли Наталья выйдет замуж за Александра. И впечатлительная натура поэта прониклась жуткими видениями.
Начались сомнения. Жениться? Нет? Отложить свадьбу? Оставить в покое невесту?
После долгих мучительных размышлений Пушкин написал приятелю: «Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье лишь на проторенных дорогах. Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».
Через неделю после свадьбы он написал: «Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».
Настоящие безоблачные (правда, очень недолгие) дни прожила семейная чета в Царском Селе.
Вскоре после свадьбы Пушкин написал в письме приятелю такие строчки: «Остановиться в Царском Селе. Мысль благословенная! Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома, вероятно, ныне там недороги: гусаров нет, двора нет – квартир пустых много. Петербург под боком – жизнь дешевая, экипажа не нужно. Что, кажется, лучше?»
Главная радость жизни в Царском Селе – то, что и теща, и все назойливые знакомые оставили, наконец, в покое! Можно побыть вдвоем с женой, вдали от всяких родственников!
Однажды Пушкин уже был счастлив в Царском Селе. Очарованный сестрой одного из лицеистов, Катенькой Бакуниной, Пушкин признавался: «Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу – ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, – сладкая минута!.. Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее восемнадцать часов – ах! какое положенье, какая мука!.. Но я был счастлив 5 минут!..»
«Счастье и несчастье» вплотную прижаты друг другу. «Счастлив и несчастлив» почти сливаются в одно предложение.
Порой счастье длится меньше мгновения.
Bepul matn qismi tugad.