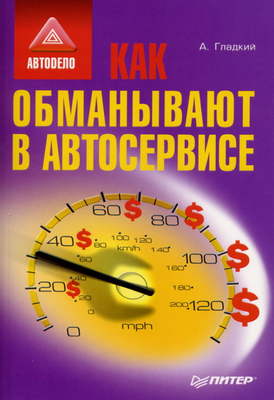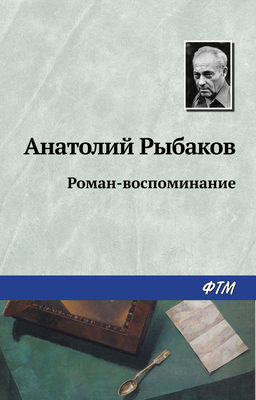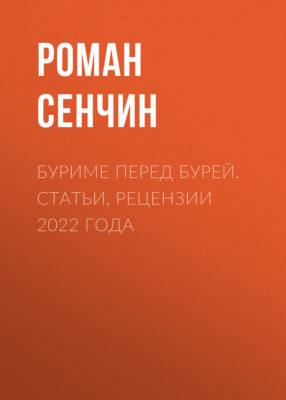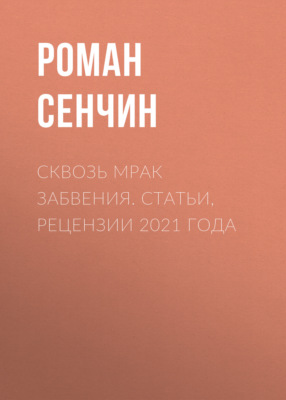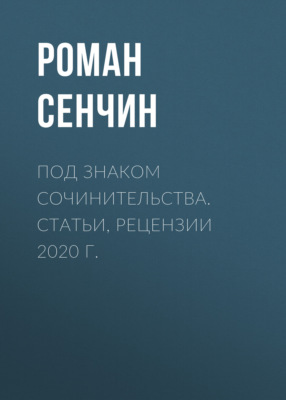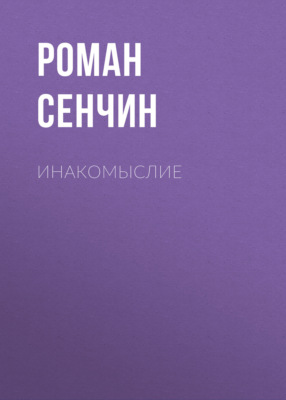Kitobni o'qish: «Абсолютное соло (сборник)»
АБСОЛЮТНОЕ СОЛО
Повесть
Шесть тысяч пятьсот метров над уровнем моря. Ледник Ронгбук. Мой штурмовой лагерь… Сразу при выходе из палатки глаза сами находят Вершину. Даже без бинокля в ясную погоду отлично видны ее уступы, карнизы, плечи, расселины. А если взять бинокль, она и вовсе оказывается рядом. Как это ни избито звучит, кажется – стоит вытянуть руку, и ухватишь с ее макушки горсть снега или камень на память… Но вот бинокль падает на грудь, и она отодвигается, но всё равно до странности, до боли в сжатых зубах близка. Два километра триста сорок восемь метров – расстояние, которое я пробегаю в долине за несколько минут, которое и здесь, на леднике, где воздух разрежен и неприемлем для жизни, могу преодолеть почти незаметно, там, чуть выше, с каждым метром растянется на много миль; там каждый шаг будет равен тысячам…
Привычно, как каждое утро, я смотрю на шкалу альтиметра, и не сразу понимаю, что вижу на ней. Лишь спустя какое-то время в голове горячим шаром лопается радость: давление поднялось, оно растет почти на глазах. Кажется… я боюсь утверждать, но кажется, наступил долгожданный перерыв в муссоне!.. Снова перевожу взгляд на Вершину, щиплю, колю, толкаю глазами тот ее склон, где должен пройти маршрут моего восхождения. Воздух поразительно чист, небо уже сейчас, за полчаса до восхода, почти голубое. Вокруг Вершины ни облачка… Да, перерыв в муссоне. Наконец-то мне представился шанс.
Хочется броситься обратно в палатку, растолкать Нину, скорее собрать рюкзак, надеть кошки и побежать. Побежать вот туда, к Северной седловине, взобраться на нее, потом повернуть направо, к стене Чанг Ла, и дальше, выше, выше, по Северо-восточному гребню, через кулуар Нортона… И – вот он – крошечный пятачок. Вросший в снег геодезический штатив, установленный когда-то китайцами скорее не для дела, а как бесспорное доказательство того, что они там побывали…
Три года назад я уже стоял рядом с этим штативом, я познал радость пребывания на высшей точке Земли, я видел бесконечную горную страну на востоке и естественное закругление планеты на западе; пятнадцать минут я был выше всех… Мой партнер по связке кашлял, сидя на корточках, – он не был для меня конкурентом…
Но что заставляет меня идти туда снова, на этот раз в одиночку, без кислорода, без скальных крючьев, веревки, даже без рации? Такое восхождение журналисты явно иронически называют «в альпийском стиле». По их представлению, это значит – быстренько, с ледорубом, как с тросточкой, туда, затем, так же быстренько, – обратно… Альпинисты не любят рассказывать о трудностях, поэтому у людей создается впечатление, что подняться на гору – плевое дело.
Когда я объявил, что хочу совершить одиночное восхождение «в альпийском стиле» не на Монблан или Эльбрус, а на Вершину – на Вершину мира, тут же услышал поток насмешливых, издевательских откликов. Трезвые оценки специалистов тонули в этом потоке. Но за издевательством, за насмешкой ясно слышалось негодование и оскорбленность: как это так?! На Вершину, которую сотни лет считали неприступной, священной, покоряя которую погибли десятки и десятки людей, на которую идут группами, в связках, чтобы друг друга поддерживать, друг другу помогать, кто-то хочет забежать как-то небрежно, точно бы мимоходом, шутя.
Я понимаю и принимаю их оскорбленность и злобу. Для них восхождение должно быть военной операцией – с огромным, похожим на городок штабом, с медпунктом, батареей кислородных баллонов, с радиостанцией, чтоб оповещать мир о каждом шаге восходительских отрядов; нужно, чтобы караваны шерпов несли в промежуточные лагеря рюкзаки с килограммами груза, чтобы альпинисты рубили ступени, наводили веревочные переправы, искололи гору крючьями; кто-нибудь обязательно должен погибнуть или, по крайней мере, получить перелом, обжечь глаза, обморозиться. И в конце концов одна связка из пяти-семи – если повезет! – достигнет цели. Покорит. И мир возликует…
Я бросаю вызов этим операциям. Я уверен, что на Вершину можно подняться иначе… Двенадцатого июня меня привезли к леднику Ронгбук, на высоту пять тысяч шестьсот метров, где кончается тропа; всё необходимое уместилось в обычном джипе… Со мной никого, кроме Нины, малознакомой, почти случайной женщины, с которой я встретился уже здесь, в Гималаях, и по необходимости оформил членом экспедиции – ничего не смысля в медицине, она считается медицинским работником.
Конечно, не спорю, она слегка сглаживает мое одиночество здесь, она помогает мне, готовя еду, наводя порядок, стирая в ручье белье, и все же теперь, спустя два месяца, я начинаю, в тайне от себя самого, жалеть, что я здесь не один. Что прожил не один эти два месяца… Кто знает, что открылось бы мне, не разговаривай я ни с кем, кроме своей души, не видя никого живого, кроме сурков и воронов… Монахи годами пребывали здесь в полном одиночестве, и многие так в него погружались, что в итоге отказывались навсегда не только от человеческого общества, но и от пищи, и исчезали. Никто не видел их мертвыми…
Но я не хочу исчезать, я очень хочу вернуться вниз, в мир людей, машин, компьютеров, небоскребов. И чтобы вернуться, мне нужно пройти два километра триста сорок восемь метров вверх. Сделать несколько фотоснимков у штатива китайцев и спуститься. И тогда я буду иметь перед собой право сесть в джип, а потом в самолет… Подъем и спуск, по моим расчетам, должен занять трое суток. Две ночевки. Две ночевки выше семи тысяч метров, где практически нет кислорода, куда ни разу не забралось ни одно живое существо, кроме человека…
Всячески себя успокаивая, давя неимоверный зуд немедленно отправиться в путь, приваливаюсь к сложенной из плоских камней стене; ею с трех сторон мы с Ниной огородили нашу палатку, чтобы уберечься от постоянных и порой очень жестоких ветров. Взгляд мой приклеен к Вершине.
Вот показался край огромного горного солнца. Снег и лед вспыхнули, загорелись десятками цветовых оттенков, а камни наоборот – стали еще чернее, суровее; Вершина словно бы еще отодвинулась, отпрянула от меня. И я тут же почувствовал, что нетерпение, зудящее в груди, притихло. Вместе с солнцем возвращается трезвость.
Палатка заколыхалась – это проснулась, стала выбираться из спального мешка Нина. Маленькая, худая девочка с веснушками на остром носу. При всем желании ей не дашь и двадцати, хотя недавно мы отметили с ней тридцать первый ее день рождения… Если бы я не видел, как она держалась на спуске с одного из самых опасных восьмитысячников, Тьянбоче, когда ее мощные, матерые партнеры падали без сил, а она им помогала подняться, подбадривала, никогда не подумал бы, что она способна хотя бы выйти за город на своих двоих. Но она молодец – несколько нервных срывов за эти месяцы можно и не считать. Это на нашем фоне более чем скромный показатель.
Два месяца в тесной палатке среди снегов и камней, два месяца кислородного голодания, когда, бывает, для решения самой элементарной задачи требуется неимоверное усилие; два месяца ожидания паузы в постоянных снегопадах и штормах. В таких условиях и самый психически устойчивый человек может запросто стать психопатом… Да, случалось, мы ссорились и целыми днями дулись, делая вид, что не замечаем друг друга, и в такие моменты Нина или бродила в одиночестве меж ледяных башен на ближайшей морене, или подолгу что-то писала в своем дневнике. Наверняка – нелицеприятное обо мне. (Кстати, когда мы вернемся, нужно попросить ее дать что-нибудь пооткровеннее для моей книги об этой экспедиции.)
Сначала из палатки появляется ее голова. Черные жесткие волосы растрепаны, розовая заколка повисла на одной пряди, как завядший цветок. Не разогнувшись, Нина замерла у выхода, она долго и пристально глядит на Вершину. Впечатление, что беззвучно здоровается, беседует с ней после ночной разлуки. Или просит о чем-то. Молит… Мне становится не по себе, словно я подглядываю за таинственным ритуалом; я боюсь спугнуть Нину, помешать ей… Нет, все-таки я очень рад, что она со мной…
Постепенно, неделя за неделей, мы поднимались выше и выше, и вот живем здесь, в мире вечных снегов, в маленькой тесной палатке. Не больше двух раз в неделю спускаемся в базовый лагерь, где палатка просторнее, а местность куда живописнее: есть кое-какая зелень, журчит ручеек, втекая в озеро – в нем мы купаемся. И какой там воздух, на высоте пяти с половиной километров! После ночевки там мы становимся бодры и сообразительны, энергичны, словно побывали в лучшем санатории мира…
Завершив ритуал, Нина выпрямилась, сладко потянулась. Зевнула и огляделась. Заметила меня. И сразу на ее маленьком, исхудавшем лице появилась по-детски широкая улыбка. Обнажились два ряда слишком крупных, снежно-белых зубов. Но тут же улыбка стерлась – лицо стало серьезным и торжественным. Мне кажется, она догадалась. Тогда, наверно, и не стоит шевелить языком? Но глупый человеческий инстинкт превращать понятные окружающим мысли в членораздельные звуки побеждает, и я говорю:
– Сегодня занесу рюкзак под Северное седло.
Как-то слишком поспешно Нина дергает головой. Утвердительно, но и вроде испуганно. Мне хочется услышать ее голос, важные, сильные слова, но она просто кивает.
* * *
Подняться на Вершину в одиночку, с легким рюкзаком за плечами… Когда расплывчатая, ни к чему не обязывающая мечта превратилась в затмившую все остальное цель? Я помню тот день, тот момент – короткую, яркую вспышку-секунду.
Честно говоря, как раз к тому времени я подумывал распрощаться с большим альпинизмом. Позади были восхождения на пять из четырнадцати восьмитысячников мира, и все – без применения кислородных приборов. К тому же на Нангапарбат я залез в одиночку, по новому, никем еще не пройденному пути.
Кроме того, я прошел сложнейшие стены в Западных и Восточных Альпах, взобрался на Иерулайо в Перуанских Андах по юго-восточному гребню, до того считавшемуся непроходимым. Были покорены высшие точки Африки и Северной Америки, было пересечение Тибетского нагорья с севера на юг в спринтерском темпе, за три с небольшим недели…
Да, к тридцати шести годам я был уверен, что в альпинизме сделал практически все. И сама Вершина уже находилась у меня под ногами… Правда, тогда я был не один – у штатива корчился в приступах кашля мой партнер по связке; его каким-то чудом мне удалось стащить тогда в штурмовой лагерь и передать страховочной группе…
Я написал несколько книг, ездил по миру с лекциями, издавал международный журнал, имел свою альпинистскую школу… Мне казалось, что я полностью счастлив; моя жизнь вошла хоть и в деятельную, но довольно безопасную, почти гладкую колею. Риск, рекорды, взрывы сенсаций остались в прошлом. И уже не каждое утро я совершал пробежки вокруг своего городка. Соседи начали говорить обо мне: «Остепенился».
Но однажды мое спокойствие разрушила новость: «Японский альпинист Наоми Уэмура получил разрешение на одиночное восхождение…» Да, он получил разрешение взойти на Вершину в одиночку. К тому же – зимой! И вот в тот момент, в тот совершенно обыкновенный для человечества день моя расплывчатая, ни к чему не обязывающая мечта превратилась в затмившую всё остальное цель.
Я отшвырнул статью, над которой работал, и за пять минут составил план своего восхождения: подняться в одиночку, «в альпийском стиле», без кислородного аппарата, в муссонный период, по ранее никем не пройденному отрезку – через кулуар Нортона… А через неделю я был в Пекине.
Мой план вызвал у руководства Китайского Союза альпинистов оторопь; уверен, не будь я столь известен, меня без раздумий бы выдворили из страны, как опасного сумасшедшего.
Очень осторожно они стали убеждать, что восхождение на Вершину в сезон осадков невозможно в принципе, что столь малый состав экспедиции (я сам и формально необходимый медицинский работник) нереален, когда дело касается такой суровой горы, и что, наконец, если со мной случится несчастье, это осложнит выдачу разрешений многим будущим экспедициям.
Я отмалчивался, давая возможность чиновникам, да и некоторым известным китайским альпинистам привести все доводы бредовости моего плана, а потом сказал:
– Должен признаться, что по своей природе я – трус. – Они замерли в новом изумлении. – Я никогда безрассудно не лезу вперед, я досконально просчитываю маршрут, время, свои физические возможности и лишь потом решаюсь действовать. Не один раз я отступал, когда становилось ясно, что рискую жизнью или жизнями моих товарищей. И если я приехал сюда, представил свой план, на первый взгляд безрассудный, утопический, то, значит, я стопроцентно уверен в себе. Напомню, что еще в двадцать четвертом году англичанин Нортон без кислородного аппарата, в скверную погоду дошел в одиночку до высоты восемь тысяч пятьсот семьдесят два метра и, поняв, что дальнейшие метры – последние двести семьдесят шесть метров! – ему не преодолеть, вернулся в лагерь. Я тешу себя надеждой, что смогу преодолеть эти метры. Маршрут мой в основном повторяет маршрут Нортона, кроме этого последнего отрезка… Но если в процессе непосредственной подготовки, во время подъема я пойму, что подняться на Вершину в период дождей мне не по силам – я отступлю. По крайней мере я прошу дать мне возможность попробовать.
Участники переговоров долго молчали, передавая друг другу, перечитывая мою заявку снова и снова. Потом полушепотом посовещались на своем языке, что меня слегка покоробило, и сухо объявили: решение будет принято завтра.
В ту ночь, лежа на кровати в номере недорогого отеля, я чувствовал только одно – ревность и почти ненависть к Уэмуре. Я пытался отогнать это чувство, пробовал мечтать о том, что буду делать, если мне разрешат… Но ревность была сильнее воли – я казался себе человеком, у которого Уэмура уводит любимую, причем уводит открыто, безбоязненно, официально оформив увод… Да, он уводил у меня Вершину, и мои шансы оставить ее за собой были ничтожны, просто до смешного мизерны.
Уэмура подал заявку почти за год, я же – с бухты-барахты. Был самый конец марта и, если даже я получу добро, то уже через два месяца должен быть под Вершиной. Срок подготовки фантастически малый – экспедиции готовят годами, переговоры ведут на уровне посольств, а тут… Бородатый одиночка в джинсах и свитере…
Как рыба на берегу, задыхаясь, я ворочался на неразобранной постели и повторял, повторял, не в силах совладать с досадой и волнением: «Откажут… откажут…» А надо мной в темноте покачивался образ Уэмуры, его обмороженное лицо с узкими глазами, в которых горело нечто такое, что всегда горит в глазах альпиниста, когда он уверен, что поднимется, что именно ему повезет… Несколько раз я встречался с Уэмурой на различных конференциях, всегда выделял из остальных и, находясь рядом, ощущал какое-то беспокойство, почти робость. И вот теперь мои ощущения нашли объяснение – он всегда был моим соперником. Постепенно этот невысокий коренастый человек с обмороженным лицом и огнем в щелках глаз подбирался к Вершине. К моей Вершине!
На следующий день, ближе к полудню, я пришел в Союз альпинистов; я был измотан сильнее, чем после холодной ночевки на семи тысячах метров. (Уснуть удалось лишь после того, как я решил осуществить мечту любой ценой, пусть даже мне придется нелегально пересечь границу Китая или Непала…) Да, я был уверен в отказе, а взамен получил черновик договора. Опасаясь спорить, я согласился со всеми условиями. Главное было учтено – «продолжительность экспедиции: с 1 июня по 31 августа», «цель экспедиции: первое одиночное восхождение в муссонный период»… Союз альпинистов обязуется назначить мне в помощь офицера связи (он же переводчик) и джип с водителем. Их питание берет на себя китайская сторона, а бензин для джипа – за мой счет… Жаль, первоначально я планировал довезти снаряжение и провизию до Чедсонга – последней деревни перед Вершиной – на нанятом автомобиле, а затем на нанятых же яках поднять груз до ледника Восточный Ронгбук. Я мечтал совершить восхождение как абсолютно частное лицо, но поневоле пришлось принять опеку государства, которое в данном случае скрывалось под личиной общественной организации…
Машинистка вывела на компьютере два окончательных текста договора, и мы с вице-президентом Союза их подписали, а затем оказались в банкетном зале. Китайцы подняли рюмочки со своей национальной водкой. Вице-президент многословно пожелал мне удачи и по традиции закончил спич словом: «Ганьбэй!» Это значит – «пей до дна»… Не любитель спиртного, на сей раз я выпил с удовольствием. «Половина дела сделана!» – что-то сладковато шепнуло внутри.
* * *
Мои земляки – жители высокогорной долины. Они с рождения видят заснеженные хребты, острые пики скал, – казалось бы, быть уроженцем этих мест и альпинистом, одно и то же. Но, честное слово, нигде в мире я не встречал людей до такой степени ленивых и косных. Может, горы их придавили? Я готов согласиться. Впрочем, почему же я – другой? Почему другим был и мой брат? Почему мы еще мальчишками стремились взобраться на самую высокую гору и увидеть сверху тот мир, что лежит вокруг?.. Странно, но нас таких оказалось всего двое из тридцати с лишним тысяч, живущих в долине. Разве что мама читала нам на ночь не те книжки…
Когда я совершаю свою утреннюю пробежку вокруг городка, я вижу на лицах ненависть. Это лица моих соседей. Они сидят на скамеечках возле крепких, сотни лет назад выстроенных домов, они медленно-медленно курят и млеют от счастья. Для них счастье – сидеть вот так целыми днями, жмуриться, словно сытые, оскопленные коты. Но когда мимо пробегаю я, их лица меняются – я раздражаю их, я нарушаю спокойствие, разрушаю ощущение счастья.
Особенно ненавидят меня мои сверстники, те, с кем я учился в одной школе, кто знал меня маленьким мальчиком, играющим с ними в глупые и безопасные игры. Вот они, еще совсем нестарые – около сорока, – но уже рыхлые и брюхастые, с двойными и тройными подбородками, мутными глазами. Их движения медлительны, преисполнены показного достоинства; они уважают, лелеют свои круглые животы, всячески оберегают свою вялую жизнь. Их каждодневные путешествия – от дома до места работы и от места работы до кабачка. Горы вокруг для них не больше, чем стены. Стены еще одного, общего дома – нашей долины. И того, кто стремится заглянуть за них, они считают предателем, нарушителем священных границ. (Право слово, буддистские монахи куда прогрессивнее наших европейских обывателей!)
Да, им кажется предательством, что человек лезет на стены, возмутителен факт, что за это он получает деньги, а главное – славу… Впрочем, за возмущением и ненавистью я ясно вижу зависть. Их лица искажает и уродует зависть. Пусть и неосознанная ими самими…
Когда я совершаю пробежку, я чувствую ее каждой клеткой тела, каждой молекулой мозга, и она, эта их зависть, принявшая форму возмущения, ненависти, дает мне силы, нечеловечески громадные силы. Благодаря ей я могу достичь поистине великих результатов.
Наверное, поэтому я и живу среди завидующих мне людей. Бесперебойный допинг.
Здесь, в долине, у меня нет работы, приходится ездить за перевал, в столицу округа, где я выпускаю журнал, преподаю в альпинистской школе, имею друзей и соратников. А перед моим родным домом издевательски развешаны тибетские молельные флаги надписями вниз, навалена горка камней; как-то раз мою машину измазали грязью. Часто я получаю письма с бранью, угрозами. Иногда мне кричат вслед: «Ты еще не расшиб башку? Циркач!»
Порой я раздражаюсь, я готов прийти в ярость, но тут же разум останавливает меня: «Так надо. Все правильно». Да, наверное, именно так и надо…
Когда мир узнал о моем решении подняться в одиночку на высочайшую гору мира, от журналистов не стало отбоя. Они караулили меня возле редакции, десятками приезжали в городок, они фотографировали меня во время пробежки, окружили мой дом плотным кольцом и следили за окнами… Уж это как водится – дай маломальский повод, и пресса сойдет с ума и сведет с ума общество.
Да нет, конечно же, журналисты не обезумели – просто у них такая работа. Вчера какие-нибудь эстрадные звезды объявили о разводе, и каждая газета стремится узнать и обнародовать самые пикантные подробности, и желательно вытянуть эти подробности у самих героев; потом какой-нибудь министр подаст в отставку в знак несогласия с проектом закона, и все внимание мгновенно переключается на него. Теперь вот я со своим заявлением…
Я ненавижу диктофоны, микрофоны, блокноты, вообще – интервью. Хотя если ты чем-то выделяешься, если ты стал личностью общественно значимой, игнорировать общество по крайней мере непорядочно. И я трачу драгоценное время на то, чтобы отвечать на вопросы… Среди журналистов сегодня и корреспондент местной газетки – четырехстраничной пустышки, состоящей на две трети из объявлений, поздравлений и некрологов. Корреспондент – плотненький, розовощекий, неторопливый (что как-то не вяжется с его профессией) мужчина лет сорока. Даже застегнутая просторная куртка не может скрыть его круглое пивное пузо. Типичный обитатель нашей долины… И не особенно стараясь скрыть свое недоброжелательство, с ехидцей, он спрашивает:
– Вы по-прежнему уверены, что взберетесь на Вершину в одиночку? Без чьей либо помощи?
– Я хочу попытаться это сделать, – отвечаю осторожно, чтобы не давать лишнего повода называть себя самодовольным типом. – Но помощь так или иначе присутствует. Взять хотя бы технический прогресс – мое сегодняшнее снаряжение не сравнить с тем, что имелось, скажем, у экспедиции Мэллори в двадцать четвертом году или у Хиллари в пятьдесят третьем.
Тут же – новый вопрос:
– Планируете ли вы покорить все восьмитысячники мира?
– Я этого не планирую.
– Да?.. – наигранное недоумение. – Вы только что упомянули о прогрессе, о снаряжении, – идет в атаку мой земляк-журналист. – Но вы всегда выступали против применения технических средств в альпинизме. Не чувствуете противоречия в своей позиции? – Он кривовато-победно улыбается, выставив вперед, в мою сторону, руку; пухлые, напоминающие колбаски пальцы сжимали диктофон.
Стараясь сохранять учтивость, я объясняю:
– Каждый альпинист в большей или меньшей степени применяет технические средства. Мои ботинки, палатка, ледоруб, газовая плитка – все это технические средства. Я охотно пользуюсь достижениями в области горной медицины, физиологии, диететики, тренируюсь в камерах с разреженным воздухом. Но я сторонник отказа от мощных технических средств, под которыми понимаю кислородный аппарат, шлямбурные крючья, вертолет. Короче говоря, я против того, что делает невозможное возможным. Я предпочитаю опираться на собственные силы.
Опережая других, розовощекий вскрикивает фальцетом, словно поймал меня на чем-то постыдном:
– Но ведь это честолюбие! – Не спрашивает, а утверждает.
– Да, может быть. Меня часто упрекают в честолюбии. Но дело в том, что я не считаю это качество пороком. – Терпение начинает меня покидать, и теперь я специально говорю как можно резче: – Я держусь за свое честолюбие – оно необходимо, оно толкает меня вперед из трясины повседневного существования. Многие великие свершения обязаны честолюбию…
Пока розовощекий переваривает мои слова, его коллега задает свой вопрос:
– Почему в последние годы вы предпочитаете совершать свои восхождения в одиночку?
Эта тема слишком тяжела для меня, поэтому я коротко, сухо произношу:
– Позвольте не раскрывать причин.
Слава богу, на сей раз они не настаивают. Но настроение испорчено окончательно, и вскоре, сославшись на дела, мне удается отвязаться от журналистов. Если задаться целью отвечать на все их вопросы, это займет полжизни. У меня пока что есть более интересные и важные занятия.
…Я не всегда был одиночкой. Я ходил в связке, принимал участие в крупных экспедициях и не раз сам их организовывал. Но две трагедии, произошедшие практически одна за другой, заставили меня полагаться лишь на себя, рисковать лишь собой, нести ответственность лишь за себя.
В тот раз мы шли с Александром на Мансалу, на мой первый восьмитысячник. До цели оставалось около двухсот метров, когда Александр решил повернуть назад. Он совсем выбился из сил, его замучил кашель… Я предложил помочь ему спуститься, но он отказался. К тому же палатку нашего штурмового лагеря было хорошо видно. Я отпустил его, отдав рацию… Когда вернулся, Александра в палатке не было.
Двое суток на высоте семь с половиной километров я искал его. Он исчез. У меня кончилась провизия, газ в плитке. От кислородного голодания мутилось сознание, начинались галлюцинации. Пришлось спускаться в базовый лагерь… Когда я рассказал как было дело, то увидел в глазах людей осуждение. Невысказанное, прикрытое скорбью, и от этого еще более сильное. И, кажется, в те минуты я впервые всерьез задумался: стоит ли мне идти вверх с кем-то в паре, от кого-то зависеть?
Но следующей весной я принял участие в экспедиции на Нангапарбат, суровую и прекрасную гору в Северных Гималаях… Погода с первых же дней была отвратительной, мы (а нас было два десятка участников) неделями бездействовали, прячась от ураганного ветра в палатках. Начались конфликты. Руководитель экспедиции запрещал даже устанавливать промежуточные лагеря, он готов был запереть нас.
И когда стало ясно, что мы вполне можем уехать домой, так и не попытавшись взобраться, я взбунтовался. Я собрал необходимое и пошел вверх. Со мной отправился и мой брат. Мы надеялись в короткий промежуток между бурями успеть достичь вершины, и нам это удалось. Мы взошли в блицтемпе и, почти не отдохнув, стали спускаться. Мы опасались ветра, но нас поджидало другое – сошла лавина. Я уцелел, а брат… Веревку, которая соединяла нас, перерезало ледяным осколком… В лагерь я вернулся один.
Три года назад я в последний раз шел в связке. Мы шли на Вершину. Мы поднялись. Это могло стать счастливейшим моментом в моей жизни, но его омрачило состояние напарника – он задыхался. И все мои мысли были заняты не сознанием победы, а тем, как спустить его вниз… Наверное, во многом из-за того, чтобы по-настоящему насладиться минутами на Вершине, я и решил еще раз взойти на нее. Но теперь в одиночку.
* * *
Уладив дела на родине, отправив контейнер в Пекин, я с середины мая стал кружить вокруг цели моей экспедиции. Непал, Китай, Индия, снова Непал, объединенные для меня одним словом – «Гималаи»… Я привыкал к своему присутствию рядом с Вершиной; я снимал в отелях лишь те номера, где окна выходили в сторону Вершины, даже в ресторане я садился там, откуда можно было видеть ее или хотя бы угадывать ее очертания… Я с нетерпением ждал июня, но меня всерьез начинало беспокоить отсутствие кандидатуры на должность медицинского работника. И в одном из ресторанчиков Тьянбоча, поселка под южным склоном Вершины, я встретил Нину.
Мы познакомились лет семь назад; уже тогда, несмотря на молодость, она была достаточно заметной альпинисткой, правда, оставалась в тени мужчин. В основном ее включали в подстраховочные группы, но надо было видеть, как держалась она даже в самой сложной ситуации!..
Я обрадовался ей как старой доброй знакомой. Мы разговорились. Оказалось, она оставила альпинизм, но каждую весну приезжала в Непал, чтобы полюбоваться покоренными и непокоренными ею горами.
– Послезавтра возвращаюсь домой, – сообщила она. – Работаю в географическом журнале, пишу статьи обо всем. Но, конечно, больше всего – о Гималаях.
В ее голосе слышалась явная грусть. Судя по всему, она поставила на романтике крест, а ведь ей едва за тридцать. Самая большая для нее радость теперь – две недели отпуска провести вблизи великих гор… И неожиданно для себя самого я предложил Нине принять участие в моем проекте.
– А сколько участников? – спросила она.
– В общем-то, участник один, – с улыбкой сказал я и заметил на ее лице недоумение. – Это будет одиночное восхождение. Мое абсолютное соло. Но по условиям договора в лагере должен быть медицинский работник. Я гарантирую тебе питание и, в целом, те же условия, в каких буду жить сам.
Она согласилась. Не вскрикнула, не озарилась счастливой улыбкой, не бросилась мне на шею. Лишь по глазам я увидел, как она благодарна – это была благодарность безнадежно больного, которому вдруг вернули здоровье… Я отправил факс в Союз альпинистов с данными о Нине, мне тут же пришел положительный ответ. С того дня мы с ней не разлучались.
Двенадцатого июня на джипе, в сопровождении двух китайцев, прибыли к развалинам Ронгбукского монастыря. Еще полвека назад здесь жили четыреста лам, в пещерах и хижинах вокруг, погруженные в медитацию, пребывали десятки отшельников. Отсюда в двадцатые – пятидесятые годы начинались все восхождения. Потом почти на тридцать лет Тибет был закрыт для иностранцев, и экспедиции штурмовали Вершину со стороны Непала. Лишь недавно северо-восточное направление снова стало доступным. Мне хочется взойти именно отсюда, по классическому, но наиболее сложному маршруту. Осуществить мечту всех тех, кто не смог подняться…
Сначала мы хотели разбить наш базовый лагерь у родника, бьющего неподалеку от монастыря. Но когда осмотрели руины, нам захотелось только одного – скорее уйти отсюда. Выше, к снегу… Дело в том, что разрушенный монастырь стал мусорной свалкой для многих экспедиций. Горы кислородных баллонов, обрывки палаток, ящики из-под провизии… Отрыжка подвигов.
Метр за метром джип ползет по долине Ронгбук. Приходится то и дело останавливаться, чтобы убрать камни, заровнять промоины. За три часа мы едва преодолели полкилометра. Дальше не проехать. Мой высотометр отмечает «5600». Здесь и будет находиться наш с Ниной лагерь.
Китайцы помогли выгрузить вещи, поставить палатку и, пожелав удачи, уехали. Офицер связи за время, проведенное на такой высоте, заметно скис, его два раза вырвало. Что ж, я рад, что они так быстро покинули нас. Сразу стало свободнее и словно бы светлее. Теперь джип появится здесь только тридцатого августа – у меня два с половиной месяца, чтобы осуществить задуманное.
Первый месяц мы жили в основном в базовом лагере, адаптировались. Я ежедневно совершал походы – то поднимался до шести тысяч пятисот метров, где выбрал подходящее место для штурмового лагеря, то спускался до развалин монастыря или в деревню Чедсонг, чтобы купить свежего ячьего мяса и творога. Иногда меня сопровождала Нина.
Постепенно слабость и головная боль прошли, и я почувствовал, что готов перебраться выше и там ожидать удобный для штурма момент. Но Нина приходила в себя куда медленней. Она часто была раздражительна, мрачна, капризна.
Примерно через три недели после приезда произошел такой случай. Я лежал в палатке и читал, Нина готовила обед, напевая песенку… За едой она сказала что-то, но я, занятый своими мыслями, не расслышал. Пообедав, я снова лег в спальный мешок. Через некоторое время подошла Нина и спросила: