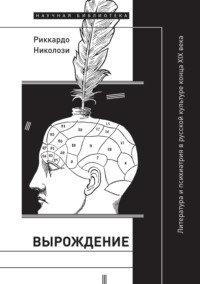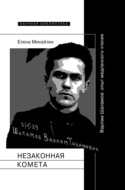Kitobni o'qish: «Вырождение»
© Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2017
© Н. Ставрогина, перевод с немецкого языка, 2019
© OOO «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
I. Введение
В 1898 году, в разгар царившего в западноевропейских странах эпохи fin de siècle увлечения русским реализмом1, один из ведущих представителей итальянского натурализма (веризма) Луиджи Капуана писал о персонажах русского романа:
В русском романе нам встречаются души сумрачные, терзаемые тоской по идеалу; грубые и мощные характеры, с одинаковой страстью творящие добро и зло; неукротимые волевые натуры; сердца, исполненные странной жажды страданий. При ближайшем рассмотрении кажется, что эти персонажи пребывают в состоянии ненормальном; нечто в их мозгу либо повреждено, либо функционирует неправильно. Все они, или почти все, являют собой экзальтированных невротиков, людей, которых следует поручить заботам Шарко или Ломброзо2.
Поставленный Капуаной психопатологический диагноз созвучен представлению современников о русском романе как о выражении «непостоянной русской души» (l’âme flottante des Russes)3, якобы заметно склонной к нервным заболеваниям4. Однако Капуана идет еще дальше, приравнивая персонажей русского романа к пациентам тогдашней психиатрии, представленной двумя наиболее знаменитыми именами: «изобретателя» истерии Жан-Мартена Шарко и основоположника криминальной антропологии Чезаре Ломброзо. Таким образом, слова Капуаны указывают на тесную взаимосвязь психиатрии и литературы, характерную для европейских культур XIX столетия5.
Из литературных произведений – например, из драм Шекспира – психиатрия, в качестве самостоятельной дисциплины сформировавшаяся лишь на рубеже XIX–XX веков, черпает знание о психических процессах, приписывая ему не меньшую эпистемологическую ценность, нежели результатам клинических наблюдений; стремясь выработать собственный стиль изложения, прежде всего при описании частных случаев, психиатры ориентируются на заимствованные из художественной литературы повествовательные и риторические приемы. Кроме того, в литературных текстах усматривают симптомы душевных и нервных недугов авторов (в частности, в рамках жанра патографии), а также проявления общего культурного упадка, как это делает Макс Нордау в книге «Вырождение» («Entartung», 1892–1893). Литература XIX века, в свою очередь, осваивает накопленные современной психиатрией знания, функционализируя, трансформируя, пародируя и карнавализируя их в художественно переосмысленном виде; одновременно складываются стратегии литературного письма, опирающиеся на принятые в психиатрии формы изложения, в частности на жанр истории болезни.
Важнейшая роль в этом широком поле взаимодействия литературы и психиатрии конца XIX столетия принадлежит понятию вырождения, или дегенерации6. В биологической психиатрии, рассматривающей душевные заболевания как наследственные патологии мозга и нервной системы, теория вырождения становится преобладающей (гл. II.1)7. В литературе, прежде всего в натурализме, концепция вырождения – как мотив, структурная модель индивидуальных и коллективных патологий, а также как принцип сюжетосложения – выступает одной из самых распространенных составляющих (био)социального романа (гл. II.2). Такое взаимодействие литературы и психиатрии во многом способствует формированию дискурса о вырождении, служащего европейской культуре fin de siècle инструментом концептуализации «изнанки прогресса», т. е. всей совокупности свойственных модерну девиаций и аномалий. На рубеже веков модель объяснения мира с позиций культурного пессимизма приобретает всеобъемлющий характер. Ее действенность зиждется на ее дискурсивной пластичности и семантической размытости, допускающих свободное и чрезвычайно гибкое «медикализирующее» осмысление социальной жизни в категориях здоровья и патологии, нормы и отклонения. Это позволяет установить связь между дискурсом о вырождении и другими биомедицинскими дисциплинами и дискурсами эпохи, в частности криминальной антропологией (гл. VI) и дарвинизмом (гл. VII), расширяя тем самым его эпистемологические границы8.
Изменчивая, «протеическая» природа дискурса о вырождении создает определенные трудности в исследовании взаимосвязи литературы и науки. Ограничиться констатацией наличия элементов психиатрической теории в литературных текстах эпохи – значит попасть в замкнутый круг, подтверждающий универсальность дискурса о вырождении. Можно, конечно, продолжить приведенное выше суждение Капуаны и заняться выявлением присущих персонажам русской литературы психопатологических черт, подразумевающих простое воспроизведение объектного языка теории вырождения, – однако такой подход страдал бы обманчивой самоочевидностью. С учетом принятого в тогдашней психиатрии широкого понимания душевных и нравственных расстройств оценка русских литературных героев как «вырожденцев», пусть нередко и оправданная, в конечном счете представляется произвольной и лишенной аналитической строгости. Недаром российская психиатрия того времени использовала этот подход с целью «продемонстрировать» обоснованность теории вырождения на примерах из художественной литературы и легитимировать собственные методы (гл. IV.2 и VI.2).
Специфика взаимовлияния литературы и психиатрии в исследуемом контексте состоит в совместном создании дискурсивных структур, главная роль в которых принадлежит нарративности9. Психиатрическая теория вырождения не предоставляет референциального знания, впоследствии конвертируемого литературой в нарративные структуры. Источником знания выступает сам нарративный потенциал концепции вырождения, так как лишь повествовательная модель наследования нервно-душевных заболеваний, передающихся из поколения в поколение одной семьи и принимающих все более тяжелые и разнообразные формы, позволяет добиться эпистемологической убедительности, которой теория в противном случае не обладала бы ввиду отсутствия эмпирических доказательств (гл. II.1).
Дегенерация – это в первую очередь нарратив: masterplot, базовая повествовательная схема, которая придает разрозненным патологическим явлениям сегментированный линейный характер и обеспечивает повествовательную связность, позволяющую обуздать хаотическую «агрессию» ненормальности10. Вместе с тем нарратив о вырождении обладает необходимой семантической свободой и гибкостью, позволяющими охватывать всевозможные девиантные формы социального поведения – в частности, преступность и проституцию, – тем самым превращая их в элементы обширного биомедицинского повествования.
Впрочем, постулировать общую нарративную базовую структуру дегенерации – не значит утверждать, что психиатрия и литература конца XIX столетия излагают истории вырождения при помощи одинаковых повествовательных стратегий. Хотя в психиатрическом письме о вырождении ярко выражено повествовательное начало, психиатрия придерживается собственной эпистемологической логики, отличной от эстетического своеобразия литературы. Поэтому в главах II и III рассматриваются черты не только и не столько сходства, сколько различия между художественным и медицинским повествованиями о вырождении. Сначала, в главе II.1, я покажу, каким образом возникшая во французской психиатрии конца 1850‐х годов теория вырождения достигает эпистемологической убедительности единственно путем применения к частным случаям: лишь сама повествовательная схема позволяет выявить связность и смысл в «хаосе» культурных девиаций и первобытных инстинктов. В историях болезней, написанных основоположником теории вырождения Бенедиктом Огюстеном Морелем11 и Валантеном Маньяном, имеющий неизменные структурные сегменты и топосы нарратив повторяется в бесконечных вариациях, превращая повествовательную схему в модель интерпретации; в результате неограниченная референциальность сводится к одинаковой смысловой линии.
Первое художественное воплощение нарратив о дегенерации получил в литературе французского натурализма: традиция «романа о вырождении» берет начало в двадцатитомной семейной эпопее Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893). В главе II.2 рассмотрено возникновение нарративной грамматики романа о вырождении в результате взаимодействия базовой схемы дегенерации и повествовательной системы натурализма. Аналептическое и антагонистическое повествование; эпическая линейность рассказа и фрагментарность описаний; отказ от категории события и трансгрессивные сюжетные повороты – вот координаты, в которых Золя строит художественную повествовательную модель вырождения, впоследствии воспринятую и переосмысленную в европейских литературах 1880–1910‐х годов.
Отправной точкой дискурса о дегенерации в русской культуре становится – таков один из главных тезисов настоящей книги – освоение и видоизменение созданного Золя романа о вырождении на рубеже 1870–1880‐х годов, еще до того, как российская психиатрия, институциональное становление которой приходится лишь на конец 1880‐х годов, начнет пропагандировать теорию вырождения и разрабатывать соответствующий тип письма. Реконструкция начального этапа русской рецепции Золя в 1870‐х годах – интенсивного, однако сегодня почти забытого (гл. II.3) – позволяет очертить историко-литературный контекст появления первого русского романа о вырождении – «Господ Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина. Творчески перерабатывая опыт Золя, а также русской литературной традиции семейной хроники (С. Т. Аксаков, Н. С. Лесков), Салтыков-Щедрин рассказывает историю психофизической, нравственной и материальной деградации одной помещичьей семьи после отмены крепостного права. В результате возникает одно из самых мрачных и последовательных художественных воплощений концепции вырождения: развитие дегенеративного процесса, ведущего к угасанию рода Головлевых, состоит из навязчивого повторения похожих эпизодов, все более бедных событиями и под конец буквально разрывающих ткань повествования. Таким образом, на перформативном уровне текст «вырождается» точно так же, как и описываемое семейство.
Внутренняя диегетическая логика натуралистического романа о вырождении формируется среди прочего в разработанной Золя поэтике «экспериментального романа» (le roman expérimental). Рассказывая о вырождении семьи Ругон-Маккаров, охватывающем несколько поколений, Золя стремится к фиктивной «верификации» биологических законов, которые, согласно теоретическим воззрениям позитивистской науки XIX века, определяют глубинную структуру жизни. Проблематичная в эпистемологическом отношении аналогизация литературы и эксперимента, осуществляемая Золя, рассматривается в этой книге с точки зрения своих нарративных импликаций: как образцовая повествовательная форма, призванная сообщить наглядную убедительность исходной гипотезе о биологических основах действительности, главными из которых являются наследственность и дегенерация.
В конце 1870‐х – начале 1880‐х годов этот «экспериментальный» аспект романа о вырождении воспринимают русские писатели, переосмысляющие его таким образом, что провозглашенная натурализмом возможность излагать научные теории в повествовании оказывается поставлена под сомнение. В главах III.2 и III.3 последний роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880) и роман «Приваловские миллионы» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка, одного из ведущих представителей русского натурализма, интерпретируются как направленные против созданного Золя цикла о вырождении литературные «контрэксперименты», в основу которых положена контрфактуальная структура аргументации по принципу reductio ad absurdum. Несмотря на ряд очевидных эстетических и поэтологических различий между романным творчеством Достоевского и Мамина-Сибиряка, оба текста сходным образом инсценируют натуралистический художественный мир, на первый взгляд подчиненный детерминистским силам наследственности и вырождения. Однако оба романа вступают в противоречие с этой натуралистической моделью мира на нескольких уровнях, а впоследствии опровергают ее как ложную эпистемологическую посылку. Эта специфически русская разновидность романа о вырождении интерпретируется как дальнейшее развитие повествовательной техники, свойственной русской тенденциозной литературе 1860–1870‐х годов, т. е. традиции нигилистического и антинигилистического романа (гл. III.1).
Становление российской психиатрии в конце 1880‐х годов ознаменовало конец этой первой, внутрилитературной фазы развития дискурса о дегенерации. Сначала, в главе IV.1, прослеживается значение теории вырождения для первых российских психиатров, которые использовали ее не только для медицинской, но и для социальной диагностики, не в последнюю очередь с целью легитимировать психиатрию в качестве научной дисциплины. Часть психиатров, прежде всего возглавляемая П. И. Ковалевским харьковская школа, применяет к русской действительности заимствованный из франко-немецкого биомедицинского дискурса диагноз «нервный век» (Рихард фон Крафт-Эбинг), присоединяясь тем самым к антимодернистскому политическому дискурсу эпохи Александра III и пытаясь обосновать его с медицинской точки зрения. Неврастения и другие нервные заболевания рассматриваются как симптомы общего вырождения русского народа, причем отправной точкой этого процесса провозглашаются «Великие реформы» 1860‐х годов. Понимают психиатры и необходимость облекать концепцию вырождения в повествовательную форму для достижения эпистемологической убедительности; с этой целью они не только сами пишут истории болезней, но и читают и интерпретируют художественные произведения, например романы Достоевского, как истории вырождения (гл. IV.2). Таким образом, русская психиатрия тесно взаимодействует с натуралистической литературой своего времени, такие представители которой, как И. И. Ясинский и П. Д. Боборыкин (гл. IV.3), продолжают развивать русскую традицию романа о вырождении в русле раннемодернистского литературного «искусства нервов». В творчестве обоих писателей нервные заболевания персонажей предстают составляющей подчеркнуто детерминистского нарратива: инсценировка безуспешных попыток героев вырваться из дегенеративного процесса, частью которого они являются изначально, «по рождению», акцентирует замкнутость базовой нарративной схемы.
На этом этапе становится окончательно очевидным, что сосредоточенность на повествовательных структурах (а не только на самом мотиве) вырождения подводит к необходимости пересмотреть каноническую историю русской литературы эпохи fin de siècle. Декадентству и раннему символизму, до сих пор считавшимся основными выразителями идеи вырождения в литературе12, в этом исследовании отводится скорее второстепенная роль (гл. V), так как в данном случае не приходится говорить о повествовательной литературе, свидетельствующей о взаимодействии с психиатрией эпохи. Правомерность такого подхода проясняется в рамках сравнительного анализа, который охватывает творчество таких ныне полузабытых представителей натурализма (в узком или широком смысле), как Мамин-Сибиряк, Ясинский и Боборыкин, но также и А. В. Амфитеатров, В. А. Гиляровский, В. М. Дорошевич и А. И. Свирский (гл. IV–VI). Все они выступают героями этой книги наравне с такими классиками русского (позднего) реализма, как М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и А. П. Чехов13. Таким образом, на этих страницах натурализм заново обретает ту важность, которой это литературное направление обладало в России конца XIX века, особенно в контексте научного повествования14.
Подобным образом в книге критически пересматривается и каноническая история русской психиатрии, не уделяющая должного внимания важнейшей для 1880–1890‐х годов научной деятельности таких теоретиков вырождения, как П. И. Ковалевский и В. Ф. Чиж (гл. IV.1). Между тем именно эти психиатры, националисты и консерваторы, раскрыли в своих судебно-медицинских анализах возможности нарратива о вырождении и достигли высот в диагностике социальных отклонений, толкуемых с биомедицинских позиций как угроза целостности империи. В главах VI и VII подробно рассматривается начавшееся в середине 1880‐х годов сближение психиатрической теории вырождения с другими биомедицинскими концепциями эпохи – с криминально-антропологической теорией атавизма и с дарвинистской борьбой за существование, – что позволило ей превратиться в объяснительную модель для всей совокупности социальных «аномальных явлений», не только психических, но и социальных. При этом возникли новые разновидности повествования о вырождении, лишь подчеркивающие интегративный потенциал соответствующей базовой схемы.
Это хорошо видно на примере судебно-психиатрических анализов П. И. Ковалевского и В. Ф. Чижа, принадлежавших к числу убежденных русских приверженцев выдвинутой Чезаре Ломброзо криминально-антропологической теории прирожденного преступника. Восприняв идею атавистической природы этого преступного человеческого типа, концептуализированной Ломброзо как антропологический регресс к первобытному состоянию, Ковалевский и Чиж стали применять ее в своей судебно-медицинской практике, интерпретируя преступления как психиатрические случаи дегенерации. При этом оба мастерски сочетают аналогическую повествовательную структуру с каузальной, заставляя разглядеть в дегенеративной личности жуткие черты атавистического «зверя» (гл. VI.1). Такое представление о чудовищной натуре преступника остается, напротив, чуждо русским писателям, которые вплоть до рубежа веков продолжают создавать тяготеющие к сентиментальности истории, проникнутые сочувственным отношением к преступнику как человеку «несчастному». Это не мешает Ковалевскому и Чижу в собственных «литературно-критических» трудах интерпретировать произведения Достоевского и Чехова о жизни преступников и каторжан как однородное, последовательное изображение прирожденных преступников – опять-таки с целью подкрепить свои научные позиции авторитетом художественной литературы.
Глава VI.2 посвящена сложному отношению русской литературы 1880–1890‐х годов к криминально-антропологическим нарративам о вырождении. С одной стороны, такие художественные и документальные тексты, как «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Воскресение» (1899) Л. Н. Толстого, а также посвященные жизни преступников произведения А. И. Свирского и В. М. Дорошевича, обращаются к идеям криминальной антропологии и психиатрии лишь с тем, чтобы опровергнуть их путем иронии, карнавализации или аргументированного опровержения. С другой стороны, описывающие мир трущоб очерки В. А. Гиляровского («Трущобные люди», 1887) и А. И. Свирского («Мир трущобный», 1898) моделируют московское и петербургское «пространство вырождения», в контексте которого преступность выступает одним из проявлений атавистического, враждебного цивилизации регресса, охватившего целые группы населения.
Вследствие слияния с дарвинистским дискурсом, особенно с центральной для него идеей «борьбы за существование», в дискурсе о вырождении 1890‐х годов усиливается тенденция к обобщению дегенеративных проявлений, которая приводит к возникновению расовых теорий и идей евгеники. Глава VII, посвященная этой последней крупной трансформации нарратива о вырождении, открывается анализом риторического аспекта концепции борьбы за существование в эволюционной теории Чарльза Дарвина. Если рассматривать борьбу за существование как эпистемологическую метафору, в ней обнаруживается полисемия, сознательно допускающая разнообразные и взаимно противоречивые интерпретации. Включая элементы дарвинизма в теорию вырождения, европейская психиатрия перенимает и эту семантическую неоднозначность, сообщающую «дарвинизированной» концепции вырождения двоякий смысл. С одной стороны, борьба за существование понимается как фундаментальная форма человеческой жизни в современную эпоху, вызывающая нервные расстройства и в конечном итоге влекущая за собой вырождение. Такая модель нередко встречается в социальных романах европейского натурализма; в России она опять-таки представлена творчеством Мамина-Сибиряка, в чьем романе «Хлеб» (1895) и борьба за существование, и дегенерация изображаются как составляющие классического натуралистического мира, где старые социально-экономические отношения рушатся под натиском капитализма. Однако автор вновь сводит свою повествовательную стратегию к абсурду, желая подчеркнуть принципиально случайную, ничем не предопределенную природу жизни (гл. VII.2).
С другой стороны, вырождение также считается признаком биологической неприспособленности (unfitness) индивидуального или коллективного организма и, следовательно, оказывается чрезвычайно невыгодным в эволюционной борьбе за выживание. Если природа создала механизмы уничтожения «слабейших», то цивилизация, согласно этой точке зрения, нарушила причинно-следственное эволюционное равновесие путем «ложной» заботы о таких индивидах. Глава VII.3 воссоздает вытекающие отсюда споры о необходимости евгенических мер, причем особое внимание уделяется неоднозначным взглядам Дарвина, высказанным в труде «Происхождение человека» («The Descent of Man», 1871). Именно к противоречиям и парадоксам дарвиновской аргументации – но вместе с тем и к заключенному в них творческому потенциалу – обращается А. П. Чехов в повести «Дуэль» (1891), выводя их на сцену и в буквальном смысле заставляя драться на дуэли. Полная гротескного драматизма карнавализация, которой подверг нарративы о вырождении евгенической направленности Чехов, резко контрастирует с тревожной картиной будущего в утопии «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века» (1903) К. С. Мережковского, где люди находят спасение от всеобщего вырождения в евгенической программе, предусматривающей последовательную селекцию всего населения земли (гл. VIII).
Итак, совместный путь, проделанный литературой и психиатрией в конце XIX века и рассматриваемый в этой книге с ограниченной точки зрения повествовательного аспекта теории вырождения15, от семейной хроники Салтыкова-Щедрина ведет к евгенической утопии-дистопии Мережковского и позволяет увидеть российскую эпоху fin de siècle в новом, подчас неожиданном свете. Этот путь, который никак нельзя назвать прямым, пролегает через обширное поле биомедицинских дискурсов и нарративов рубежа XIX–XX веков, значение которых в истории русской культуры начали углубленно изучать лишь в последние годы16. Цель настоящей книги в контексте этих исследований состоит не только в том, чтобы подчеркнуть до сих пор обделенную вниманием конститутивную роль русской литературы в становлении и развитии дискурса о вырождении17. Важно еще и показать, что сам этот дискурс складывается из нарративных структур, возникших в результате тесного взаимодействия литературы и психиатрии. Адекватный анализ принадлежащих к этому дискурсу научных и художественных текстов о вырождении возможен лишь при условии, что они будут рассматриваться как элементы соответствующего интердискурсивного поля. Сосредоточенность на нарративной стороне концепции вырождения позволит лучше понять объединяющий литературу и психиатрию 1880–1890‐х годов совместный процесс испытания возможностей, условий и границ повествовательности вообще.