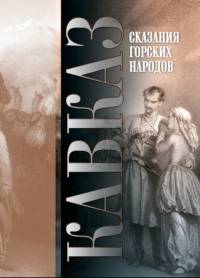Kitobni o'qish: «Кавказ. Выпуск XXVI. Сказания горских народов»
© Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2019
© М. и В. Котляровы, составление, 2019
© Ж. А. Шогенова, оформление, 2019
* * *
Памяти Евгении Сергеевны Тютюниной – архивиста, чей вклад в изучение прошлого Кабардино-Балкарии еще предстоит оценить потомкам
Легенды1

Докшуко проклятый
Бушует Баксан, несет дубы и чинары, вырванные с корнями в лесу, и воет, как голодный волк зимней ночью в степи; оттого он бушует, что летнее солнце зажигает снега на ледниках Эльбруса, и ручьи бегут в ущелье, пробираясь меж скал и камней; потоки с шумом стремятся в долину, вливаются в зеленоватые воды Баксана, мутят и пенят их.
И от тяжкой обиды ревет Баксан, мечется в каменистых берегах и с жалобой несется к сестре своей Малке, величаво-спокойно вытекающей среди чутко дремлющих степей.
Мимо лесов несется он, мимо высоких холмов, на которых стоят разрушенные старинные башни, мимо дымных аулов и успокоиться не может, стонет и воет, и бьется о высокие кручи, подмывая их. Отрываются пласты желтой глины, падают в воду и еще мутнее и пенистее становится Баксан.
Сиротливо стоит на круче, почти над самыми водами его старая сакля. Дым не вьется из ее трубы, а утром не выходит со двора кабардинка с высоким кувшином на плече, не спускается по тропинке к Баксану, и высоким бурьяном зарос весь двор. Ночью в окнах сакли давно, уже давно не блестит огонек, и жутко кричит, сидя на трубе, сыч. Плетень, окружавший когда-то двор, повис над водой и скоро рухнет в нее; придет время – и сакля рухнет и погибнет проклятое гнездо, жилище братоубийцы…
Пусть ярче пылают дрова в очаге, а круговой чинак2 крепкой бузы3 пусть еще раз обойдет гостей.
Старый Джанхот, такой старый, что борода его пожелтела, настроит восьмиструнную балалайку и расскажет старую быль о том, как всемогущий Аллах покарал проклятого братоубийцу.
Звените, струны, звените тихою печалью давнопрошедшего времени.
За лесом, за дальними снеговыми горами солнце опустилось, и горы загорелись алыми огнями. Пыль поднялась в степи за аулом, закружилась.
Молодой князь Докшуко, юноша безусый, поспешно взобрался на крышу сакли, посмотрел в степь.
По дороге в аул скакали, поднимая пыль, всадники.
Глянул князь Докшуко и громко радостно крикнул стоявшему на дворе слуге своему, старику Индрису:
– Брат Астемир с набега возвращается!
Слез проворно с крыши, вскочил на коня и вместе с Индрисом поскакал в степь.
На серой кобылице, поджарой, тонконогой и быстрой, как птица, на той самой кобылице, которую в Кабарде оценивали стоимостью ста молодых и сильных рабов, скакал князь Астемир и под буркой держал кого-то в седле.
По обе стороны его скакали уздени4, а за ними – воины.
Загорелое, покрытое пылью лицо Астемира чуть-чуть посветлело, засветились лаской суровые глаза, и если бы он был один, то прижал бы Докшуко к груди, а теперь только коротко ответил на приветствие брата, ибо не подобало по обычаю всенародно высказывать свои родственные чувства, привязанности.
А Докшуко, по молодости, не сумел сдержать себя, и приветствие у него вырвалось особенно громко и радостно.
Бросил он быстрый взгляд на бурку брата и чуть было не осрамился: едва удержался, чтобы не спросить его, что он держит под буркой: не у места было бы это женское любопытство.
Но он уже знал, какую добычу вез Астемир: две красивых женских ноги, высунувшихся из-под бурки, он увидел.
В отдельной сакле, в которую только Астемир входил, да старуха рабыня, сидела молодая казачка, стройная, черноглазая.
Она почти девочкой была, и пушок еще не сошел с ее румяных щек, таких румяных, какими бывают по утрам снеговые горы, когда солнце проснется…
Печальная сидела она, и слезы текли у нее по щекам.
Старуха-рабыня поставила перед ней круглый столик на трех низких ножках, на котором стоял чинак с густыми буйволиными сливками и лежали только что испеченные в горячей золе кукурузные чуреки. Поставила старуха и другой такой же столик с дымящимся шашлыком из молодого барашка, цыпленком, сваренным в молоке, и горячей просяной кашей, обильно политой медом.
А казачка почти не притрагивалась к кушаньям, плакала и, когда тоска особенно охватывала ее, заламывала руки над головой и билась, как птица, попавшая в силки.
Вечером старуха удалилась, и в саклю вошел Астемир.
Такой он большой был и сильный, и глядел сурово, а к казачке подходил несмело и как будто боялся ее.
И продолжая плакать, отстраняла она его ласки, и отходил он от нее, садился в угол и смотрел на нее, смотрел.
Такой сильный Астемир был, что когда в бою взмахивал шашкой, то человека, как тонкий прут, перерубал.
Почему же так робок он был с казачкой и вздыхал, глядя на нее?
Неделя – другая прошла, и по-прежнему печальна была казачка, и робок по-прежнему был с ней Астемир.
Но в один вечер она улыбнулась Астемиру и рукой по его загорелой щеке провела.
И тогда Астемир обнял ее, целовал ее щеки, руки, ноги ее целовал.
И хорошо, что никто из посторонних не видел его ласк, а иначе по всей Кабарде пошла бы молва, что Астемир ума лишился, ибо где же было слыхано и видано, чтобы владетельный князь и храбрый воин так унижался бы перед девчонкой-пленницей?
Астемир не думал об этом, какое ему дело, что скажут о его любви к казачке?
Дорогими и красивыми коврами украсил он саклю ее, а искусные мастерицы сшили ей богатую одежду.
И когда Астемир увидел ее в этой одежде, радостно воскликнул:
– Моя милая, славная девушка!
И крепко-крепко поцеловал ее.
С того дня, как Астемир возвратился с набега, Докшуко ни разу не видел пленницы-казачки, а от старухи-рабыни наслушался рассказов о ее красоте.
И хотелось ему взглянуть на нее, а зачем – он и сам не знал.
Заговорить о ней с братом он не смел – обычай этого не позволял.
В одно утро казачка вышла на двор вместе со старухой-рабыней, и случайно увидел ее Докшуко.
Взглянула она на него, чуть-чуть улыбнулась, и от этой улыбки огнем вспыхнули щеки Докшуко, а сердце так забилось, заколотилось…
А ночью не мог он заснуть: казачка стояла перед его глазами, смеялась, манила к себе, поднялся он с постели, вышел на двор и, как вор, прокрался к той сакле, в которой казачка жила, приложил глаз к щелке ставни и ничего не увидел – темно было в сакле.
Приложился он ухом к ставне, и почудился ему девичий смех, шепот страстный почудился.
И дрожал Докшуко, а ночь стояла теплая.
Убежал он в саклю свою, бросился в постель, а перед глазами стояла казачка и все также смеялась, манила к себе.
И потом, едва начинался день, Докшуко, притаившись во дворе, ждал, когда выйдет казачка.
Как и раньше, она выходила с прислугой, пробиралась в сад, рвала вишни и, смеясь, давала их ей кушать.
Докшуко глаз с нее не спускал, а в висках у него кровь стучала, и сердце билось так часто, что дышать становилось больно.
А как наступала ночь, он крался к сакле казачки, слушал под окном и дрожал всем телом.
И в эти бессонные ночи безумное и страшное задумал Докшуко, задумал он брата убить, чтобы завладеть казачкой.
Ночь давно опустилась на аул.
Докшуко снял со стены заряженную винтовку, свежего пороху подсыпал на полку и вышел из сакли.
Было тихо, только Баксан за аулом шумел да ветер в вишневом саду листьями шелестел.
Осторожно подошел Докшуко к сакле казачки, сильно постучал кулаком в ставню и стал против двери.
Скрипнула дверь, и в темноте голос Астемира послышался:
– Кто там?
Докшуко выстрелил на голос и побежал в свою саклю, повесил ружье на стену, лег в постель. И дрожал он, и зубы его громко стучали.
И услышал он – шум на дворе поднялся.
– Вставай, Докшуко: с Астемиром несчастье случилось!
Быстро вскочил он, выбежал на двор, а там уже народ собрался и огни смоляных факелов горели.
Растолкал он толпу и увидел Астемира лежащим на земле в крови.
Склонился Докшуко над ним, проговорил дрожащим голосом:
– Брат мой! Брат милый!
Открыл глаза Астемир, зашевелились губы его и тихо прошептали:
– Будь проклят, братоубийца…
Поднял было руку, но она сейчас же бессильно упала и умер Астемир.
И никто, кроме Докшуко, не слыхал, что прошептал Астемир.
Из сакли выбежала почти нагая казачка, упала на труп Астемира, обнимала, целовала его и кричала-кричала.
И когда женщины подняли ее, повели в саклю, она вырвалась из их рук и бросилась бежать со двора.
– Держите ее, держите! – крикнул Докшуко и, оставив труп брата, кинулся вслед за ней.
Как коза лесная, быстро бежала она, и Докшуко остался далеко позади нее.
Он слышал, как крикнула она, добежав до обрывистого берега Баксана.
А утром волны выбросили ее труп на песок за аулом.
Глянул Докшуко на мертвое тело, толкнул его ногой, отвернулся и пошел в аул.
И лежало мертвое тело на песке, и жгло его солнце, а ночью из ближайшего леса волки и лисы пробрались к нему, рвали и терзали его…
Похоронил Докшуко брата и предался печали.
Надел старую овчинную шубу, вывернутую шерстью вверх, старые и дырявые чевяки обул, сидел у потухшего очага и тяжело вздыхал и к пище не притрагивался.
– И кому это понадобилась смерть брата? – в печальном раздумье говорил он, покачивая головой.
Стоявшие тут же уздени только плечами пожимали, как бы говоря: кто это знает?
А старик Индрис вперед выступил и громко сказал:
– Да будет проклят убийца князя Астемира!
– Амен (аминь), – ответили уздени.
Вздрогнул Докшуко, взглянул на Индриса и в глазах его что-то прочитал и уж больше не мог открыто смотреть в них.
После вечернего намаза (молитвы) Докшуко сказал Индрису:
– Возьми из моего табуна тридцать лучших лошадей, пятьдесят буйволиц, сто баранов, коз и живи где желаешь: я отпускаю тебя на волю.
Усмехнулся Индрис.
– Ничего мне не надо: ни лошадей, ни буйволиц, ни воли, – сказал он. – Я уж стар, и жить мне не долго осталось. Я останусь с тобой – хочу посмотреть на твою жизнь: будешь ли ты счастлив?
Пожал плечами Докшуко и отвернулся от старика.
Месяц после смерти Астемира прошел.
Докшуко охотился в лесу вместе с Индрисом.
И случилось несчастье: выстрелил Докшуко в оленя, промахнулся, пуля в Индриса попала и уложила его на месте.
Прошел год.
Опять наступило лето, и опять ревел Баксан.
Дочь соседнего князя взял себе в жены Докшуко и богатый калым (выкуп) за нее уплатил.
Красива была молодая жена, и Докшуко казалось, что красивее ее во всей Кабарде нельзя было найти женщины. Но только одна неделя после свадьбы прошла, и вспомнил он казачку, и сейчас же она предстала перед его глазами, и как год тому назад, в бессонные летние ночи, смеялась, манила к себе.
И перед красотой казачки померкла красота молодой жены.
Ночью, лежа в постели, дремал Докшуко.
Вдруг скрипнула дверь, и кто-то тихо-тихо вошел в саклю.
Открыл глаза Докшуко и увидел: стояла казачка перед ним и все также смеялась.
И тихо поднялся он, осторожно переступая с ноги на ногу, приблизился к ней. И, как в те давно прошедшие ночи, сердце его часто билось и кровь приливала к вискам.
Он слышал ее дыхание и видел, как поднималась и опускалась ее молодая грудь. И сердце его затрепетало от радости, от такого счастья, какого он никогда не испытывал.
И вдруг он увидел, что красивое лицо казачки побледнело, а глаза плотно закрылись, и уже не стояла она перед ним, а лежала на песке почти обнаженная, бездыханная, истерзанная, и воды Баксана шумели, и видел он, как разбивались о камни его зеленые волны.
И глубокая тоска охватила его душу, и от боли, которой защемило его сердце, закрыл он глаза… И когда потом открыл их, увидел перед собой Астемира. Стоял он с поникшей головой, смотрел на труп казачки, и слезы текли по его суровому лицу, и тихо, скорбно промолвил он:
– Зачем убил девушку, проклятый братоубийца?
И охваченный ужасом, вскрикнул Докшуко, упал без чувств.
От этого крика проснулась жена, зажгла огонь и увидела, что муж лежит около двери лицом вниз.
Испугалась она и, не зная, что делать, громко заплакала.
Очнулся Докшуко.
– Что с тобой случилось? Зачем ты лежишь около двери? – спросила она.
Насильно засмеялся Докшуко.
– Сон мне приснился: будто я в лесу за оленем гонялся, – сказал он.
И поверила ему жена.
А днем Докшуко был молчалив, ушел в сад и стоял там, погруженный в глубокую думу.
Ночью ждал он казачку.
Жена позвала его, он не ответил, притворившись спящим.
Долго ждал, и не приходила казачка.
«Во сне видел я ее вчера», – подумал он и вдруг услышал, как скрипнула дверь и кто-то вошел в саклю, приблизился к постели; чье-то дыхание на своем лице он почувствовал.
– Будь проклят, братоубийца! – кто-то прошептал ему на ухо и, громко стуча ногами, вышел из сакли, сильно хлопнув дверью.
Забился, застонал в тоске Докшуко, проснулся в темноте и услышал, что кто-то плакал тут же, около него.
– Кто здесь? – громко спросил он.
Поднялась жена, зажгла огонь, и увидел Докшуко, что лицо у нее было в слезах.
– О чем ты плачешь? – спросил он.
Помолчала она и потом, всхлипывая, проговорила:
– Отпусти меня к отцу – не могу жить с тобой…
– Почему не можешь? – спросил он.
– К тебе по ночам шайтан приходит, ты разговариваешь с ним, кричишь… Страшно мне… Боюсь я тебя, – сказала она.
Прикрикнул на нее Докшуко.
– Не говори пустого, глупая женщина, – сердито проговорил он. – Я нездоров, поэтому и сон мой не спокоен…
К мулле Куденету, ученому старику, пришел Докшуко.
– Страшные видения, отец, посещают меня ночью, – сказал он, умолчав об Астемире и казачке. – Помоги, как избавиться от них.
Подумал мулла, сказал:
– Двор, где стоит твоя сакля, – проклятое место: страшное злодейское дело совершилось там, и кровь князя Астемира вопиет о мщении. Найди убийцу брата, отомсти за его кровь…
Вздохнул Докшуко и заговорил тихо и смиренно:
– Невозможно мне, отец, найти убийцу Астемира: кто знает, где он и где его искать?
– Бог знает, кто убийца, и придет время, он найдет и жестоко накажет его, – ответил мулла.
– Амен, – покорно проговорил Докшуко. – Но, – сказал он, – как же, отец, помочь моему горю?
– Попробуй перенести двор на другое место, – посоветовал мулла.
Приказал Докшуко рабам перенести двор на крутой берег Баксана, а сам поехал в горы, в гости к чегемскому таубию5.
Пробыл он два месяца в гостях, и за это время на новом месте была построена новая сакля. Возвратился домой он радостный и счастливый: ночные видения уже не посещали его.
А жена его печальна и молчалива была.
Настала ночь, лег спать Докшуко в новой сакле и скоро заснул, а глубокой ночью распахнулась дверь и вошли в саклю казачка, Астемир, Индрис.
И стал Астемир против Докшуко и, показывая на него рукой, проговорил:
– Вот кто меня убил!
И потом все трое удалились, но казачка вернулась, заломила в отчаянии руки над головой и заплакала.
Проснулся Докшуко оттого, что свет блеснул ему в глаза.
Около него стояла жена, одетая так, как будто бы в дальнюю дорогу собралась она идти. С испугом и недоумением глянул он на нее, а она, не спуская с него глаз, проговорила громко:
– Это ты, проклятый, князя Астемира убил!..
Не помня себя от ужаса, Докшуко вскочил с постели, бросился на двор, а со двора побежал в степь и скрылся в темноте…
И с тех пор пропал Докшуко.
Слышите, как воет Баксан?
О, нет! Не Баксан это воет: братоубийца, проклятый Докшуко, бродит в темноте и громко стонет, и молит Бога о смерти.
Но вовек не будет ему смерти: пока светит солнце, пока люди живы, Докшуко будет терзаться за содеянное им злодеяние.
Звените, струны, звените тихою печалью минувших лет…
Из книги «Легенды Кавказа»
«Высоко вырос»
У одного из владетелей Кабарды, князя Борока, был человек, по имени Шогонтыж, смешной человечек, низкого роста, полный, с жирными лоснящимися щеками.
Как собака, он всюду ходил за князем, часто развлекал его веселыми рассказами и игрой на балалайке.
Носил он на поясе длинный кинжал и шашку, а когда был с князем в походе или набеге, то не выпускал из левой руки тугого лука, а за плечами у него торчал колчан со стрелами.
Воины князя втихомолку смеялись над ним.
– Пустой человек! Какой он воин?! – говорили они. – Его дело – князю кумган с водой подавать, а он зачем-то оружие на себя нацепил?
И правда, не был воином Шогонтыж: в разгар битвы он точно сквозь землю проваливался вместе со своею лошадью, но, как только воины князя одерживали победу, он откуда-то появлялся и, размахивая шашкой, с гиканьем скакал за убегавшим врагом.
И в это время, глядя на него, князь Борок весело смеялся.
– Ах, Шогонтыж, Шогонтыж, – говорил он ему, – если бы Бог дал тебе большой рост, то ты один справился бы с моими врагами. Не правда ли?
А маленький человек, вместо ответа, поспешно брал балалайку и начинал воспевать подвиги князя и его воинов.
Был еще молод Шогонтыж и одинок, очень одинок: не было у него отца и матери, сестер и братьев, не было жены и близких друзей.
И как часто хотелось ему услышать теплое слово, испытать женскую ласку!
И увидел он раз девушку Санах, и полюбил ее, но сказать ей о своей любви не решался: боялся – засмеет его девушка. Но подоспело время и сказал он.
На свадебные танцы собрались девушки, собрались юноши, и Шогонтыж был среди них.
Один юноша, усмехаясь, сказал ему:
– Шогонтыж, и ты должен плясать…
– А ты думал, что я только смотреть буду! – возразил Шогонтыж, и стал рядом с той девушкой, которую любил.
И когда под звуки зурны и хлопанье в ладоши юноши и девушки, взявшись за руки, пошли кругом, он тихо сказал ей:
– Люблю тебя! Будь моей женой, калым за тебя большой приготовлю.
Улыбнулась она и, нагнувшись к нему, проговорила:
– Я согласна быть твоей женой, но сперва вырасти выше всех!..
Кончились танцы; вышел Шогонтыж из круга, и тоска была у него в душе.
С тяжелой думой шел он по улице и вдруг услышал, что кто-то зовет его.
Поднял голову и увидел около полуразвалившейся сакленки женщину, старую ведьму Аминат.
Мудрая старуха была она: в народе говорили, что шайтан навещал ее, и от него она узнавала то, чего другим людям и ввек не узнать.
Ночной порой прокрадывались к ней женщины, приходили мужчины, и запиралась Аминат с ними в сакле, и рассказывала им, что ждало каждого из них в жизни. И один выходил из сакли радостный, а другой – печальный.
Остановился Шогонтыж, спросил старуху:
– Что надо тебе?
– Зайди в саклю, будь гостем, – сказала она.
– Не могу, – ответил он, – иду по одному делу.
– Зайди, поговорим об этом деле, – промолвила старуха.
Подумал Шогонтыж и зашел в саклю, сел на скамейку перед очагом и рассказал, что случилось с ним на свадебных танцах.
Поджала тонкие и высохшие губы Аминат, подумала, покачала головой.
Потом сняла с полки пучок сухой травы, бросила его в очаг и зажгла.
Синим пламенем вспыхнула трава, а старуха глаз с огня не спускала и задумалась глубоко.
Вспыхнула последняя былинка и потухла, серый пепел остался от огня, а старуха стояла неподвижно.
Очнулась, вздохнула тяжело и сказала Шогонтыжу:
– Ты вырастешь высоко, высоко, но девушка, которую ты любишь, не будет твоей женой. Теперь иди, ничего больше не скажу, – прибавила она, когда Шогонтыж начал просить ее разъяснить, как это он вырастет. – Иди, иди, я все сказала.
Вышел Шогонтыж из сакли, и еще тяжелее было у него на душе.
Два дня прошло. Рано утром, когда еще не все звезды погасли, на улицах аула затрубили звонкие военные трубы.
И, услышав их звук, воины поспешно покидали свои постели, одевались, хватали оружие, седлали коней.
Пыль тучей поднялась над аулом от скакавших на конях воинов, бежавших толпой остальных жителей, людским говором, шумом и конским ржаньем наполнились еще недавно спавшие и пустынные улицы.
А трубачи на белых конях носились из одного конца аула в другой и трубили, трубили.
Весь двор князя Борока и улица против него были запружены народом.
– Что случилось? – спрашивает каждый, и никто не мог ответить на этот вопрос.
Но вот вышел из сакли Борок, окруженный узденями, стал среди толпы и сделал знак рукой.
Шум и говор смолкли.
– Воины! – начал – он. – Месяц назад я послал к абадзехам тридцать храбрых джигитов для сбора дани. И вот теперь узнал, что абадзехи убили двадцать девять джигитов, а тридцатого отправили ко мне. Хотите его видеть?
– Хотим! – закричала толпа.
По знаку князя из сакли вышел человек и стал рядом с ним.
И страшен был он: губы, нос и уши были у него обрезаны, и стоял он среди толпы, оскалив зубы, смеялся молчаливым смехом смерти.
Гнев охватил воинов, и крикнули они, потрясая оружием:
– Отомстим абадзехам! В поход, в поход! Веди нас, князь!
Три дня спустя, на заре ясного утра войско Борока выступило из аула.
Впереди ехал князь, окруженный свитой, а немного поодаль ехал Шогонтыж.
Не весел был маленький человек – не пел песен, не играл на балалайке, опустил голову на грудь, задумался и был угрюм.
Удивлялись воины.
– Что случилось с нашим «джигитом»? – спрашивали одни из них. – Все он молчит, все думает о чем-то… Но о чем может думать такой пустой человек?
Другие, посмеиваясь, говорили:
– Он обдумывает, как искуснее на абадзехов напасть.
И князь тоже обратил внимание на него.
– О чем ты думаешь? – крикнул он ему.
Очнулся Шогонтыж и отвечал:
– Я песню слагаю, князь.
– Пой ее, послушаем, – приказал Борок.
Выехал Шогонтыж вперед войска, настроил балалайку и запел:
– В ясный вечер, когда солнце уходит спать, целует оно высокие снеговые горы, целует вершину леса…
«Спите до утра, когда я вас поцелуем разбужу», – говорит солнце горам и лесу.
А при дороге лежит камень небольшой серый и пылью покрытый, и не целует его солнце ни утром, ни вечером, и только в полдень жжет его…
И, не докончив песни, Шогонтыж взмахнул балалайкой и ударил ею об луку седла, и тихой жалобой зазвенели струны.
Швырнул на дорогу разбитую балалайку и проговорил, обращаясь к князю:
– Не могу больше петь, князь. Тут, – указал он на свою грудь, – много красивых песен сложилось, но слаб мой язык, не в силах он передать их, а моя балалайка… она совсем-совсем отказалась служить мне…
Взглянул князь на Шогонтыжа, недоумевающе пожал плечами и не сказал ничего.
Тихонько отъехал Шогонтыж в сторону и был молчалив и угрюм по-прежнему.
Абадзехи ожидали кабардинцев в горах: в узком ущелье они устроили из бревен и камней прочный и высокий завал и засели за ним. По обе стороны ущелья, как две стены, стояли высокие скалы, и трудно было взобраться на них, чтобы потом напасть на абадзехов.
И князь Борок сразу понял, что много погибнет его воинов, прежде чем враг будет выбит из засады, и созвал он совет из опытных в военном деле джигитов, чтобы обсудить план сражения.
И долго длился совет.
Вдруг громкий крик пронесся по ущелью, и увидели кабардинцы: на скале, над самым завалом, стоял с обнаженной шашкой в руке Шогонтыж.
Абадзехи подняли вверх копья и готовились принять его на них.
Взмахнул Шогонтыж шашкой, бросился вниз и повис на копьях. И кровью истекая, громко крикнул он князю:
– Борок! Всю жизнь я был ниже всех, а теперь, смотри, как высоко вырос!
Умер он, и сбросили абадзехи его труп за завал.
Кабардинцы, прикрывшись щитами от летевших в них стрел, с большим трудом унесли его в свой лагерь.
Посмотрел князь на окровавленное и истерзанное тело маленького человека и проговорил, покачивая головой:
– Ну кто бы мог ожидать от Шогонтыжа того, что он сделал?
И никто не знал и понять не мог никто, что заставило трусливого Шогонтыжа искать смерти на копьях абадзехов.
Полной неудачей окончился поход князя: не в силах он был овладеть завалом и, потеряв немало воинов убитыми и ранеными, возвратился в свой аул.
Привез он с собой тело Шогонтыжа, похоронил за аулом в степи и на могиле курган высокий насыпать приказал.
Красавица Санах узнала, какою смертью погиб Шогонтыж, задумалась было, но потом рассмеялась.
– Какой он смешной человек был, – проговорила она и ни разу на могилу его не пришла.
Да и зачем ей было приходить, если Шогонтыж совсем-совсем чужой был для нее?
А старая ведьма Аминат, кряхтя и охая, взобралась на курган.
– Хм… хм… – усмехнулась она и проговорила: – По-моему вышло!
И до глубокой ночи просидела она на кургане, думая о чем-то.
Кто знает, о чем она думала?!.
Евгений Баранов. Певец гор и другие легенды Северного Кавказа. М.: Издание Д. П. Ефимова, 1914.