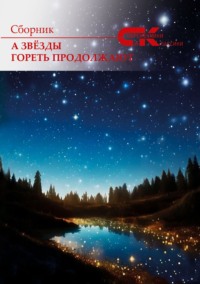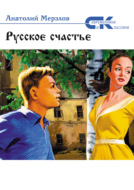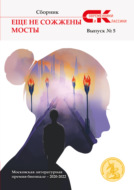Kitobni o'qish: «А звёзды гореть продолжают»
* * *
© Интернациональный Союз писателей, 2024
Предисловие
Меняется всё в нашем изменчивом мире. И кажется, будто с каждым годом круче и круче повороты. Вот уже становится чужим привычное, выглядит незнакомым обжитое. Целые государства приходят в замешательство: кто нынче друг, а кто – враг? И когда всё в движении и круговерти, так легко потерять почву под ногами. Где она, опора? Во что верить?..
Гляньте в ночное небо. Там всё те же звёзды горят для нас, напоминают о вечных истинах, которые переживут все эпохи, все наши катастрофы и катаклизмы.
Авторы пятого сборника серии «Современники и классики» в рамках Московской литературной премии-биеннале – 2022–2024 приглашают нас на поиски вечных истин в этом стремительном мире.
Осмыслению неразрешимой загадки смерти посвящён роман молодой петербуржской писательницы Лены Аляскиной «Ангелология». В разделе «Проза» представлен его фрагмент.
Сколько живёт человечество, столько и пытается разгадать неразрешимую загадку любви, и каждая эпоха рождает свои озарения, гипотезы и заблуждения. А какой облик может принять любовь в ином, параллельном мире? Читайте в произведении Светланы Гонсалвес «Любовь на выброс. Атака биороботов».
Рассказы другой петербуржской писательницы, педагога Наталии Журавлёвой, «Смерть помещицы» и «Матрёша и Марта» приглашают задуматься об итогах, к которым мы приходим на жизненном пути, и о тех открытиях в самих себе, что совершаем по дороге.
Литературное творчество Дарины Никоновой, несомненно, удивит читателей остротой, ироничностью и стилевым разнообразием. В этом сборнике представлены и прозаические миниатюры, и забавный поэтический сериал «Коты и мечты», и стихотворение по мотивам произведений английского писателя Терри Пратчетта Dear Death.
В разделе «Поэзия» вас ждёт немало интересного. Автор множества поэтических сборников, поэт Иван Будник представит фрагмент философской поэмы «Кровь времён». Любовью к Родине, к её природе и истории, к людям, которые эту историю свершают, проникнуто поэтическое творчество Валерия Василевского. Алексей Кривенко (Донской) – романтик в самом высоком значении этого слова, его поэтическое творчество посвящено бесконечному поиску и радостному удивлению красоте нашего мира.
Несомненно, порадует читателя и творчество американского поэта Льва Рахлиса. Его цикл стихотворений – забавный путеводитель по городам и странам Европы.
Новых открытий и впечатлений на страницах этого сборника, дорогие читатели!
Издательница серии сборников «Современники и классики», писательница, литературовед, публицист Ольга Грибанова
Проза
Лена Аляскина

Родилась 29 января 2003 года в Ленинградской области. Писать начала со школьных лет. Занимается библейской филологией в Санкт-Петербургском государственном университете. Работает в жанре современной психологической прозы.
В 2023-м издала первый роман «Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?», а в 2024-м – повесть «Ангелология»1. Оба произведения вдохновлены рефлексией на тему смерти и её места в человеческом существовании.
Финалист Московской литературной премии-биеннале 2022–2024 в номинации «Большая проза».
Фрагмент романа «Ангелология»
I. Астрофобия, бог, усталость, добро
ты думал, что я человек,
а я просто жёлтая иволга глазастый детёныш сайгака
жук, которого ты боишься встретить в траве
сердце из гипса
зелёная веточка лавра
дзёси икита, 2020
Концепцию ада как субъективной сферы сознания они проходили на первом году обучения в средней школе. На вымерших от холода колоннах в инфракрасном сиянии в классе висели кресты, делающие помещение похожим на многоместный следственный изолятор. По субботам Эллиотт надевал уродливые шерстяные свитшоты с черепушками-нитками поверх рубашек и садился за первую парту, чтобы оперировать перед воспитателем каждый раз свежими цитатами, подхваченными из трудов по экзистенциализму, потому что даже в тринадцать находил мало смысла в вещах, которые не являлись непознаваемо-абстрактными; как и полагалось выстраданной симпатии к явлению смерти, она привела его к Камю2, а оттуда – к Сартру3, и он с иронией и готовностью перехватил у учителя вопрос трактовки.
«Ад – это другие»4.
Каждый раз он выглядел таким гордым, почти качаясь от рессорного подвешивания значимости, золотинками-микроураганами сыплющейся за воротник. В квадратах окон лавировало уханье полярной совы, мягко усмиряющееся под бураном.
Ад – это другие, так подумала Хейден, когда приехала забирать его из больницы; по обросшим стендовыми наклейками проходам тянулся асептический, тошнотворный – и неуловимый – шлейф-водянка отлично знакомого коктейля: люцерновой воды, стерильности, отвара медуницы, мороза со снежащихся карнизов цвета яичного желтка вкрутую, с изразцами пятновыводительных венок-затворок. Счастливою случайностью дата выписки совпала с первым за сезон дождей днём, в который бесконечные калорийные тучи, оставив после себя дымку, рассеялись, и сквозь пробоины в вате наконец просочилось ещё не остывшее траурно-тротуарное солнце-дисфорик – в глазницах форточек серпантином от накаливания блестел, как паутинные южные созвездия, зеленистый склон холмов Тонгасса.
Расплавленная высь казалась особенно глубокой и голубой в то утро; и меж отдающих хлоркою контражуров пекарен и шкворней засахаренных пищеводов города, кардиограммою выстроенных по горизонту, теплился замшевый микротуман. По палубе клиники сновали в авторежиме капельницы на штативах. С каких-то пор Хейден повадилась искать утешения в хорошей погоде, изучать прогноз, запоминать оттенки на небе.
Во влекомом кровянистою рябью рассвете Эллиотт, как в их первую встречу, запрокинутый силуэтом в средиземноморское тепло отделения терапии, мерно раскуривал электронную сигарету: узоры на его белеюще-отбелённой (прозрачный и грунтово-малиновый) футболке с радужной брошью сплетались в оленят-младенцев с вырванным костным мозгом, бабочек-однодневок, толстобрюхих котят с бантиками, складывались в тряпичные звёздочки. Кто-то обклеил залу отдыха распечатанными летающими тарелками и треугольниками стоп-сигналов; глобус на подоконнике давно выцвел при ультрафиолете, но под него стабильно подкладывали мисочку в форме сердца с овсяным печеньем с шоколадной крошкой; Хейден почему-то вспомнила комнату, в которой они давно не жили.
«Чего ты так боишься?» – поскольку маленький Эллиотт стоял к ней спиною, его слившаяся с контурами багряной мебели (в щёлочке висели кенотафы5 делений кампуса с горшками фикусов-гигантов и сансевиерий) фигура походила на бесформенную чернильную массу больше, чем на нечто живое в казённой ночнушке. «Нет там никаких монстров. Там никого и ничего нет, кроме твоей зимней куртки и старой обуви Патриции. Медиатворцы развивают фобии из ниоткуда и наживаются на таких как вы». В ритме колыбельной трепетала над темечком портьера, и Эллиотт оборачивался и смотрел на неё, и в исхудалой и разлитой грязно-бурым пятном пашне горели только его белки с сосудами, чуть смытыми: хрупкая по масштабам спальня никогда не напоминала погост так отчётливо, как в этом вычурном ночном мраке.
Из детства помнился вечный май, что разрастался за жалюзи, май – поля стылых в синусите, склизких косточек, разноцветные вертушки в траве, аромат промёрзших изгородей, колонки в газетах о шифре Наска на заднем дворе средней школы Анкориджа, градусная лимфа и по-детски бессмысленное – и бескрайнее – море в варке, – но заколдованный ворожеями-самоубийцами район, на котором опухолью распустился католический приют, даже в памяти был перманентно и удручающе тёмен.
Двенадцатилетний Эллиотт, переставая тереть переносицу, садился рядом и подставлял лицо дремуче-немому послемраку, змеящемуся из ночника в виде тыквы, – и из-за спины его ветвились щупальцами мерцательные скотомы6в визуальном снегу, зной захваченной духами комнаты, отсыревшие венулы коридоров, скапливающиеся синевато-мятными зайчиками в складках кожных тканей; забившиеся в тумбы паучихи, тараканы, трещинки да шрамы, которыми щедро был залит фундамент здания.
– Хочешь, – он пытался привлечь её уткнутый в колени взгляд, – я расскажу тебе сказку, после которой ты перестанешь бояться монстров?
Тюль занавесок подёргивался, поддаваясь кивку Хейден, потому что всё, чего ей хотелось, – это схватиться за предложенную лестницу бегства и выползти из собственного черепа.
И тогда Эллиотт рассказывал ей сказки, наполненные слизью чудовищ из шкафов, кровью, трупами родственников. В четырнадцать он решил покрасить оболочки общей спальни в чёрный, налепить сверху снежинки с Альдебарана. Говорил, что твёрдость обычных материальных объектов вокруг – это следствие запрета Паули7 и принципа неопределённости Гейзенберга8: повседневные разговоры с ним превращались в сеансы экзистенциальной психотерапии. Пускаться в вихрь честности было немного страшно – вот так, с разбегу, не зная толком, что честность собой представляет.
Воспоминание сильно размылось в рассудке, отдающее горечью быстрого приготовления.
Эллиотт давно перестал заниматься творчеством, исколол все жемчужные ушные хрящи и выкрасился в розовый. В косматой отмели лавы с люстр проглядывали кусками его взрослые руки, облепленные бинтами-циркулярами, зажавшие пальцами сигарету, а ещё множество разбегающихся массивных колец – с лягушками, ландышами, с лунным месяцем, соцветиями васильков – догорали сверхновыми где-то уже во тьме реанимационного полумрака. И Хейден пошла на едкий розовый, к синтезированному дыму, будто по верёвочному мосту над пропастью в саже, сквозь воздушную квантовую механику и электрические щитки, будто на сигнал маяка, пока её не съела полоса рубцов искусственного освещения.
Жгучая приторность близости раскатилась по телу уже в салоне машины.
– Два месяца ждал, когда смогу сделать это, – прохрипел Эллиотт, затягиваясь во взбудораженном воздухе; зазвенели звёздочки на его пятнистой футболке, похожие на когти плюща.
– Хочешь заехать в секонд? – спросила Хейден, рискнув без сноровки перепрыгнуть никогда прежде не преодолеваемую преграду, потому что не переставала удерживать на прицеле осознание, что Эллиотт заблаговременно избавился от девяти десятков процентов гардероба и что, кроме истончившейся и севшей толстовки с эмблемой одного из альбомов Pink Floyd и савана лежалых колеблющихся радиоактивов, в их доме от него ничего не осталось.
Она не могла засыпать по ночам и ложилась к рассвету, сжимая толстовку в руках, и ей снились их вылазки на материк и поиски «клёвой» одежды в длинных нитеобразных магазинах; клешни торговых комплексов, что походили на скопления брусков подёрнутой эпидемией горной слюды; многоглазая глубь за вращающимися дверями развлекательных центров – а когда она просыпалась, пропущенный призмою луч на принте втыкался в сетчатку. Хотелось спросить у Эллиотта: а тебе снятся люди из нашей новой жизни? Тебе снится Стикс, его сувенирная лавка, Чоль и то, как мы зависаем с ним в караоке-барах на Дни благодарения? Может, медсёстры или наши соседи, которые ненавидят всех, может, рыбаки, которые утягивают тебя выпивать по выходным, но чьи фамилии ты никак не можешь запомнить? Ей снилось только прошлое: коридоры приюта детей-ангиаков9 иногда мутировали в коридоры ночного клуба, холмового домика или частной клиники, но Эллиотт везде оставался одинаковым, сросшимся с ней внутренностями в одну из канцерогенных и неопознанных развилок, сидящим в той же дырявой лодке. В кошмарах они в основном ссорились по бытовым поводам или лежали рядом друг с другом на грязной кровати с простынью, не стиранной месяцами.
– Ну-у, – сначала протянул, а потом задумался Эллиотт, уже не глядя на Хейден – только мимо, в высь, забинтованную облаками и муссонами, и ранка на щеке пропала в полумгле, зато сверкнула радуга на сердце, из которой посыпались крошечные привидешки. – Не сейчас, цыплёнок. Прости.
Хейден уставилась на крупянистый парусник острова – полтергейст больницы, будто космический шаттл, покрытый мозаикой апплике10, напротив которой они стояли. Поймала химозно-никотиновый выдох в профиль – гром токсина угрожал высосать весь пульс из желудочков и предсердий парковки, – но не двинулась и не отвернулась, упорно дожидаясь продолжения, которого не последовало. Слипшиеся до закупорки нейрохимические тропинки позволяли ей распознать, а затем разделить подавленность, охватившую Эллиотта при перешагивании порога клиники: это была та сокровенная и уязвимая взволнованность, которую Хейден ощущала в нём, когда они впервые побывали в застроенных высотками районах Лос-Анджелеса – лавировали меж медвяных зернохранилищ, галерей, поросших терновником, водонапорных башен, складывающихся в спиралях митрального клапана Тихого океана в пробковые червоточины на пейзаже, и заброшенных музеев (всего, что, казалось ей, обязано было понравиться Эллиотту); это была та причина, по которой спустя месяцы рассматривание небоскрёбов Калифорнии даже на фотографиях стало доставлять физический дискомфорт, хотя она любила Калифорнию и любила небоскрёбы, любила то, как серостеклянные махины шатаются под её пальцем при попытке увеличить изображение. Эта первопричина была неявна и оттого откровенна, – и, вероятно, не могла концептуально не разочаровывать, пускай и только подспудно, вынуждая медлить с признанием.
В первый апрельский солнечный день Эллиотт закрылся кофтой, оказавшейся пропитанной перегаром, лечебно-ромашковым мылом и парами клюквенного глицерина, чарующе высоким её воротом, маскирующим шею, к которой то и дело тянулся пальцами и порядочно расчёсывал; и под дифракционным пеплом в его рыхловатых, мелководных глазах – крестиками над поступью заснеженных мачт-портов, ядра турбулентных зрачков, парящие над бездною райка, – невесенние проседали тени окольных лип.
Его макушка оказалась мягкой, как не успевшая полинять тушка новорождённого ягнёнка, когда Хейден прикоснулась к ней в первый раз после выписки. Киноварная проседь на срезе поглотила запястье так же, как самолёт-сверчок ольховою чайкой глотает горизонтальное небо, натекающее с мглистых нив. Морось впилась в фаланги пальцев, потекла от них вдоль артерий ящерками, утолщилась, гремя по всем органам, от печени до селезёнки, до конвульсирующих восторгом ресниц, до трансформированной, набитой остывшим пластилином беспокойства семечки горла.
– Хорошо, – голос непроизвольно повысился, отскочив пульсацией от решёток. Монахиня из интерната твердила и, похоже, действительно верила, что розовые волосы бывают только у сатанистов, пришельцев или недоработанных творений из глины. Он с Альдебарана? Или с Сигмы Весов? – Может, хочешь чего-нибудь взять в кондитерской? Или… мы можем заглянуть в кафе? Куда только скажешь.
Из-за глубокой ализариновой11 сочленённой с волосами ладони послышалось мычание, и Эллиотт с осторожностью вывернулся из-под глажки и отстранился: с расстояния стало видно, как слой гигиенички мутно, играясь разрядами плутониев-полутонов, деформирует линию верхней губы в жесте выедающего одобрения, морщит ранку, – он остановил пальцы в миллиметре от глазури гипюра, служащей завесою чему-то фатиновому, беспробудному и холодномолочному, что должно было остаться в больничной палате, но по какой-то причине не осталось.
– Не хочу, Хейден.
За спиною его свистел по распластанным сетью аффрикат трубам глухой отчаянный ветер-кит. Он вновь затянулся, глубже, чем прежде, и гораздо более нервно. Среди повисших поверх ключиц ожерелий отдалённо угадывалось тефлоновое двустороннее лезвие, на котором серебряные колокольчики раскусывали медовость блика, а в сывороточном освещении розовость на макушке приняла бергамотовую расцветку, отчего у Хейден подсердечно зачесалось. Перед отъездом Стикс, выкрав у неё телефон, напечатал в заметках что-то о том, что источник вины, которую она испытывала, был «связан с первородным грехом и порождался не болтливым умом, но телом, не отделимым от него». Она машинально потрогала два крестика на своей шее сквозь несколько слоёв плюша:
– Хорошо, Эллиотт.
Завёлся мотор. Они осторожно выехали с больничной парковки, и она могла услышать, как в воздухе тянет ароматами шампуня без добавок, лепестковых прядок, прокопчённых ромашками, псевдо-маргаритками, кофейными незабудками, плавающими в киселе цифрового оледенения, анфиладою зеленеющих, словно толстокожий слой гравия, кипарисовых плит в травянистых наростах, вспыльчиво расцветающих раффлезиями за овечье-снежным парковым вишенником, колыхаясь над плечами амбаров. Все выстланные секвойями и меловыми досками дорожки, ведущие к частной клинике, куда Эллиотта привезли два месяца назад с ожогом желудка – Богу ведомо почему, – застойною кровью и цветниками.
Проехали ярус набережной, коснулись преддверия трахеи опустошённого парка, уводящего в один конец стёжек ночносменников, в другой – отпускных жаворонков, за которыми уже плавали ауры лекарственных трав и тление илистого перегноя-раствора, будто с далёкой-далёкой Вирджиния-Бич. Обычно в утомляющих его поездках Эллиотт заводил разговоры про феномен камеры смертников или квантовое самоубийство, отодвигая финиш диалога от того вектора, в который он всё равно сходился, как в сингулярность; теперь он молчал, и молчание нервировало. «Эта вина неотделима от гиперкатексиса12, которым ты занимаешься, от твоего способа зарабатывать деньги, ритуалов соблазнения, литров J-Lube13. Как и космологическая постоянная у Эйнштейна, этот выбор был самой большой ошибкой в твоей жизни, Хейден».
Где-то вдалеке гремели строительные краны, холст небес, будто в агонии, изрытвляли режущими стонами белостанные зернистые чайки. Всё резонировало сиянием.
– Ты ведь в курсе, что апрель не всегда такой тёплый и погода на островах живёт по хаотичным законам? – произнесла Хейден, ощутив на губах тут же потяжелевшее в гелиопаузе послевкусие горьких ягод, не сокрушённых на мысли смол-токов, стоило автомобилю уронить вес на разметку ограждений мостовой. – Одевайся теплее, если не хочешь заболеть, обязательно носи шапку.
Эллиотт ничего не ответил, и она, сглотнув, отвела взгляд, а уже после услышала:
– Ты правда считаешь, что нам стоит поговорить о погоде? – и увидела, как остриженные медсёстрами ногти снова потянулись к шее. Эллиотт смотрел в туманность пустоши между гор, повёрнутый к Хейден корпусом, перекинув ожидающий чего-то взгляд через её темечко. Немного напоминал утопленника-рыболова, расцветом кувшинок на позеленевших – йод и ментол – берёзовых бровях-жабрах немного напоминал своего отца, которого Хейден никогда не видела. – Будем говорить о том, о чём говорили эти два месяца?
Мы будто игнорируем некоторые несколько более значимые вещи.
– Хорошо, что ты хочешь, чтобы я спросила? В твоём пищеводе ещё остались следы кухонного отбеливателя? Как ощущения после ампутации желудка?
Хейден взглянула в навесное зеркало, под которым, постукивая по приборной панели, болтался миниатюрный ловец снов, и увидела плотные, словно акульи плавники, зрачки; теперь, во флисовом свете, очерченный литым медным контуром, мерцающим под дворниками, Эллиотт вызывал в ней тяжёлые чувства. Он поджимал губу, он часто так делал, когда не хотел прямо демонстрировать недовольство, на нём трепалась нагарами жидкостно-фисташковая кофта, и одна прядка тростниковых зёрен-волосинок настырно лезла в ресницы, из-за чего он выглядел чуть забавно при ответе:
– Ощущение инфантильной тоски, извращённой неудавшимся побегом от рутины, если коротко, – с растопленной в солидол сквозистою улыбкой, спрашивающий так, будто не ожидал ответа: – Мы готовы называть вещи своими именами, Хейден?
Она пробурчала:
– Я не готова ссориться.
– Мы и не ссоримся, – возразил Эллиотт пусто-инородной (малиновый, внеутробный белый) интонацией, краснея, наверное, от досады и напряжения, а может, от перерезанных жижею слизистых. Это был предсказуемый ответ. В его дающихся с трудом форсирования нестабильных эмоций словах поэтапно зачинали прослеживаться явные бихевиоральные паттерны, о которых рассказывал доктор Тейлор: аутоагрессия, противоречивость мимики. Во всех справочниках, которые Хейден прочла, возвращение домой из больницы называлось самым трудным периодом антикризисного плана.
По кистям стихийно курсировало, как кипячёный топот, нечто очень остервенелое и по-звериному безобразное, кинутое на артерии гарью от фальшивого табака. Обида, злоба или бессилие. Выблеванные послеливневою свежестью стволы-обоймы кругом них образовывали один неподвижный лабиринтно тянущийся сустав с прорезями сиреневатых троп и плесневелых струпов, и со всех сторон сверкали балюстрады, велосипеды-призраки, кластеры рыбных рынков. Даже руководствуясь этими компасами, ориентироваться по нитям конденсационных следов, по бельевым верёвкам на фанерах, по белилам, копотью осевшим на обнищавших церковных лавочках туристического проспекта, всё ещё не получалось.
В рекогносцировке город был лишь набором уравнений и гравитационных постоянных. По крайней мере, Эллиотт любил это подчёркивать.
Окраина равнины – молотые отголоски форпоста бесов и демонов, целлюлозных камней в чернилах, упрятанных под низкими лопастями-черепицами ветряных мельниц и солнечных батарей, поля синтетики, потемневшей от перламутрово-чахлого половодья, бывшие когда-то жилыми коробкáми строения сараев, телевышки; окружённый мелодией до искалеченного превосходных Gnossiene 1–314, друг за другом, – секонд-хенд, в который они повадились выбираться после каждого праздника и в котором работала милая девушка из пригорода Теннесси и, обычно соглашаясь с Эллиоттом, зажимавшим под мышкою янтарную бутылку Jack Daniel's, в том, что «музыка Эрика Сати пробуждает в людях уразумение сложностей пианистического искусства», часто рассказывала байки про трейлерный парк, в котором выросла. Или, скорее, про обесцвеченное остроугольное решето крошева, какое от него осталось. В первый раз уезжать было страшно, говорила она. Всех, кто долго жил в плохих местах, питался промыслом, худо-бедно турбизнесом, исследовательскими или хоть какими-нибудь амбициями, так или иначе что-то держало; уехать – значит обрубить корни, говорила она, а иногда это единственное, что делает почву твёрдою под ногами.
После их последнего Рождества Эллиотт порывался ходить по комиссионным пунктам в одиночку. Когда он возвращался, от него пахло небритыми коллегами-рыбаками и метанолом, а на тонкой вспотевшей шее, не вписываясь, дёшево блестела глиттерная упряжка, и тянула спиртом, бронзой и желтизною цитрина, в который он заковывал запястья, и это было… раздражающе, но красиво. А когда он в таком состоянии больше пытался, чем рассказывал что-то о концертах Джулиен Бейкер15, как люди смотрели на неё на сцене, замерев и почти затаив дыхание, во всепоглощающем молчании, и переносил вес с одной ноги на другую в попытке поймать устойчивость, фон смазывался вослед чередою чёрных, белёсых, дымчатых, антрацитовых, смоляных, минеральных, торфяных и угольных вспышек, вероятно, оттого что каким-то образом кислый халитоз16 делал Хейден тоже опьяневшей даже с нулевой дозой алкоголя в организме.
Она никогда не признавалась в этом самой себе: её корнями были фантомы, прикрученные к местам детства, поросшего деревянными крестами и усыпанного падальщиками, что, воскресая, кроили текучее небо на вафельницы, оторванный кусок-ромбик островной удавки на горизонте и вечно философствующий мальчишка с избегающе-отвергающим типом привязанности, – она никогда не задавалась вопросом, почему не оставит всё это, потому что любой ответ на него не предполагал под собою реалистичной ценности, и задача не предусматривала ассортимента решений.
Они стали подниматься по бетонированному шоссе к последнему домику до Уорд-Кова, уже немного тронутому деформацией, у синюшного, вскипающего от высокоградусного апреля моря, когда Эллиотт наконец пробормотал:
– Один чувак из больницы дал мне прочитать несколько глав «Отрицания смерти», – создал паузу и закончил так быстро, что за порывами пылевых бурь, фонтанирующих в шинах, мало что удалось разобрать: – Там было написано, что одним из самых распространённых способов отрицать свою смертность является вера в загробную жизнь. После того как я некоторое время обдумывал этот тезис, я подбросил книжку до потолка. Как какой-то там учёный подбросил жестянку с табаком на Тринити-лейн17, когда понял, что онтологическое доказательство верно, или вроде того. Я имею в виду, может быть, наш ужас перед забвением объясняет многие вещи.
– И… что именно заставило тебя прийти к подобному выводу? – спросила, чтобы облегчить напряжение раздумий, Хейден. Эллиотт приподнял голову. Его кожа переливалась, пока автомобиль вступал в предваряющий свёрнутую кровь занозистых, раскинутых по меридианам гирлянд тоннель-тромб и вдруг качнулся, попав под обстрел вымоченного пеклом бриза.
– Наверное, то, что я побывал на грани жизни и смерти, Хейден? – с бесцветною улыбкой сказал он. – И я ничего не увидел.
У него за плечами во все рейсы отпечатались настовые ряды секвойи. Он говорил так, словно записывал речь на слепяще-свинцовые, подобные его радужкам, пластинки «Пионера», словно это были последние его слова.
– Это забавно, – и продолжал, не шевелясь: – Но, помимо всего прочего, среди мрачных сентенций попадаются и оптимистичные, и обнадёживающие суждения… стойкого позитивизма. Потому что, я думаю, единственная гарантия, которую мы получили на Земле, кроме очевидного летального исхода – это то, что мы ничего не можем утверждать со стопроцентной вероятностью, и любая теория имеет шансы оказаться чепухой. Даже наука кормится потенциально опровергаемыми гипотезами. И когда другие обещают, что всё будет хорошо, возможно, это будет немного не то хорошо, которое мы представляем.
– В этом есть смысл, – угрюмо поддержала Хейден. Она слышала, как её, скорее, стабилизирующая интонация отличается от его собственной после двух месяцев интенсивного принудительного восстановления.
Крюк беспризорного и суженного пространства холма – прель на седом – гнулся к чересчур крутому, с намыленным жирными реактивами покрытием спуску: непрерывное торнадо и в зимнее время огибало его нимбом сюрреализма. Ромашки вокруг дома были осквернены трутнями масляных красок и химических очистителей. Кажется, в прошлый, в последний раз, находясь здесь вместе, они поссорились по поводу влияния экзистенциального ужаса на эволюцию вида homo sapiens, и крик Эллиотта случайно вырвался, как ливень в сезон, на верхний ярус леса, и Хейден расплакалась, окропив на память беспомощностью перила крыльца.
Ей было так стыдно за себя – и прошлую, и настоящую. Ей не хотелось, но она подумала: «Мы дома» – и сделала шаг, чтобы выйти из машины.
Перед одичавшей подснежниками папертью Эллиотт притормозил и сказал, занеся ногу над ступенькой:
– Внимание, мы входим в систему VV689, – и вдруг улыбнулся – зажглась в уголке румяною искринкой плавкая дуга, морщинка слева – и лучиками под глазами с вертикалями отпечатков. – Слушай, у нас ведь завалялась где-то старая карта звёздного неба? Давай отдадим её Стиксу.
Хейден смотрела, как по его скулам мазало неухоженными трещинами света, точно проспиртованными рыбацкими сетями – они углубляли мальки теней, делая Эллиотта взрослее.
– Давай, – серьёзно сказала она.
Он кивнул и шагнул вперёд.
Поднялись на вершину скалы этажа, разверзшуюся тесноватой плитою, распыляющей аромат супесчаной почвы и почему-то вереска, – и пошли в обратную сторону. Слишком похожие на приютские, витки проходов слегка мутили сознание, и Хейден старалась цепляться только за маячащую впереди спину Эллиотта, словно за громадную хиппи-нашивку, удерживая себя от порыва взяться за его руку. Хрусткий клевер-шторм за лопатками на мгновение просочился вместе с ними внутрь квартирки.
Узенькая прихожая, вешалка, располосованные грязно-солнечным кружевом плицы порога-электромиксера – всё было погружено в глянец, который прорезала эфемерная дорожка блёклости; в глаза бросилась горка банок энергетических напитков, чёрно-пурпурным пятном выделяющаяся на завалах одежды в стирку, и пара оброненных Стиксом библиотечных книг. Хейден услышала, как громыхают грузовики с окружного шоссе под холмом. Увидела овраг телевизора, над которым леденела свора старинных репродукций, солнечными забальзамированными разводами чернила расползались по их поверхностям. Включён был MTV; кислотный корковатый ледяной доспех спящего экрана отсвечивал в глаза, а где-то высоко в воздухе сквозь распахнутые рамы звонко-звонко, протяжно, как перед смертью, выли чайки.
Засуетившись сквозь птичий рёв, окружённый до того проводами на опрокинутом металлической солнечностью полу, кажется, понемногу веселеющий от зноя, Стикс тут же подскочил и бросился на Эллиотта с объятиями, и тяжесть его прыжков отчеканилась раскатами от гарнитуры, и Хейден, щурясь на свету, едва разглядела улыбку у него на лице, а уже потом заметила вместе с паучьими пальцами вытянутую для приветствия руку. Заражающий пространство влагой дезинфектанта Эллиотт не выглядел полным энтузиазма, позволяя сжать себя в хватке локтей, терпя длительность тактильного контакта, а когда тот разомкнулся, Стикс картинно смахнул с себя паутину электричества, словно змеиную шкурку, и, погрустнев, показал Хейден пальцами: «Я же просил тебя купить рисовое молоко и тостовый хлеб по дороге», – она не смогла ответить, потому что рассматривала слишком пристально: подвеска из бисерных звёзд, плетёное колье разнообразного бижутерного сплава, бирюзовые шарики на шнурке, многослойные цепочки-струны, такой же, как у Эллиотта, бритвенный струпик, не доползающий сантиметра до солнечного сплетения… При виде непривычных, но уютных элементов нижние рёбра почёсывались.
От шороха, с которым высолнеченный зарницами в самой порожней сердцевине комнаты Эллиотт стал сворачивать моток карты – словно это было наиболее важное дело, которым следовало заняться по возвращении спустя два месяца, – расходились проседями смерчеобразные зефиры.
Неожиданно стало… ужасающе светло с его приходом. Подранный чемодан из кожи нашёл приют возле батареи: его внутренность Эллиотт давно использовал вместо этажерки для хранения каких-то стареньких книжек по философии и горшка с полумёртвым (и поразительно живучим) цветком;
на столе прорастали банка арахисовой пасты и сломанные стереонаушники цвета кипучего ляписа, покрытые ванильною рябью, которые Хейден так и не нашла сил выбросить. Всё же совсем удручающий вид приобрела обстановка в отсутствие второго жильца: пара помятых жестянок баночного пива подле ног таяла в отсветах, засвечивала натянутый меж торшером и подоконником постер с рекламой «форда» третьего поколения, крапинки амальгам тестом рассыпались по боку коробки с фруктовым пуншем – маниакально-невежественные и порочные, неопровержимые, веские улики неопытности в ведении одиночного существования.