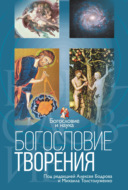Kitobni o'qish: «Научные и богословские эпистемологические парадигмы. Историческая динамика и универсальные основания»
© Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009.
* * *
От редактора
Эпистемология была и остается полем диалога между наукой и религией, наукой и богословием. Проблема веры и знания, многократно трансформировавшаяся на разных этапах развития культуры, никогда не устаревала, но, наполняясь новыми смыслами, постоянно находилась в фокусе мировоззренческих споров. Если говорить о культуре как о пространстве ценностей, то параметры этого пространства (сегодня не менее, чем в прошлом) зависят от того, как ставится, обсуждается и решается эта проблема. О состоянии культуры, ее самочувствии и самосознании, можно судить по тому, на каких позициях стоят участники диалога, разделены ли эти позиции завалами и полосами отчуждения, или же общими усилиями эти преграды устраняются.
Главным пунктом диалога является вопрос об основаниях и образцах, какими руководствуются богословие и наука – представители веры и знания, претендующие на адекватное выражение сущности этих двух важнейших форм человеческой духовности. Образцы складывались исторически, история же (прежде всего история духовного становления человечества) наделяла их особыми полномочиями, которые, впрочем, исторически же менялись и пересматривались. Быстрота изменений – показатель динамичности культуры. Важна и обратная зависимость: преобладанием тех или иных образцов богословского и научного рассуждения и исследования во многом определяется темп и направленность культурного развития. Проблема сопоставления и исследования взаимовлияния богословских и научных парадигм есть, по сути, проблема выяснения внутренних движущих сил культуры. Она особенно остра в периоды культурных кризисов, когда актуальна альтернатива: найдет ли культура в себе силы для продолжения восходящего развития или угаснет, запутавшись во внутренних противоречиях и ослабев под напором внешних разрушительных факторов. Наше время, похоже, именно таково.
Международная конференция «Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая динамика и универсальные основания» (Москва, 14–18 ноября 2007 г.), организованная Библейско-богословским институтом св. ап. Андрея при поддержке John Templeton Foundation, была посвящена обсуждению этой проблемы. В настоящей книге собраны наиболее важные доклады, представленные на этой конференции, а также статьи победителей исследовательского конкурса с тем же названием.
Нэнси Мерфи. Христианское богословие, научный натурализм и естественные науки: опыт эпистемологического осмысления
Я буду отталкиваться от предложенного Макинтайром рабочего определения традиции, а также от его размышлений о том, как возможно (хотя и не всегда) рационально «примирить» соперничающие системы взглядов, при том что каждая из них оперирует собственными критериями рациональности и представлениями об истине. Сразу замечу, что, по Макинтайру, это предполагает, кроме прочего, осмысление тех интеллектуальных кризисов, которые переживает каждая из традиций, а также ее способности их преодолеть. Поэтому далее мне бы хотелось бегло очертить основные этапы истории современного натурализма, соотнести их с макинтайровским пониманием традиции и показать, какие наиболее серьезные интеллектуальные испытания выпали христианскому теизму в Новое время и как ему удавалось с ними справляться. Кроме того, я попытаюсь вкратце охарактеризовать еще один возможный кризис, о преодолении которого уже сейчас стоило бы задуматься сторонникам натуралистической традиции, после чего предложу несколько обобщающих соображений, на мой взгляд, впрямую связанных с темой конференции.
Современная философия науки существенно поколебала преобладавшие в течение многих веков просвещенческие представления о естественнонаучном знании. А как обстоит дело с богословием? Здесь мне бы хотелось поразмышлять об этом в контексте эпистемологических исследований А. Макинтайра, на мой взгляд, точнее, чем кто-либо, охарактеризовавшего природу человеческого разума. Конечно, он мыслит в рамках философии науки 70-х годов, но соотносит свои построения с более широким мировоззренческим и культурным контекстом. Моя основная посылка такова: современное состояние мысли больше не позволяет говорить об диалоге науки и христианского богословия как таковых, но многообразным традициям внутри христианства в наши дни противостоит не менее влиятельная традиция, которую можно назвать научным натурализмом (scientific naturalism). Итак, речь пойдет о взаимодействии научного натурализма и христианского богословия в их отношении к естественным наукам.
Макинтайр о природе и сопоставлении традиций
До сих пор я употребляла слово «традиция» в обыденном, расширительном смысле. Теперь же мне хотелось бы ввести более узкое, философское определение этого понятия, которое предлагает Макинтайр. При том, что он сам категорически отказывается считать себя эпистемологом1, именно ему, на мой взгляд, удалось наиболее точно и всесторонне описать природу человеческого разума. Однако моих собеседников чаще всего подобные заверения не убеждают. Возможно, их смущает невразумительность моих текстов или отпугивают увесистые макинтайровы тома, но, если говорить серьезно, вся значимость этого мыслителя обнаруживается только в более общем контексте философских исканий 70-х годов XX века. Можно сказать, что эпистемологическая линия в творчестве Макинтайра была намечена уже его ранней, опубликованной в 1977 году статьей «Эпистемологический кризис, драматический нарратив и философия науки», в которой он полемизировал с философскими построениями Томаса Куна и критиковал Имре Лакатоса, пытавшегося «усовершенствовать» куновскую теорию2. Но об этом речь впереди.
Меня же побудили обратиться к эпистемологическим воззрениям Макинтайра его работы по философской этике, а точнее, книга «После добродетели», в которой он, в частности, утверждал, что никакая нравственная позиция не может быть осмыслена в отрыве от всей совокупности этических традиций. Вместе с тем, не умея рационально обосновать первенство одной традиции над другими, мы неизбежно провоцируем нравственный релятивизм3. Понятие традиции он разрабатывает в двух последующих книгах, где, кроме прочего, на примерах показывает возможность их оценочного сопоставления4.
Итак, традиция зиждется на определенном авторитете; как правило, это текст или корпус текстов (достаточно вспомнить, какая роль отводится классическим текстам в парадигме Куна). Она развивается за счет удачных попыток эти тексты истолковать и применить к определенной ситуации. Последний шаг необходим: традиция запечатлевается в жизни принадлежащих к ней людей и сообществ, в социальных установлениях и практиках (опять же вспомним рассуждения Куна о «стандартных жизненных практиках», «нормальной науке» и роли научного сообщества). Кроме того, универсальные традиции, как уже говорилось, непосредственно влияют на складывающиеся в их рамках критерии познания. В качестве примера Макинтайр приводит различие между августинианской и томистской традициями: так, учение Августина о первородном грехе восходит к платоновской эпистемологии, тогда как томизм, по большей части, «вышел» из Аристотеля. Наконец, традиция создает основу для мировоззрения и неизбежно включает в себя образ высшей реальности, который, в свою очередь, обусловливает представления о смысле жизни и задает нравственные установки.
Макинтайр, в отличие от мыслителей эпохи Просвещения, которую он называет «традицией отрекшегося от традиций разума» (tradition of the traditionless reason), убежден, что вся рациональность, по существу своему, «традиционна». Вне всей совокупности традиций личность нравственно, а также интеллектуально несостоятельна. Но возникает вопрос: не ведет ли такая убежденность к радикальному релятивизму? Где основания для иерархии традиций? И здесь самое время вернуться к Макинтайру и современной ему философии науки.
Книгу Томаса Куна «Структура научных переворотов»5 немало критиковали за иррационализм. Имре Лакатос попытался предложить, на его взгляд, «более рациональную» методологию науки. По его мнению, выбор между научными подходами следует делать в пользу того, который в настоящее время представляется более «современным» и «прогрессивным»6. Однако, как показал П. Фейерабенд, этот критерий нельзя считать удовлетворительным, поскольку нередко объявленные «устаревшими» или «отсталыми» методологии неожиданно доказывают свою научную состоятельность и жизнеспособность, так что рационально определить «срок годности» тех или иных подходов вряд ли возможно7. Убедительных контраргументов Лакатос не нашел.
Макинтайр был первым, кто заговорил о возможной асимметрии между соперничающими подходами. Иными словами, методологии «проясняют» друг друга: с позиций одной можно увидеть, почему и в чем именно несостоятельна другая. Пример тому – спор между системами Коперника и Птолемея. Кризис науки, на который ответила теория Галилея, был во многом вызван несовместимостью Птолемеевой астрономии как с астрономическими представлениями Платона, так и с Аристотелевой физикой. В свою очередь с космологией Аристотеля никак не сочетался опытно доказанный факт движения Земли. Чтобы разрешить это противоречие, Галилей полностью переосмысливает астрономию и механику, а попутно заново обосновывает роль эксперимента в естественнонаучном исследовании. Как видим, история позднесредневековой науки вполне может быть представлена в виде последовательно развертывающегося сюжета. «Наиболее работоспособной, – пишет Макинтайр, – можно считать ту теорию, которая помогает по-новому осмыслить все, что предшествовало ей. Она дает возможность понять, что у предшественников следует отвергнуть или пересмотреть, и одновременно показывает, чему у них стоит верить, независимо от наших нынешних воззрений. Таким образом, она позволяет воссоздать связный «сюжет» развития научной традиции»8.
«Заслуга мыслителя масштабов Галилея в том, что он предлагает по-новому взглянуть не только на саму природу, но и на прежние способы понимания ее». В этом смысле каждое новое знание можно считать более полным и совершенным еще и потому, что оно позволяет увидеть несовершенство прежних представлений. «Только с позиций нового знания возможно восстановить непрерывность и преемственность истории науки»9.
Итак, Макинтайр утверждает, что научное мышление должно быть подчинено историческому, и критикует Куна именно за то, что тот не учитывает сквозные, «сюжетные» связи между сменяющими друг друга парадигмами. Поразительно, насколько мысль Макинтайра здесь созвучна одной из главных тем нашей конференции: он последовательно доказывает, что внеисторического, «вневременного» знания не бывает никогда и нигде – даже в естественных науках.
В своем трехтомном труде философ стремится воссоздать аристотелевскотомистскую этику, основанную на понятии добродетели, и доказать ее интеллектуальное преимущество, с одной стороны, над этической традицией Просвещения, а с другой над ницшеанством и производными от него; эту мировоззренческую установку Макинтайр называет «генеалогической традицией». Одновременно он размышляет о путях рационального соотнесения интеллектуальных традиций подобного масштаба. По его мнению, эта возможность во многом зависит от того, найдется ли у носителей определенной традиции достаточно вдумчивости, такта и воображения, чтобы осмыслить противоположную систему взглядов в ее категориях. Все зрелые традиции рано или поздно переживают эпистемологический кризис: обнаруживается их непоследовательность, неспособность объяснить новый опыт или попросту расширить рамки исследования. Поэтому один из способов согласовать соперничающие традиции состоит в том, чтобы попытаться воспроизвести сквозной «сюжет развития» каждой из них, описать, с какими трудностями ей приходилось в разное время сталкиваться и как она с кризисами справлялась или, наоборот, не справлялась. Удавалось ли так переосмыслить и переформулировать традицию, чтобы выйти из кризиса – и сохранить при этом идентичность? Достаточно сопоставить эти сюжеты – и становится очевидно, какая из традиций жизнеспособна, а какая, напротив, несостоятельна, что, в свою очередь, дает основания говорить о несомненном интеллектуальном преимуществе одной традиции над другой (здесь явная перекличка с идеями Лакатоса). Таким образом, принцип асимметрии состоит в том, что более совершенная традиция позволяет увидеть и объяснить недостатки соперничающей системы взглядов гораздо точнее, чем они могут быть поняты изнутри ее самой.
Далее, прежде чем говорить о значении идей Макинтайра для диалога богословия и науки, мне бы хотелось хотя бы кратко описать противостоящую теизму, весьма влиятельную в наши дни традицию, которая сформировалась в недрах естественнонаучного знания, но выдает себя за нечто гораздо большее.
Современная натуралистическая традиция
Можно ли, следуя логике Макинтайра, рассматривать натурализм как одну из многоуровневых традиций, подобных христианству?
В превосходной работе «Без Бога, без веры: истоки американского атеизма» Джеймс Тернер приводит, на мой взгляд, совершенно поразительный факт. По его мнению, первые признаки безверия «забрезжили» в американской культуре только в период между 1865 и 1890 годом10. Это тем более удивительно, что, по всеобщему убеждению, попытки доказать сомневающимся бытие Бога восходят даже не к средним векам, но к греческой античности. Не стану анализировать сейчас античные представления; что же касается средневековья, общеизвестно, что средневековые философы и богословы вовсе не стремились переубедить атеистов, поскольку таковых в культуре не существовало, но ставили перед собой более скромную задачу – показать, что веру, впрочем, воспринятую не «от доказательств» и не «головой», а совсем другими способами и по другим причинам, вполне возможно обосновать разумом. Средневековое сознание, равно как и культура, было настолько целостным и теоцентричным, что немыслимо было даже предположить, будто Бога не существует.
Начатки современного безверия, несомненно, следует искать в религиозных конфликтах эпохи Реформации. Если агностицизмом считать не отказ формулировать собственное суждение о бытии Божьем, а, скорее, убежденность в том, что человеческий ум, в принципе, об этом судить не может, первые признаки такого отношения прослеживаются на заре Нового времени у католических апологетов вроде Мишеля Монтеня. Они вернули в интеллектуальный обиход методы скептического рассуждения, дабы с их помощью доказать, что «умом» понять, кто прав – католики или протестанты, все равно невозможно, а значит, единственно разумный выбор состоит в том, чтобы оставаться в лоне установленной, т. е. Католической церкви. Доступность скептической логики и проложила путь атеизму: в самом деле, если нельзя рассудить, чье учение вернее, почему бы предположить, что и те, и другие в равной мере неправы. Однако, чтобы окончательно обосновать утверждение «Бога нет», понадобилось множество других обстоятельств.
Мерольд Уэстфол весьма справедливо указывает на существование двух типов безбожия11. Первый, в его терминологии – «доказательный атеизм», наиболее ярко представленный ответом Бертрана Рассела на вопрос о том, что бы тот сказал, если бы встреченный им на улице Бог впрямую спросил, почему философ в Него не верит. «Не вижу достаточных подтверждений!» – как известно, парировал Рассел. Если вспомнить, насколько трудно порой соотнести богословское мышление с утвердившимися в современной науке нормами рациональности, ответ вполне объяснимый.
Однако, если религиозные воззрения по сути своей ложны, как объяснить, почему у них столько приверженцев; иначе говоря, если ведьм нет, почему на них до сих пор охотятся? Первые натуралистические «версии» происхождения религии восходят к XVIII веку; их авторы – англичанин Дэвид Юм и француз Поль Гольбах. И тот, и другой объясняли религиозную потребность страхом перед непостижимым мирозданием, а также самонадеянными попытками подчинить себе незримые силы (заметим, что подобные попытки «обуздать запредельное» предпринимаются и сегодня).
Но тогда почему религия не отмерла и по сей день, когда кажется, будто о природе мы все уже знаем? И тут самое время вспомнить о втором типе атеистов – Уэстфол называет их «учителями подозрительности». Наиболее полно «герменевтика подозрения», пишет он, была разработана Марксом, Ницше и Фрейдом, изо всех сил «пытавшимися показать, что мы лукаво скрываем от себя подлинные, т. е. гадкие, мотивы наших индивидуальных или коллективных поступков. При этом они упорно отказывались замечать…, насколько наши убеждения определяются теми сами ценностями, от которых нас, вроде бы, так и тянет отречься»12. Под подозрением оказывались, соответственно, политэкономия, буржуазная мораль и психо-сексуальное развитие, но попутно каждый счел своим долгом сурово «разоблачить» христианство.
Теперь можно было, не смущаясь, называть религию заблуждением, впрочем, вполне безвредным, а иногда даже выгодным, поскольку оно «обеспечивало общественную мораль». Для того, чтобы утвердить атеизм в правах, понадобились два следующих шага. Во-первых, нужно было доказать, что религия не привносит в нравственные представления ничего такого, о чем мы не могли бы додуматься своим умом. Собственно, эту цель, в основном, и преследовала философская этика Нового времени. А во-вторых – и здесь на помощь пришли исторические свидетельства – ничего не стоило показать, что именно религия была причиной всех величайших бед в истории человечества или, по крайней мере, принесла куда больше зла, чем блага.
Итак, в течение двух с половиной столетий, примерно с 1650 по 1890 год, атеизм все решительней завладевал умами. Но речь шла не просто о том, чтобы «вычеркнуть» Бога из системы представлений о мире, а о постепенном формировании соперничающей традиции, способной противопоставить себя теизму во всем его многообразии.
Напомню, что под традицией я понимаю исторически развивающееся мировоззрение, истоки которого коренятся в авторитетных текстах. Любая традиция содержит в себе представление о высшей реальности и наивысших ценностях, характерную для нее эпистемологию и воплощается в социальных практиках, а также в общественных институтах.
Что касается натуралистической традиции, опорой для нее, несомненно, послужили тексты Юма, а также сочинение Гольбаха «Система природы»; как верно заметил Дж. Э. К. Гэскин (Gaskin), именно в нем мироздание, призвание человека, устройство общества и происхождение веры было впервые последовательно и системно описано с атеистических позиций.
Но в каком смысле можно говорить о социальной проекции натурализма? Следует признать, что очевидней всего натуралистическое мировоззрение проявилось в практике естественных наук. После того, как в XVII веке «богословская физика» ушла в небытие, естественные науки постепенно стали обосабливаться от богословия природы. Как пишет Амос Фанкенштейн, наиболее последовательно и систематично «высвобождал естественные науки из пут богословия» Иммануил Кант13.
Может показаться, что история, по сути своей, влиянию натурализма подвержена быть не может. Тем не менее, одна из главных философских и историософских задач Юма состояла в том, чтобы вместо традиционного христианского сюжета «сотворение – грехопадение – искупление» предложить новую последовательность событий, к тому же истолкованных в секулярно-гуманистическом ключе. Его шеститомная «История Англии», написанная с сугубо светских позиций, была призвана показать, что исторический процесс вполне можно объяснить, не прибегая к свойственным его эпохе «пророчески-провиденческим» толкованиям. Показательно, что в наши дни даже христианские историки предпочитают исходить в своих построениях из натуралистических предпосылок.
Основоположниками другой, не менее влиятельной традиции внутри натурализма выступили «учителя подозрительности», т. е. Маркс, Ницще и Фрейд.
Высшей реальностью для последователя натурализма выступает сама материальная вселенная. При этом (любопытное обстоятельство!) некоторые «натуралисты» предпочитают излагать свои концепции религиозным языком, в котором явно преобладает христианская образность. Пример тому – Карл Саган, предложивший миру причудливую смесь из естественнонаучных идей и того, что можно бы назвать «натуралистической религией». В начале он вроде бы рассуждает в рамках биологии и космологии, но постепенно естественнонаучные категории наполняются откровенно религиозным смыслом и выстраиваются в систему, поразительно напоминающую христианские концептуальные построения. Так, у него есть своя абсолютная реальность: «Вселенная – это все то, что предвечно было и всегда будет»; свое представление о начале бытия – «Эволюция с большой буквы», а также о происхождении зла: виной всему доставшиеся в наследство от рептилий особые структуры в мозгу, которые «отвечают» за привязанность к своему пространству, сексуальные влечения и агрессивность. Спасение он мыслит в гностическом ключе, т. е. связывает его с высшим знанием, а точнее, с новой естественно-научной информацией, возможно, полученной от более «продвинутых» внеземных существ14. Этическая концепция Сагана зиждется на страхе перед угрозой самоуничтожения. Следовательно, цель жизни состоит в том, чтобы выжить, а нравственность заключается в готовности признать равнодостоинство всех без исключения людей и природное, внутреннее сродство с миром («все мы – из одной звездной пыли»), что, в свою очередь, поможет обуздать скрытые «рептилианские» наклонности.
Не менее отчетливое натуралистическое представление о смысле бытия находим также у Ричарда Доукинса. Он убежден, что мирозданию нет дела до человеческих забот, а для полноценной, счастливой жизни, прежде всего, нужны «более глубокие, сильные устремления, более яркие чувства» и, особенно, «то благоговейное удивление, какое может вызвать только наука…». Это «одно из величайших переживаний, на которые способна человеческая душа, – пишет Доукинс, – по силе сопоставимое с восторгом, который рождает в нас поэзия или музыка. Воистину, ради него и стоит жить, тем более, когда знаешь, что жизнь конечна»15. Более развернутые размышления, равно как и многочисленные примеры, подтверждающие, что в наши дни натурализм – это не только выросшая из естествознания философская система, но определенное мировоззрение и образ жизни, можно найти в работе Мэри Мидгли «Наука как спасение»16.
Теперь, если мне удалось показать, что мы вправе рассматривать натурализм как вполне оформившуюся традицию, вернемся к разговору об эпистемологическом статусе христианской мысли.