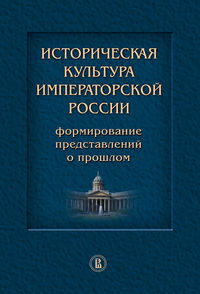Kitobni o'qish: «Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом»
Предисловие
Коллективная монография, посвященная основным формам и институтам «переработки прошлого» в императорской России, стала результатом общих усилий исторической «команды» Института гуманитарных историко-теоретических исследований. Нам особенно важно отметить, что к ее замыслу и первым обсуждениям состава и содержания был непосредственно причастен Андрей Владимирович Полетаев (1952–2010) – один из основателей ИГИТИ, ныне носящего его имя. Решающую роль в подготовке сборника на начальных стадиях его формирования сыграл декан факультета истории НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник ИГИТИ профессор Александр Борисович Каменский.
Эта книга посвящается юбилею директора ИГИТИ, ординарного профессора НИУ ВШЭ Ирины Максимовны Савельевой. Для членов авторского коллектива ее работы были и остаются ориентиром в области теоретического осмысления как наших собственных исследований, так и базовых характеристик того поля, в котором мы работаем как ученые. Изучение исторического сознания, исторической культуры, взаимосвязей и сложной эволюции представлений о прошлом в самых разных обществах и на всех континентах теперь неотделимо от ее вклада, системного мышления и характерного исследовательского почерка. Нам особенно отрадно отметить, что в ее работах (как и, мы надеемся, на страницах этой коллективной монографии) преодолевается привычное разделение исторической профессии на специализации по русской или зарубежной истории, со своими часто неотрефлексированными ограничениями и односторонностями. Национальную науку или историческое сознание – будь то в Германии позапрошлого века, в Америке или в нынешней России – профессор Савельева неизменно рассматривает и оценивает в широком международном контексте. То, что изучение своего прошлого оказывается особенно пристальным и многосторонним именно в свете уроков европейского и мирового опыта, всегда было для нее аксиомой.
Бесспорный научный авторитет Ирины Максимовны счастливо дополняется ее организаторскими заслугами, но главное – непрестанными усилиями по поддержанию качества и стиля работы нашего исторического и гуманитарного цеха. Во всем этом сказывается ее эрудиция и вкус к теории, редкое сочетание благожелательного внимания к чужому мнению и бескомпромиссного следования собственному видению и приоритетам в науке. Все эти характеристики – вовсе не дань юбилейной риторике или дежурные похвалы начальству (ибо работать с Ириной Максимовной интересно и ответственно, а не просто приятно). Скорее празднование юбилея – важный повод сказать то, что остается фоном разнообразных научных дел и хлопот, конференционных дискуссий, деловых или житейских бесед, но вслух произносится весьма редко. Мы, как и раньше, с нетерпением ждем новых статей и книг Ирины Максимовны, продолжения споров и общения и уверены в многолетней дальнейшей работе по сов местному постижению прошлого, которое никогда не бывает утраченным без остатка.
Введение
А.Н. Дмитриев
Прошлое нашего прошлого: проблематика исторической культуры в Российской империи
Историческая культура – понятие относительно новое, устойчиво вошедшее в лексикон гуманитариев только в последние десятилетия. Между тем сам феномен сложного и иерархического единства представлений о прошлом, аккумулируемых и транслируемых в коллективном опыте человечества, едва ли не так же древен, как письменные практики первых цивилизаций. 1980–2000-е годы стали временем подлинного бума «исторической памяти» – количество публикаций, связанных с этой темой и сопутствующими категориями прибавляется в каждой стране практически ежемесячно, если не ежедневно. Внимание и интерес к сюжетам прошлого, актуально присутствующим в жизни того или иного современного сообщества, обычно сосредоточены на «горячих» и спорных сегодняшних проблемах (в разных регионах мира связанных более всего с наследием Второй мировой войны или расовой сегрегацией и колониальным прошлым, а кроме того и с памятью о минувшей эпохе «реального социализма»). В отличие от публицистов и журналистов ученые с самого начала вели речь и о более широком хронологическом понимании проблематики исторической памяти – о составе и операциональных блоках, тех или иных когнитивных и идеологических модусах понимания истории уже не только «здесь и сейчас», но и в самых разных обществах и цивилизациях, включая давно исчезнувшие1. И понятие «историческая культура», учитывающее немецкий послевоенный опыт «переработки прошлого», как раз и способствовало переосмыслению новейших стереотипов или уже опробованных историографических канонов. Перед историками разных школ и поколений встает задача показать эволюцию «высокой» исторической традиции и академической науки на фоне изменчивого неспециализированного знания о прошлом, осмыслить взаимосвязи многообразных исторически контекстуальных форм и практик присвоения и освоения минувшего2.
Очень большую роль в обновлении критических представлений о формах и способах присутствия истории в европейском (по преимуществу) культурном и политическом сознании сыграли работы, представленные в известном сборнике под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Ренджера «Изобретение традиций» (1983)3. «Удревнению» проблематики памяти и расширению употребления понятия «коммуникации» в сфере исторических исследований способствовал цикл трудов Яна и Аллейды Ассман4. Все эти перемены повлияли на представления о характере и структурах исторического сознания. Бывшее ранее (особенно в отечественном обиходе) категорией преимущественно социально-философской, теперь оно стало употребляться в более тесной связи с проблематикой историописания (в том числе взятого и в более обширной перспективе – от локального до национально-государственного и общерегионального, вплоть до глобальных масштабов)5. Понятие «историческая культура» в отличие от всеохватного исторического сознания акцентирует как раз институциональный и рефлексивный, сознательно направляемый («культивируемый») аспект представлений о прошлом. Недаром, особенно в современной немецкой традиции, проблематика исторической культуры обсуждается в прямой связи с вопросами не только идеологии, но и культурной политики, политики образования, и даже школьной дидактики6.
Понятие исторической культуры охватывает многообразные отношения между профессиональной историографией и более обширной сферой общественных представлений об истории (историческим сознанием) в разные эпохи и периоды7. Притом характер этих взаимодействий понимается не как однонаправленный процесс продвижения от сознания «вообще» к науке – исключительно в плоскости академизации и критического пересмотра повседневных, массовых или обыденных представлений о прошлом. Пространство исторической культуры начиная с XIX века также непременно включало в себя и сферу обратных связей – область популяризации, распространения и переприсвоения, своеобразного «низового» переписывания истории, транслируемой «сверху» (точнее из политического, идеологического или символического центра, столицы, университета и т. д.). Кроме того, в зазоре между профессиональной историографией и историческим сознанием общества располагается и деятельность многочисленных исторических, археологических, краеведческих и этнографических обществ, а также полулюбительских общественных объединений и организаций, связанных с изучением прошлого. И, разумеется, сама сфера исторического знания в том или ином обществе будет заведомо шире, чем область академической исторической науки в этой же стране или регионе.
В отечественной науке представления об исторической культуре, ее составе и специфике начали складываться также относительно недавно (особенно важную роль тут играют коллективные начинания, связанные с оформлением интеллектуальной истории как особой субдисциплины и деятельность Российского общества интеллектуальной истории во главе с Л.П. Репиной)8. Интересно обратить внимание на то, что пока большинство российских работ по проблематике исторической культуры (и круг авторов, эксплицитно это понятие использующих) связаны преимущественно с зарубежной тематикой и прошлым скорее «иных» стран, нежели России9.
Разумеется, наше исследование, выполненное коллективом авторов в форме очерков, не является первооткрывательским – оно связано с богатым опытом изучения истории исторической науки в нашей стране, где уже давно сложились устойчивые историографические жанры и традиции (особенно отметим такие противоположные по заданию и замыслу капитальные сочинения, как «Главные течения русской исторической мысли» (1897) Павла Милюкова и уже советскую «Русскую историографию» (1941) Николая Рубинштейна10). Вместе с тем замысел книги – принципиально иной, чем очередная ревизия или даже расширение привычной историографической работы. Для нас особенно важно представить академическую или университетскую науку о прошлом в контексте различных других форм общественного сознания, связанного с историей (от гимназического образования до живописи или романистики). Кроме того, «отчуждающий», неканонический взгляд на профессиональное изучение прошлого – с точки зрения его организационных условий, техник выработки или форм культурного бытования исторического знания – был значим для нас именно желанием выйти за пределы стандартной внутрицеховой оптики. Ведь в историографических текстах вне зависимости от симпатий или пристрастий их авторов приоритет до сих пор безусловно принадлежит нарративу кумулятивного и внутренне беспроблемного накопления знания. При этом общепризнанный и очевидный факт борьбы и соперничества разных школ и направлений все равно включается в конечном счете в картину пополнения, пересмотра и уточнения общего и устоявшегося корпуса сведений о прошлом11.
Задача предлагаемого сборника существенно отлична от очередной реализации этого имплицитного императива. Авторы книги стремились проследить разные, порой несхожие пути формирования исторической культуры, а также способы и формы приращения, упорядочения и регламентации исторического знания в императорской России. Акцент сознательно будет сделан на проблематику XIX столетия, когда и научные, и «корпоративные» (дворянские и официально-государственные), а также массовые представления о прошлом достигли уже достаточно зрелого и отрефлексированного состояния и уровня. Однако опирались эти представления на давний фундамент исторических образов и знаний о минувшем в средневековой Руси, весьма существенно ревизованных во времена Петра Первого и в последующие десятилетия12. В то же время базовые исторические схемы Московского царства (преемственности династической власти Рюриковичей, трансляции киевского наследия через Владимиро-Суздальские земли) воспроизводились и в исторических сочинениях XVIII века13, а затем легли в основу научной историографии последовавших столетий, вплоть до общих курсов Ключевского, Покровского и школьных учебников.
Первый раздел нашей книги посвящен проблематике исторического знания в императорской России.
Понимание прошлого в древней и допетровской Руси в последнее время стало предметом пристального внимания историков (В.М. Живова, И.Н. Данилевского, А.Л. Юрганова, К.Ю. Ерусалимского), отмечавших своеобразие и поэтику летописного текста и характер переосмысления восточнославянскими авторами библейского сказания применительно к событиям и обстоятельствам своего прошлого14. Восприятие минувшего своей страны и иных государств и народов в XVIII веке развивалось уже на принципиально иных основах. Недавняя полемика вокруг специфики историографического наследия В.Н. Татищева (в связи с книгой А.П. Толочко15) подчеркивает сложный характер конструирования истории в российском XVIII веке, часто далекого от современных исследовательских критериев и установок. В очерке А.Б. Каменского о Г.Ф. Миллере детально раскрыта проблематичность утверждения принципов критической историографии в российском академическом сообществе того времени16. В статье Л.П. Репиной показано не только становление Т.Н. Грановского в качестве крупнейшей фигуры российской медиевистики и всеобщей истории17, но и формирование его образа как модели поведения университетского человека и историка per se для более широкой культурной среды и для последующего времени (эта его репутация поддерживалась в историческом и гуманитарном сообществе и после 1917 года).
Развитие профессиональной историографии в России было невозможно без распространения исторических знаний в образованной среде общества – в домашнем воспитании18 и особенно в учебном деле19. Преподавание истории в средней школе и гимназии рассматривается в статье Н.Г. Фёдоровой в важном «остраняющем» повороте – предметом особого внимания автора становится не весь образовательный процесс в целом или только транслируемые в нем ценности и образцы, но именно учебные тексты20. Притом учебники по всеобщей истории задавали рамку для интерпретации также и российского прошлого, когда «свое» широко и разнопланово постигалось на фоне «чужого». Позже ведущими текстами по отечественной истории станут книги знаменитого Д.И. Иловайского (1832–1920)21. Патриотические и порой верноподданнические установки Иловайского окажутся затем предметом иронического изображения и пародирования в русской литературе (например, у авторов «Сатирикона» уже в начале ХХ века). Во второй половине XIX века тексты исторических пособий все чаще пишут сами профессиональные историки первого ранга – вроде С.М. Соловьёва или С.Ф. Платонова, учебные тексты по всеобщей истории для гимназий и школ создают также П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер и Н.И. Кареев22.
Середина XIX века становится временем созревания академических стандартов российской исторической науки, но это имело не только сугубо научные, но и социально-идеологические коннотации именно в плане поиска субъекта исторического развития (народа) и адресата исторического письма (общественности) в процессе конструирования прошлого. Важность работы А.П. Толочко в том, что он показывает всю сложность и многосоставность перехода от имперского к национальному историческому дискурсу. Эта общая проблематика рассмотрена на примере полемики об «этнической» принадлежности Киевской Руси между Михаилом Погодиным и Михаилом Максимовичем на страницах славянофильских журналов и научной периодики сразу после смерти Николая I. Уже через несколько десятилетий и особенно интенсивно к концу XIX века многие ранние опыты написания местной истории окажутся переиначены и задним числом «национализированы» пропагандистами украинского национального возрождения23. Весьма проблематичным с 1880-х годов становится описание прошлого юго-западных территорий, которое в ряде работ авторитетных историков (особенно у Михаила Грушевского) начинает переосмысляться сквозь призму идеи непрерывности украинской истории, в противовес «привычной схеме» движения русского исторического процесса24 из Древнего Киева через Владимиро-Суздальскую землю прямо в Московское царство. Ревизия привычной картины отчасти была свойственна и занятиям историей так называемого Западного края (особенно Белоруссии25). Точно так же обращение к еврейской историографии26, к мусульманским памятникам (в Казани, Крыму или на Северном Кавказе)27 или к прошлому народов Закавказья28 существенно расширяет к исходу XIX века прежний мейнстрим (от Карамзина к Ключевскому) господствующего историографического канона. Этот имперский контекст29, разнородность, а порой и несводимость локальных историй разного уровня в одну законченную и согласованную картину общего прошлого разных слоев населения и этнических групп привлекают первостепенное внимание новейшей историографии30. Однако в первые десятилетия XIX столетия местные версии исторической памяти были весьма далеки от будущих национальных нарративов (см. также статьи В. Боярченкова и Н. Родигиной во втором разделе монографии).
Особенно активным процесс развития исторической науки «вширь» стал в пореформенные годы – см. републикуемую в книге статью воронежского исследователя В.И. Чеснокова (1939–2000)31. Регламентация учебного дела была только одной из частей формировавшегося механизма государственного регулирования исторического знания. Через выработку базовых положений университетского устава, установление численности и соотношения кафедр по факультетам и в академиях государство (а точнее – ведомство народного просвещения) определяло общие параметры, формальный состав исторической науки, характер воспроизводства преподавательского корпуса.
Важными моментами такой трансформации и «созревания» исторической науки стало расширение историографических изысканий, выделение историографии в отдельную отрасль науки (как свидетельство ее растущей автономизации) – особенно в трудах петербургского историка К.Н. Бестужева-Рюмина и его московских коллег32. Этой же тенденции к самостоятельности отвечало и сосредоточение работы университетских преподавателей на поиске и освоении нового знания совместно со студентами – в специализированных семинариях (с их формальными и неформальными режимами коммуникации и воспроизводства33). Эти механизмы и практики профессионализации стали предметом специального рассмотрения в статье А.В. Антощенко и А.В. Свешникова34. Вместе с тем сохранялась и общественная востребованность исторического знания даже в его специализированной форме – когда такие, казалось бы, внутренние перемены в корпорации, как защиты диссертаций или назначения новых профессоров, становились знаковыми событиями в жизни всего местного образованного общества (предмет специального исследования в очерке Т. Сандерса35).
Общий ход автономизации и специализации исторического знания затронул также и область вспомогательных исторических дисциплин. Уже с 1770-х годов начинается систематическая деятельность по изданию источников по российской истории (стараниями Н.И. Новикова36). Другим важным шагом по пути профессионализации исторической науки станет деятельность Археографической экспедиции (во главе с П.С. Строевым) в 1826–1834 годах, а позднее – и Археографической комиссии, работавшей на постоянной основе при министерстве народного просвещения с 1837 года37. Одной из главных площадок поиска историка во второй половине XIX века постепенно становятся ведомственные архивы (в первую очередь, архив коллегии министерства иностранных дел и московский архив министерства юстиции38). С 1804 года действует уже упомянутое Общество истории и древностей российских39 при Московском университете (с 1837 года – Императорское)40. Важнейшим центром изучения отечественной истории остаются университеты и Академия наук (а также Российская Академия, вошедшая в ее состав в 1841 году) – помимо собственно российской истории темами занятий академиков и адъюнктов были также всеобщая история, археология, востоковедение, византинистика и исследования античности (в том числе на материалах Северного Причерноморья)41. Продолжается и расширяется выпуск специализированных серийных изданий по отечественной истории (включая публикацию источников, в частности «Полного собрания русских летописей», а впоследствии – и книжных серий П.И. Бартенева и А.С. Суворина)42.
Специальным изводом профессионального знания о прошлом в дореволюционной России оставались две отрасли, важнейшие для государственного и идейного строя Российской империи, – сферы военной и церковной историографии (последней посвящена в нашей монографии статья Н.К. Гаврюшина)43. Обе они к тому же были и доменами особой, корпоративной памяти, которая находилась в ведении специальных учреждений (военного министерства, Генерального штаба или Священного синода и сети духовных академий). Однако к концу XIX века общий процесс распространения и демократизации знания о прошлом охватил и эти области, результатом чего стало возникновение Военно-исторического общества, открытие музея Суворова и увековечение важнейших сражений (от битвы на Куликовом поле до памяти о Русско-японской войне)44, а также развертывание работ по церковной археологии, сохранению и реставрации памятников45. Все это касается другой важнейшей темы воссоздания прошлого – проблематики исторического сознания (и второго раздела нашей книги).
Отметим, что развитые представления о прошлом в допетровской Руси оставались достоянием узкого круга образованных людей и не имели еще секулярного характера, связанного с идеями общественного целого (а государственные, территориальные или этноязыковые начала или особенности тогда так или иначе трактовались через конфессиональную исключительность православного вероисповедания).
Необходимо иметь в виду, что в допетровский период какие-либо исторические сведения общенационального характера вообще были достоянием крайне ограниченной группы грамотных людей, но и их знания не отличались сколько-ни будь систематическим характером, поскольку даже русские летописи были им недоступны. Для элитарных слоев Московской Руси история сводилась по большей части к истории рода, имевшей утилитарное значение в плане определения места лица на социальной лестнице. Можно утверждать, что в русском обществе допетровского времени в принципе отсутствовало какое-либо целостное представление об истории собственной страны. Создание общенациональной истории было, таким образом, по существу вообще обретением Истории и воспринималось как часть процесса превращения России в «политичное» государство46.
Глубина и травматичность произошедших в первой четверти XVIII века перемен и предопределили восприятие в последующем всего прошлого России (как «старой», так и «новой») прежде всего через оценку фигуры и наследия Петра Первого47. Характерна в этом смысле популярность полулюбительского многотомного жизнеописания Петра, выполненного выходцем из купеческого сословия И.И. Голиковым (1735–1801), в первые десятилетия XIX столетия. В центре «Записки о древней и новой России» Карамзина, созданной для двора великой княгини Елены Павловны и оставшейся на десятилетия документом непубличным – а ради ее сочинения историк прервал работу над главным своим произведением, – оказывается наследие Петра. Для появления «Истории государства Российского» Карамзина были необходимы десятилетия собирательской и публикаторской деятельности И.Н. Новикова, работа единомышленников А.И. Мусина-Пушкина и позднее Н.П. Румянцева и его кружка48. Но для восприятия этого сочинения более широким кругом читателей (предмет исследования в статье В.С. Парсамова) были также необходимы своеобразная историзация сознания образованных слоев и рефлексия по поводу недавнего прошлого, закрепленная в дворянской памяти деятелей «золотого века» о событиях минувшего XVIII столетия – через призму войн с Наполеоном и заката царствования Александра I. В этой связи особенно показателен очерк Т.А. Сабуровой, которая, в частности, рассматривает уроки и модусы восприятия революционных событий во Франции и французских исторических сочинений российской образованной элитой49. Перемены в историческом сознании коснулись не только дворянского общества двух столиц, но и публики провинциальной50. И именно региональному измерению исторического сознания посвящен помещенный в монографии очерк В.В. Боярченкова.
Созданные в 1820–1830-е годы специальные исторические общества и комиссии связывали деятельность исследователей и ревнителей просвещения в разных частях империи (особенно важными здесь были вначале – в первой половине века – губернские статистические комитеты, а с 1884 года – и губернские археологические комиссии)51. В.В. Боярченков (как и Н.Н. Родигина далее) подчеркивает разрозненность, весьма проблематичное единство усилий местных любителей старины и столичных историков, которые брали на себя функции обобщения и определения общей канвы для истолкования локального материала. Вообще регионализация отечественного исторического сознания – тема еще недостаточно изученная не только в связи с «федералистскими» устремлениями ряда историков начала эпохи Великих реформ52, но и в двойной перспективе неравномерного географического распределения университетского образования в России и будущего роста изучения и постижения местного края уже в первые десятилетия ХХ столетия (предмет исследования М.В. Лоскутовой53).
Рассматривая взаимодействие профессиональной науки и общественного сознания 1860-х годов, важно учитывать «левославянофильские» труды историка М.О. Кояловича, связанного с западно-русскими (белорусскими) землями и противостоянием там «польскому элементу»54. Коялович одним из первых сознательно и последовательно рассматривал развитие русской исторической науки как составную часть эволюции русского самосознания. Эту же идею, но с обратным идеологическим знаком (в русле либеральной трактовки эволюции «русского общества») проводил в «Главных течениях русской исторической мысли» в конце ХIХ века и Павел Милюков.
Наряду с публикацией обширного источникового материала важнейшую роль в развитии исторического сознания играли «толстые журналы» – литературно-публицистические ежемесячники и историческая периодика (предмет внимания Н.Н. Родигиной, особенно важный в плане отражения и представления региональной проблематики). С 1860-х годов появляется и специализированная историческая пресса (журналы «Русский архив» П. Бартенева и «Русская старина» М. Семевского)55. Уже в 1880-е годы круг исторических журналов и изданий пополняется не только за счет специализированной периодики (включая органы различных обществ и вплоть до общеведомственного «Журнала министерства народного просвещения»)56, но и путем расширения идеологического репертуара журналов, посвященных прошлому, как в правой части политического спектра, так и в особенности – в левой57.
Самым непосредственным способом государственной «обработки» исторического сознания стала деятельность цензурного ведомства58, которая распространялась и на публикации по русской истории (наиболее громкими в этом смысле станут скандал с Осипом Бодянским и запрещение издания Флетчера в «Чтениях Общества истории и древностей российских»59). Помимо общих регулирующих усилий этого ведомства, очерченных в статье И.М. Чирсковой, контроль распространялся и на академическую деятельность, в частности на специальные изыскания петербургской Археографической комиссии60. Запрещая и изымая «нелегитимную» информацию о прошлом, цензура своеобразным путем тоже участвовала в процессе формирования исторических представлений и социальной памяти российского общества.
Даже после революции 1905 года и либерализации законодательства о печати власти пытались регулировать историческую память либо прямым вмешательством и попыткой судебного преследования радикальных критиков (как в случае издания «Русской истории» М.Н. Покровским)61, либо через формирование благоприятной для правительства идейной среды и деятельность особых информационных служб (во главе одного из таких подразделений стоял историк армии К.А. Военский (1860–1928)62).
Развитие и усложнение российского исторического сознания второй половины XIX столетия было невозможно без задействования специализированных структур сохранения и воспроизводства памяти о прошлом – мы имеем в виду архивную отрасль, сферу археологических изысканий и консервации, а также выставочно-музейную деятельность. Эти последние области стали предметом содержательного очерка А.В. Топычканова, который проследил эволюцию разных моделей охраны памятников, указав на возрастание роли и значимости на протяжении XIX века материального «остатка» прошлого, включая его эстетическое содержание. В перспективе истории понятий особенно интересно обратить внимание на непривычно широкое для ХХ века употребление в предыдущем столетии слова «археология». Богатый материал для сопоставительного анализа в плане истории специализированных отраслей исторической науки дают программы Археологического института (открытого в Санкт-Петербурге в 1878 году) и обширные материалы дискуссий на археологических съездах, где немалую роль играли споры об охране памятников в самом широком смысле, включая архивные, а не только материальные данные63. Именно на II Археологическом съезде Н.В. Калачов впервые предложил программу централизации архивной отрасли. Плодом его усилий стал не только Археологический институт в Петербурге, но и появление сети специальных губернских архивных комиссий – после 1884 года64. А на XI Археологическом съезде в Киеве в 1899 году по докладу Д.Я. Самоквасова развернулась дискуссия, очень важная в плане будущей организации архивного управления и профессиональной консолидации (в первую очередь вокруг Союза архивных деятелей и академика А.С. Лаппо-Данилевского)65. Следующая глава этой истории начнется в 1918 году, когда в Петрограде при активном участии и немалой поддержке большинства ученых «старой школы» будет создан Центрархив.
С середины XIX века историки стали заниматься не просто организацией экспедиций, обработкой результатов полевых изысканий, изучением коллекций или общим «попечением» над развитием музейной и особенно архивной областей; они взялись за выработку теоретических основ сбережения, отбора и публичного представления ценных свидетельств прошлого (в первую очередь в рамках общей модели музеефикации «подлинных» памятников). Рост просвещения, в том числе исторического, учреждение (после 1863 года) университетских кафедр по истории искусства, профессионализация церковной археологии, работа археологических институтов в Петербурге и Москве и особенно капитальные труды таких крупных ученых, как Никодим Павлович Кондаков (и его последователей), Николай Петрович Лихачёв, Дмитрий Власьевич Айналов и Егор Кузьмич Редин, – все эти факторы существенно обогатили представления тогдашнего образованного общества о русском художественном наследии и повлияли на общий характер восприятия российского прошлого во второй половине XIX века66. Эпоха любителей и энтузиастов, «палеографов» постепенно уходила в прошлое. Однако «академизация» не была и не могла быть окончательной; помимо этой экспертной прослойки в России тогда расширялась и укреплялась за счет формальных институций и неформальных отношений связанная с учеными среда профессионалов, работающих с наследием практически, – реставраторов, живописцев, архитекторов, критиков (особенно стоит отметить тут фигуру И.Э. Грабаря). Многие из них занимались не только прошлым, но даже в большей степени современными художественными практиками и течениями (например, адепты неорусского или византийского стилей, очеркисты и обозреватели, авторы популярных музейных путеводителей, травелогов и т. д.).