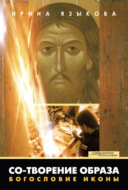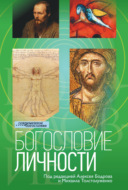Kitobni o'qish: «Богословие красоты»
Предисловие
Понятие красоты не сводится к суммированию всех известных определений красоты, хотя так или иначе содержит их в себе. Красота все время ускользает от прямого ее захватывания, но в имплицитном виде присутствует и является критерием истинности свершаемого. Не случайно, что понятие красоты используется как один из критериев истинности в науке: красивая теория, красивая формула, красивое решение задачи.
В библейской картине творения понятие красоты фигурирует как сущностная характеристика самого творения. Акты творения Богом мира завершаются оценкой, подразумевающей идею прекрасного: «И увидел Бог, что это хорошо» и даже «хорошо весьма».
Богословие красоты – это вопрос о красоте и ее присутствии в мире, о способах ее обнаружения и смысле. Христианская мысль воспринимает красоту не просто эстетически, но личностно: творение прекрасно, потому что прекрасен сам Творец. Человек есть образ Творца, поэтому вопрос о красоте – это также антропологический вопрос.
Богословие красоты так или иначе соотносится с несколькими основными типами ее присутствия в бытии: (а) пространство телесности (пространственно-временной аспект мира), (б) пространство культуры (человек и его творческая деятельность), (в) пространство трансцендентного (красота как откровение, знак присутствия Божественного). Последний тип предполагает выход за пределы эстетики в область мистического переживания красоты. Это непосредственно и есть область богословского осмысления красоты.
В основу настоящего сборника легли избранные доклады, представленные на международной конференции «Богословие красоты», проведенной 19–22 октября 2011 г. Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и монастырем Бозе (Италия). Помимо этого, в книгу включены статьи известных современных богословов, таких как Ганс Урс фон Бальтазар, Карл Барт и Каллист Уэр.
Александр Закуренко
Ганс Урс фон Бальтазар
Богословие и эстетика1
Только христиане – это «третий пол», этот по-другому невозможный синтез всякой «религиозной литературы».
Присуждение мне степени почетного доктора гуманитарных наук Католическим университетом Америки – большая честь для меня. Прошу вас принять мою сердечную благодарность за это. Тем не менее, я не удивлюсь, если вы окажетесь незнакомы с моими, увы, обширными по количеству, трудами. Их английские и американские переводы представляют более-менее случайную подборку. А из моей основной работы, в которой я предпринимаю попытку некоего синтеза, еще не переведено ничего.
Поэтому, выбирая тему моего доклада, я взял на себя смелость познакомить вас с причинами, по которым я оставил гуманитарные науки и переключился на богословие. Я не собираюсь предлагать вам автобиографический этюд, но попытаюсь очертить важную проблему, которая представляет собой, по моему мнению, центральный вопрос, если и не для филологии, то уж точно для богословия.
В течение десяти семестров я изучал немецкую филологию и литературу, после чего получил докторскую степень. Я никогда не становился доктором богословия. Пока я работал над диссертацией, основным вопросом, занимавшим меня, был следующий: «Есть множество хороших произведений литературы, музыки, изобразительного искусства и иной духовной деятельности. Каким образом можем мы распознать шедевр, который, хотя и принадлежит к определенной категории, превосходит ее и становится уникальным? Тысячи стихотворений написаны о ночи. Почему Nachtlied2 Гете превосходит их все? Существуют сотни венских «мюзиклов»; почему «Волшебная флейта» Моцарта настолько выше их? Множество ранних работ Моцарта были сознательно написаны однотипно, в стиле современной им итальянской музыки или музыки сыновей Баха. Как можем мы объяснить тогда качественный скачок в «Идоменее» или «Женитьбе Фигаро»? Откуда разница между «Гамлетом» Кида и Шекспира? Отчего Платон занимает такое высокое место среди философов, так что современный историк философии мог бы сказать, что все последующие философы были лишь комментаторами?»
Я прошу понять, что я не противопоставляю частное общему. Конечно, у каждого частного есть свои особенные характеристики. Я говорю о работах, которые становятся несравненными в своем собственном жанре. Но обычно несравненное происходит из длинной череды трудоемких усилий. Шекспир бы не стал тем, кем он стал, если бы не вся история театра, предшествовавшая ему. Однако можно сделать тысячи сравнений, так и не поняв уникальное с их помощью.
Тем не менее, знаток должен обладать неким аппаратом, некой способностью производить такие различения, как правило, в результате длительной практики. Как правило, человек с улицы не обладает такой способностью; все, что он может сообщить – свое субъективное впечатление, как например: «мне нравится эта музыка» или «это мне не нравится». Способность знатока чувствовать носит объективный характер. Он понимает уникальность произведения. Мне достаточно повезло, что у меня были учителя, которые развивали это чувство в своих учениках, подводя нас к радостным открытиям в литературе, искусстве, истории и музыке.
Именно в это время я обнаружил ключевую идею, которая стала затем центральной темой всего моего богословия как Gestalt – сложное для перевода выражение, которое можно передать как форма, фигура, вид. Хопкинс (Hopkins) в свое время ввел понятие inscape3.
Наш разум постигает организованное целое со всей детализацией, необходимой для понимания основной идеи, проявленной в своей полноте. Великое произведение искусства строится не из уже готовых слов, но создает из запечатляемого в момент рождения языка совершенно новый лексикон, неслыханные слова, которые, будучи произнесены, самопонятны тем, у кого есть глаза и уши для этого. Каждый ребенок радуется арии Папагено, тогда как ария отчаяния Памины или прощальный терцет4 потрясают даже искушенного знатока. Невозможно наслушаться такими музыкальными произведениями, как фуги Баха. Каждый раз они сообщают, даже «умелым сердцам» одаренных слушателей, бульшую глубину, более глубокое удовлетворение.
Философы искусства, как Шеллинг или Гегель, попытаются объяснить, почему тот или иной период истории оказался готов к восприятию Софокла, Данте или Шопена, но все равно необъяснимо, почему произведение искусства именно тогда обретает свою форму. Его необходимость обусловлена не внешними, но внутренними причинами.
Этому есть параллель в открытии, сделанном персоналистической философией, с которым я познакомился сначала благодаря Р. Аллерсу, а затем благодаря Ясперсу и Буберу. Эта параллель заключается в любви, которая возвышается над Эросом. Истинная любовь может различить и удержать уникальность любимого среди подобных ему в своем роде, даже когда эротическое влечение угасло. Объекты этого мира участвуют в уникальности Бога не только в качестве представителей своего рода, но, в особенной мере, и индивидуально. Чем они духовнее, тем они уникальнее. Святые, например, образуют семью – communio sanctorum, общение святых, но каждый из них несравненен. В них выражается тем самым, снова и снова, уникальность Бога.
Теперь вы видите, как происходит переход от искусства к богословию. Это увлечение не происходит из религиозного чувства, которое существует субъективно в каждом человеке. Поскольку мы все – творение божье, мы обладаем desiderium visionis bonae absolutis (желанием видеть абсолютное благо). Это может привести человека к изучению философии религии или истории религии; но ни то, ни другое меня никогда сильно не интересовало.
Нас влечет именно Иисус Христос – если видеть Христа так, как он говорит о себе – с той его уникальностью, которая не может быть сравнима ни с чем в человеческой истории. Отцы церкви называли такую способность видеть – «взгляд веры». Если мы видим Христа, то мы видим Слово Божье в его существенной органичной целостности. Для этого видения, в первую очередь, нам необходим Ветхий Завет, заранее создавший тот лексикон, с помощью которого мог выражаться Христос: завет, великие пророчества об избавлении и разрушении; мессианское и священническое; этика, подчиненная власти Бога через повиновение заповедям; освобождение человечества; свидетельство, которое будет возвещено народам; страдание праведных; жестоковыйность народа, противящегося слову Божьему, – все это (иногда несовместимые) элементы, которые объединены в лице Христа. К ним же относится идея плодовитости бесплодной женщины: ряд таких событий тянется напрямую из Ветхого Завета, от Сары через Анну к Елизавете, к непорочному зачатию Христа Марией.
Но вернемся к более важному – к фигуре Иисуса, ибо он есть единственный образ Бога (Ин 1:8), который бесконечно богат и при этом обладает парадоксальной простотой, вбирающей в себя все элементы. Он есть абсолютная власть и абсолютное смирение; он бесконечно досягаем, к нему может приступить каждый, и он же бесконечно недоступен, за пределами достижимого.
Всякий может понять слова Иисуса, но только в свете его свидетельства о своем Богосыновстве эти слова становятся вполне ясными. Более того, только в связи с его смертью и воскресением его слова обретают полноту своего смысла: все существо Иисуса есть одно-единственное Слово. Это совершенное существо становится явным только по свидетельствам веры: свидетельства Павла здесь столь же важны как свидетельства Деяний Апостольских; Иоанн столь же авторитетен, как и синоптики. Все они вместе образуют мощную полифонию – но не «плюрализм» в современном смысле слова. Их можно сравнить с видами на статую, поставленную на открытой местности, которую нужно обозреть со всех направлений, чтобы полностью оценить ее выразительность. Чем больше граней мы видим, тем лучше понимаем мы церковь, чьим изначальным призванием было составить Новый Завет и утвердить его канон. Только ее взгляд веры, водимый Духом Святым, мог увидеть феномен Иисуса Христа.
Отсюда проистекает фундаментальный принцип, что экзегеза – действительно весьма ценная богословская наука – может практиковаться только в пределах, охватываемых взглядом церкви. Тот, кто находится вне этого круга, неизбежно начнет разрушать неделимое единство образа Христа, заменяя правильные слова на более модные, которые, скорее всего, означают что-то другое, или на слова, которые можно найти и в других религиях, так что хотя и слышатся знакомые выражения, они общи для разных религий и не являются чем-то уникально-индивидуальными для христианства. Такие манипуляции столь же разрушительны, как если бы кто изъял каждый пятый или десятый такт из музыкальной фразы в какой-нибудь симфонии Моцарта.
Пожалуйста поймите, что, утверждая это, я защищаю не некий фундаментализм или библейский буквализм, но боговдохновенный духовный феномен – активную и единую полноту, которую можно обрести из Нового Завета. Дело не в литературной форме, а в содержании. Например, уже в допавловой традиции, и затем еще сильнее, у самого Павла, у Иоанна и в некоторых словах синоптиков, значение Страстей понимается как заместительное страдание Христа за нас (qui propter nos homines et propter nostram salutem…)5. Если эти утверждения релятивизировать и сделать плоскими, вся кафолическая вера рухнет; Евхаристия потеряет свое значение; плоть, отданная за нас, и кровь, пролитая за нас, не имеют смысла. Также божественность Христа тогда не необходима, ведь только через нее он мог понести грехи мира в своем воплощении. Соответственно, Троица также отменяется– так же, как и центральный постулат Нового Завета – что Бог есть Любовь, – ибо доказательство этого, согласно Иоанну, в том, что Отец отдал Сына в преизобиловавшей любви к нашему миру.
Если мы отрицаем крестное pro nobis, мы скатываемся к превращению в одну из исторических религий, в которых спасительная роль Бога в мировой истории либо ограничивается мифологией (например, как в богословии процесса), либо парит как платоновское солнце блага над всем страданием мира.
Более того, если упустить из виду целостность образа Христа, невозможно потребовать, чтобы верные отождествляли свою жизнь с ним, а при некоторых обстоятельствах – и претерпевали мученичество. Все, что заслуживает имя церковной святости, происходит из этой целостной картины. Независимо от того, какая индивидуальная грань образа Христа отразилась в данном конкретном святом, он или она всегда указывает на целое. Тереза Авильская показывает нам не только любовь к Богу, но и любовь к ближнему. Тереза Калькуттская производит всю свою любовь к ближнему из любви к Богу.
Моим намерением в первой части моей трилогии «Эстетика» было не только научить наши глаза видеть Христа так, как он сам видит себя, но и, более того, доказать, что всякое выдающееся и эпохальное богословие всегда следовало этому методу. Естественно, очевидно, что Бог не может быть ограничен никакой системой, что к одной и той же центральной тайне существуют многообразные подходы.
Поэтому, я решил представить во втором томе «Эстетики» двенадцать подходов, которые казались мне первичными и боговдохновенными. Все они ведут к поражающему весу, силе и свету, kavod, doxa-gloria Бога, открывающего себя во Христе, и в конце концов, в его Кресте и Воскресении.
И сколь же отличен логический путь Иринея – который следует гностической философии истории ad absurdum и тем самым показывает, как logos приспосабливается к человеческой истории и постепенно обращает ее к Богу изнутри: «Gloria Dei vivens homo»6 – от пути Ансельма, который видит некий род необходимости даже в свободных решениях Бога – Воплощении, Кресте, девственном Рождестве, – свободную необходимость, такую, как в совершенном произведении искусства. Этот путь отличается в свою очередь от паломничества Данте, который, будучи гоним Эросом через Ад и Чистилище, очищается через покаяние и исповедь и достигает божественной agape; или от пути Паскаля, который, столкнувшись с законами физики и всех современных ему естественных наук, признает парадокс человечества, который не может быть сведен ни к одной из этих наук, но может быть разрешен лишь с помощью еще большего парадокса распятой любви.
Я не хочу перечислять остальные подходы. Названного достаточно для вас, чтобы признать вместе со мной, что все эти пути сходятся концентрически к одной и той же тайне, которую Гете назвал «священная общая тайна», но что они, несмотря на все различия, никогда не противоречат друг другу.
Близорукостью части современного богословия является уверенность его сторонников в том, что они говорят что-то новое своим лозунгом о богословском плюрализме, или что они начали новую эпоху в богословской мысли. Эта уверенность является всего лишь следствием богословского рационализма, предполагающего, что тайны христианства можно ужать до маленького учебника, который можно изучить мигом. Такие фантазии лопаются как воздушные шарики перед бесконечностью Бога и его само-откровением. Пока и поскольку все многообразные подходы ведут к неизмеримой тайне Бога, который открыл себя во Христе, все они открыты и дозволительны для меня. Ведут ли они к центру или нет – зависит от выполнения условия, что они пребывают в пределах Sancta Catholica, ибо все дороги за пределами ее теряют тот или иной аспект совершенного целого.
Увы, мы зрим славу Божью только гадательно, как бы чрез мутное стекло, даже до величайшего парадокса – богооставленности Христа на кресте. Но именно христианская вера уникальна тем, что она в самом деле видит, что Бог, который превосходит всякое понимание, не исчезает в сумерках невыразимого – как это свойственно богам в иной мистике, – где человеку остается лишь лишиться дара речи и в итоге замолчать, но что этот все превосходящий Бог снисходит к нам, приближается ближе и ближе, становясь все более щедрым и все более требовательным одновременно, до тех пор, пока то, что человек может понимать, не станет таким сияющим, таким ослепляющим, что оно переполняет его. Только таким образом может негативное богословие быть христианским, и представлять собой вершину позитивного богословия.
Именно это хотел я показать в первой части моей трилогии, которую я назвал «Gloria: богословская эстетика»7.
Но Бог являет себя не только для того, чтобы им восхищались. Поэтому вторая часть моей трилогии показывает драматическую борьбу Бога за любовь грешного человека – пафос неразрушимого завета, заключенного Богом с человеком – через учащающееся отвержение человеком призыва Бога. Чем больше Бог предлагает себя, тем больше человек отворачивается от него. (Атеизм есть постхристианское явление.) Какой будет конец у этой трагедии? До чего может дойти действие? Я еще не написал последнего акта этой драмы.
Только в конце, когда мы уже увидели pulchrum, и испытали bonum, может завершиться трилогия таким образом, который мы все примем за verum. Это и есть «теологическая» проблема – вопрос о возможности выразить тайну человеческим и ответственным языком. Завершить этой, третьей, части, видимо мне не будет дано8. Если это не будет слишком дерзко, я хотел бы процитировать стихотворение Рильке из начала его «Часослова»
Круги моей жизни все шире и шире —
надвещные – вещие суть.
Сомкну ли последний? Но, видя в мире
суть, я хочу рискнуть.9
В заключении я хотел бы затронуть два связанных вопроса, которые имеют важные последствия: христианство и мировые религии и христианство и апологетика.
Можно смело сказать вместе с Карлом Ранером, что все религии «ищут христологии», что человеческая религиозная предрасположенность и желание заставляют его стремиться к конечному союзу с Богом, который есть дар Бога нам, именуемый Иисусом Христом. Далее, можно утверждать о благой вести о Христе, что Бог не отнимет свой превышающий всякое естество христоцентричный дар ни от кого, даже от нехристиан. Человек создан Богом, чтобы быть богоискателем. Павел сказал это в Афинах, но не сказал, может ли человек найти Бога совсем сам по себе. Бог создал человека богоискателем, чтобы Он мог свободно проявить себя как нашедший человека.
Вплоть до этого момента я не против того, чтобы следовать современному направлению мысли и видеть во всех религиях отблески христианства, logoi spermatikoi, как говорили отцы. Но существует неодолимое препятствие, которое, пожалуй, лучше всего можно отождествить с ветхозаветным запретом: «Не делай себе никакого резного изображения Бога». Следует оставить это место свободным и пустым, чтобы Бог мог наполнить его, как он того желает. Идолы, однако, бывают не только резными. Идолами, которые заслоняют Бога, могут быть практики вроде буддийской медитации, теории о том, как испытать божественное присутствие, спекуляции об абсолюте на манер Гегеля – все, что заполняет собой то пространство, которое Бог намеревается занять, чтобы воздвигнуть образ, вид которого нельзя предугадать.
Здесь предел трансцендентального христианского богословия. Тот, кто этого не понимает, не сможет оценить уникальность места христианства в истории: он не захочет этого видеть ради достижения некоей гармонии между выражениями общерелигиозных чувств.
Я хотел бы разъяснить немного больше по моему второму тезису, о христианстве и апологетике. Если мы рассмотрим сделанные в человеческой истории попытки подойти поближе к абсолюту из относительности мира и «укоренить» бытие человека в абсолюте, то, как кажется, найдется только два способа. Первый можно определить как религиозное язычество: сердце и ум пытаются превзойти временное и тленное, чтобы взойти к абсолюту, который есть не «становление», но «бытие» – бесконечное, неделимое, за пределами всякой видимости и иллюзии. Таков путь desiderium naturale, поднимающийся вертикально вверх или падающий прямо вниз, в то время как история бежит горизонтально во времени. Таков путь всех азиатских религий, и он же – путь досократиков, платоников, стоиков, неоплатоников, а также исламских суфиев, хотя ислам и представляет из себя смесь языческих и библейских элементов. Все они стремятся укорениться в абсолюте, в его physis, идее или логосе и преодолеть оттуда судьбу мира. Следует еще сильнее подчеркнуть сходство всех естественных религий в их конечной релевантной форме. Все они ищут свой источник, первоначало, Альфу.
Динамика, которую вводит Ветхий Завет, полностью отлична: в начале есть завет, инициированный Богом, который, однако, существенно указывает на историческое будущее, удаленную точку, Омегу, в которой этот вечнонесовершенный, вечнонарушаемый союз становится исполненным, в которой наступает мессианское время, в которой пересекаются траектории Бога и человека в финальном событии.
Огромен пафос иудейства; он пронизывает собой всю мировую историю. Иудейские ожидания приняли секуляризированную форму – не только в марксизме, который забывает про исходный завет и признает лишь пророческие революции, но также и в идеологии технического прогресса, которая захватила все – и первый, и второй, и третий миры.
Мое мнение относительно этих двух религиозных идеологий, языческой и иудейской, состоит в том, что они полностью непримиримы, как вертикаль и горизонталь. Невозможно быть дзен-буддистом и коммунистом одновременно. Невозможно посвятить жизнь продвижению мирового прогресса и одновременно удалиться от мира. Но непримиримое в мире – вертикаль и горизонталь – образуют крест, пустой крест, который предназначен не для всякого. Только Иисус Христос может заполнить собой это пустое пространство, ибо он есть исполнение как человеческих языческих устремлений, так и надеющейся иудейской веры. Поэтому только христиане суть – это «третий пол», этот по-другому невозможный синтез «религиозной литературы». Показать это с той степенью ясности, какая приличествует этому сюжету, было бы слишком большой новой темой, которую я не смею начать здесь. Придется ограничиться несколькими замечаниями.
В языческом благочестии глубоко заложено сознание того, что человек – это образ, а не первообраз, и поэтому человек чувствует, что первообраз должен своей собственной силой проявить себя, чтобы сердце человека могло упокоиться в Боге. Этот первообраз есть Иисус Христос, только он один, ибо он есть полностью Бог и полностью Человек. Человек не желает быть поглощенным божеством, но желает и обрести Бога, и сохранить свою собственную личность. Воскресение Иисуса есть спасение, сбережение всего человеческого в Боге.
В иудейской вере и надежде присутствует неудовлетворенное желание, беспокойство, которое преследуемо сознанием собственного изгнания и отверженности Богом до тех пор, пока не придет Мессия. Язычество начинает с радикальной критики человеческой ограниченности и пытается подняться к божественному, тогда как иудейство начинает с критики всех существующих взаимоотношений и требует срочного изменения во всех общественных и культурных структурах, чтобы привести к наступлению Царства Божия. И только одно христианство не начинает с критики.
Иисус Христос принес благословение покоя иудейской критике и беспокойству: мир примирен с Богом в нем, нет более болезненного изгнания детей Божьих. Последнее пришествие Мессии еще в будущем; в «уже сейчас» все еще пребывает «еще нет»; с нами все еще томление и вера, но также и все превозмогающая уверенность в Божьей победе над безбожным миром и грехом.
Не было ничего более сложного для юной церкви, как воспринять одновременно язычников и иудеев. Тем не менее, она есть именно такой синтез, основанный на существовании Иисуса Христа. И с этим она стала фигурой мировой истории, формой, живым свидетельством единства и единственности фигуры Христа. В ее единстве покоится ее достоверность. Ее внутреннее и внешнее единство, к которому также относится и единство церковного служения, есть единственная апологетика, которую имел в виду Иисус Христос, когда оставлял нам слова: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). В сегодняшнем богослужении мы произносили молитву, которая в точности суммирует все мои соображения: «Deus cuius ineffabilis sapientia in scandalo crucis mirabiliter declaratur, concede nobis, ita passionis filii tui gloriam contineri, ut in cruce ipsius numquam cessemus fiducialiter gloriam.»
Перевод с немецкого Андрея Заякина