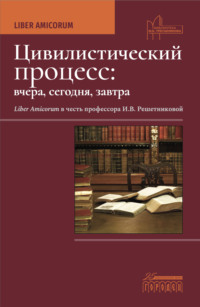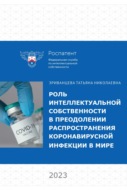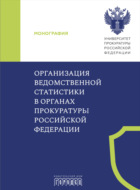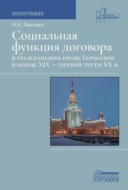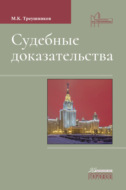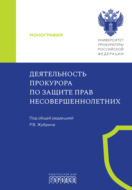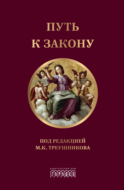Kitobni o'qish: «Цивилистический процесс: вчера, сегодня, завтра. Liber Amicorum. В честь профессора И.В. Решетниковой», sahifa 2
Первый состоит в том, что рассмотрение нового иска о взыскании убытков и неустойки судом, ранее разрешившим спор по основному иску, может нарушать общее правило о территориальной подсудности (для случая, когда фигура ответчика по основному и новому иску не совпадает) либо правило о договорной подсудности (для случая, когда стороны прямо указали компетентный суд для требования о взыскании убытков и неустойки в тексте мирового соглашения). Более того, нельзя исключать и ситуации, при которых требование о взыскании убытков и неустойки подлежит рассмотрению в иной подсистеме (скажем, когда основной иск был рассмотрен арбитражным судом, а притязание реципиента компетентен рассматривать суд общей юрисдикции) или третейским судом (при наличии соответствующей оговорки в отношении требований, которые могли бы быть предъявлены вследствие недостоверности данных заверений).
Второй довод связан с предметом доказывания – он будет радикально иным, по сути, никак не совпадающим с предметом доказывания по основному иску. Собственно, и доказательства в большинстве случаев тоже будут новыми, отличными от тех, что уже имеются в материалах дела.
Третий довод отсылает нас к ситуации, когда заверения были даны не спорящими по основному иску сторонами, а третьим лицом. Поскольку по требованию о взыскании убытков и неустойки отвечать будет именно это лицо, то в итоге окажется, что в рамках одного судебного дела рассматриваются довольно разные иски с несовпадающим субъектным составом.
Наконец, четвертый довод связан с возможной инстанционной «разбалансировкой». Например, если неутвержденное мировое соглашение заключалось сторонами в проверочной инстанции, то в итоге окажется, что судебный акт, принятый по основному иску, проходит проверку в апелляции или кассации, а уже заявленное требование реципиента подлежит рассмотрению в суде первой инстанции.
II. Последствия отсутствия полномочий у представителя стороны, давшей недостоверные заверения
Второй вопрос мы бы сформулировали следующим образом: допустимо ли взыскание реципиентом убытков и неустойки, если мировое соглашение не было утверждено вследствие отсутствия полномочий у представителя стороны, давшей недостоверные заверения?
Необходимо выделить два самостоятельных случая:
1) судебная доверенность, выданная представителю, вообще не содержит указания на такое специальное полномочие, как заключение мирового соглашения;
2) судебная доверенность, выданная представителю, включает указанное специальное полномочие, однако сделка, составляющая содержание мирового соглашения, подлежала одобрению по правилам корпоративного законодательства либо согласованию с иным субъектом.
Обратимся к первому случаю. Формально рассуждая, отсутствие указания в судебной доверенности на право заключать мировое соглашение, конечно же, совершенно явно проявляет волю стороны: выдавая такую доверенность, она однозначно исключала саму возможность вступления в договорно-правовую связь по вопросу, связанному с мирным окончанием судебной процедуры, посредством волеизъявления представителя. Более того, судебная доверенность представителя – это обычное письменное доказательство, которое надлежало учитывать и процессуальному оппоненту. Действительно, элементарная осмотрительность должна была подтолкнуть реципиента к выяснению вопроса о том, почему мировое соглашение подписывается в отсутствие надлежащего полномочия. Ответ, таким образом, вроде бы очевиден: подобное мировое соглашение не может порождать материально-правового эффекта в виде возникновения охранительного правоотношения, содержанием которого является возмещение реципиенту убытков (уплата неустойки) за недостоверность заверений.
Впрочем, на наш взгляд, могут быть нюансы. Предположим, что мировое соглашение подписано судебным представителем по доверенности, в которой не содержится необходимое специальное полномочие, однако ходатайство об утверждении мирового соглашения в судебном заседании заявлено самим доверителем. Действительно, с точки зрения судебной процедуры это не исправляет дефекта – суд откажет в утверждении мирового соглашения, видимо, предложив переподписать такое мировое соглашение. Но что произойдет, если доверитель в итоге передумает и откажется сам подписывать ранее согласованное мировое соглашение (либо выдать надлежащую доверенность своему представителю)? На наш взгляд, в этой ситуации у суда нет оснований для утверждения мирового соглашения, однако вполне можно поставить вопрос о согласовании сторонами условий о заверении обстоятельств. Действительно, ведь воля доверителя ранее уже была выражена, причем выражена в отношении условий, содержащихся в конкретном письменном документе, который к тому же исследовал суд. То, что такого выражения оказалось недостаточно для утверждения мирового соглашения, отнюдь не означает автоматического поражения соглашения о заверении обстоятельств. Видимо, в этой и подобных ситуациях11 более верным было бы защищать интерес реципиента – раз он смог убедить процессуального оппонента в необходимости включения в мировое соглашение заверений, раз в итоге уполномоченное лицо четко и однозначно выразило свою волю к заключению мирового соглашения на согласованных условиях, то наказывать его (реципиента) за неосмотрительность в изучении судебной доверенности представителя процессуального оппонента было бы не совсем правильно. Наоборот, непоследовательное поведение процессуального оппонента (доверителя) как раз подталкивает к выводу о том, что он не должен в итоге извлечь из этой ситуации положительного для себя правового результата (а таковым как раз и будет признание соглашения о заверении обстоятельств незаключенным).
Далее проанализируем второй случай. Здесь ситуация иная: судебная доверенность, выданная представителю, включает указание на специальное полномочие, однако сделка, составляющая содержание мирового соглашения, подлежала одобрению по правилам корпоративного законодательства либо согласованию с иным субъектом. Предположим, заверение касалось именно одобрения – сторона письменно подтвердила, что сделка, составляющая содержание мирового соглашения, не является крупной. В дальнейшем же подписанное мировое соглашение не было утверждено судом именно в силу крупности сделки и отсутствия необходимого одобрения. Должно ли лицо, давшее заверение, отвечать за это? Полагаем, что нет никаких предпосылок для обратного вывода: воля сторон согласована; конструкция ответственности за недостоверное заверение выступает своеобразным страхующим механизмом для реципиента, который согласился на заключение мирового соглашения в неопределенной ситуации, связанной с возможным корпоративным одобрением. Иное решение просто обессмысливало бы само применение института заверений об обстоятельствах.
III. Процессуальный статус субъекта, давшего заверения об обстоятельствах, включенных в мировое соглашение
Третий вопрос связан с процессуальным статусом субъекта, который, не являясь спорящей стороной, тем не менее дает заверения об обстоятельствах, включенных в мировое соглашение12.
Выше мы уже обратили внимание на то, что наделение такого субъекта статусом лица, участвующего в деле, ведет к определенному усложнению процесса. В то же время остался открытым вопрос о том, к какой разновидности лиц, участвующих в деле, должен быть в итоге отнесен этот субъект.
Судебное определение, которым отказано в утверждении мирового соглашения, может породить материально-правовое притязание реципиента к лицу, давшему заверения об обстоятельствах. В этом смысле такое определение влияет на динамику нового (отличного от спорного) материального правоотношения, что дает основания для его привлечения со статусом третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне реципиента. Правда, здесь вполне возможно возникновение определенной коллизии: чаще всего лицо, дающее заверения, каким-то образом связано не с реципиентом, а с процессуальным оппонентом (например, физическое лицо, являющееся мажоритарным акционером, дает заверения в отношении обстоятельств, связанных с деятельностью компании). В итоге лицо, дающее заверения, привлекается третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне реципиента, а его действительные интересы совпадают с интересами процессуального оппонента.
Заметим также, что наделять лицо, давшее заверения об обстоятельствах, необходимым процессуальным статусом следует до того, как будет рассмотрен вопрос об утверждении мирового соглашения, – это позволит ему высказать суду свои доводы при разрешении данного вопроса, а в будущем даст основание для применения правил преюдиции в новом судебном деле, возбужденном по требованию реципиента.
Не самая простая ситуация возникает в случае, когда выгодоприобретателем по мировому соглашению становится не спорящая сторона, а иной субъект (речь идет о ситуации, когда в мировом соглашении указано, что заверения адресованы именно такому лицу). Понятно, что выгодоприобретатель тоже должен иметь определенный процессуальный статус – было бы странно, если бы вопрос об утверждении мирового соглашения разрешался без его участия. Статус стороны такой выгодоприобретатель иметь не может: по логике его следует привлечь третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне субъекта, выступающего должником в мировом соглашении (ведь именно с ним возникнет материально-правовая связь при вынесении судебного определения об утверждении мирового соглашения). Однако выше мы предложили наделять статусом третьего лица и субъекта, который, не являясь спорящей стороной, тем не менее дает заверения об обстоятельствах, включенных в мировое соглашение. В итоге возможная материально-правовая связь, содержанием которой является обязанность возместить убытки и уплатить неустойку при недостоверном заверении, возникает между субъектами, ни один из которых не является стороной! Скажем прямо: это не самый обычный казус; здесь получается, что субъект, давший заверения, будет третьим лицом на стороне реципиента, уже имеющего статус третьего лица.
Безусловно, это далеко не все вопросы, которые бы следовало поставить применительно к механике функционирования института заверений об обстоятельствах внутри судебной процедуры для случаев, когда, несмотря на заключенное мировое соглашение, она тем не менее не была окончена. Полагаем, что вдумчивый анализ сопряжения нового гражданско-правового феномена с известной процессуальной материей позволит выявить законодательные шероховатости и хотя бы отчасти помочь правоприменителям и спорящим сторонам.
Список литературы
Абушенко Д.Б. Гражданско-правовые последствия неутвержденного мирового соглашения: постановка проблемы // Примирительные процедуры в цивилистическом праве и судопроизводстве / Сборник материалов Международной научно-практической конференции 26–27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург. Ч. 2 / Под общ. ред. В.П. Очередько, А.Н. Кузбагарова, С.Ю. Катуковой. СПб., 2019. С. 15–21.
Т.К. Андреева
Некоторые аспекты доказывания в корпоративных спорах
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия; tkandreeva@yandex.ru
Татьяна Константиновна Андреева – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель Председателя ВАС РФ в отставке.
В статье анализируются некоторые аспекты доказывания в контексте процессуальных особенностей рассмотрения судами корпоративных споров. Показана взаимосвязь норм материального права и норм процессуального права применительно к определению предмета доказывания в корпоративных спорах. Обращается внимание на специфику доказывания в зависимости от разновидности корпоративных споров, проблемы распределения и перераспределения бремени доказывания.
Ключевые слова: корпоративные споры, судебное разбирательство, доказывание, предмет доказывания, бремя доказывания.
Some aspects of proof in corporate disputes
T.K. Andreeva
Lomonosov Moscow State University
Tatiana K. Andreeva – Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil Procedure of the Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University, Deputy Chairman of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation retired.
The article analyzes some aspects of proof in the context of the procedural features of the corporate disputes resolution by courts. The interrelation of substantive law provisions and the procedural law rules in relation to the definition of the subject of proof in corporate disputes is shown. Attention is drawn to the specifics of proof depending on the type of corporate disputes, the problems of distribution and redistribution of the burden of proof.
Keywords: corporate disputes; court proceedings; proof; subject of proof; burden of proof.
* * *
Научные интересы, публикационная активность и профессиональная деятельность профессора И.В. Решетниковой касаются самых разнообразных областей гражданского и арбитражного процесса, исполнительного производства, международного гражданского процесса, примирительных процедур, процессуальных особенностей рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, организационно-правовых аспектов деятельности арбитражных судов и других вопросов права и правоприменения. Однако особое место в исследованиях и научных разработках И.В. Решетниковой занимают проблемы доказательств и доказывания. В связи с этим в статье как дань уважения большому ученому, Судье и замечательному человеку предпринята попытка рассмотреть некоторые аспекты доказывания в контексте особенностей рассмотрения арбитражными судами корпоративных споров.
В доктрине процессуального права признается, что правила рассмотрения отдельных категорий гражданских дел могут существенно отличаться в зависимости от того, на защиту какого права направлен иск, какой закон регулирует и охраняет то или иное правоотношение13. В полной мере это относится и к делам по корпоративным спорам, процессуальные особенности рассмотрения которых в значительной мере обусловлены характером корпоративных отношений, урегулированных нормами материального права, в частности, нормами гражданского права. Несмотря на то, что категория «корпоративные споры» используется в нормах процессуального права с 2009 г.14, а закрепление понятия «корпоративные отношения» появилось только спустя три с лишним года15, именно это понятие является исходным, базовым для определения и понимания природы корпоративного спора.
Согласно ст. 2 ГК РФ корпоративные отношения определяются, как отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими. Нетрудно заметить, что ключевое, смыслообразующее значение в этом определении имеет понятие «корпоративные организации» (ст. 65.1 ГК РФ), к числу которых относятся как коммерческие, так и некоммерческие организации, отвечающие двум основным критериям: 1) участие (членство) в них учредителей (участников) (критерий субъектного состава) и 2) формирование учредителями (участниками) высшего органа юридического лица (организационный критерий). При этом устанавливается, что в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 65.1 ГК РФ).
Взаимосвязанные положения ст. 2 и 65.1 ГК РФ отражают сформировавшуюся в доктрине позицию относительно понимания корпоративных правоотношений как общественных отношений, возникающих на основе участия (членства) в корпорации и существующих как между участниками (членами) корпорации друг с другом, так и с самой корпорацией16. Такое понимание корпоративных правоотношений позволяет рассматривать их как разновидность гражданских правоотношений17, из которых и возникают корпоративные споры.
И.В. Решетникова справедливо отмечает, что «процессуальное право, основываясь на праве материальном, во многом сканирует правовые подходы. Достаточно сказать, что представительство, подведомственность, доказывание и другие процессуальные институты основаны на нормах материального права»18. В полной мере этот постулат относится и к сфере корпоративных отношений, специфика регулирования которых влияет на особенности рассмотрения корпоративных споров. Анализ норм гражданского права, регулирующих корпоративные правоотношения, представляется важным для решения целого ряда процессуальных вопросов, связанных с рассмотрением корпоративных споров: судебной компетенции, выбора правил судопроизводства, определения круга и процессуального положения лиц, участвующих в деле по корпоративному спору, определения предмета доказывания и распределения бремени доказывания, применения обеспечительных мер, принятия решения и других процессуальных вопросов.
В числе названных процессуальных вопросов особое место занимают вопросы и проблемы доказывания в корпоративных спорах. Именно в этой сфере процессуальной деятельности наиболее отчетливо проявляется тесная взаимосвязь процессуального права с материальным правом. При этом, как подчеркивает И.В. Решетникова, «доказывание по любому гражданскому делу требует обязательного обращения сначала к общим нормам гражданского процессуального права, а затем – к положениям отраслей материального права, где указывается, что входит в предмет доказывания по конкретному делу, каковы особенности в распределении обязанности доказывания, есть ли правовые презумпции по данной категории дел или ограничения в допустимости определенных средств доказывания и т. д. Без общих норм о доказательствах не могут разрабатываться и применяться специальные нормы, без специальных норм общие нормы безжизненны. Только во взаимодействии общих и специальных норм о доказательствах может быть достигнута цель судопроизводства – разрешено дело»19.
Как известно, специфика корпоративных отношений и вытекающих из них корпоративных споров, неизбежно затрагивающих права и законные интересы всех участников юридического лица, в связи с деятельностью которого возник корпоративный спор, и самого этого лица, обусловили необходимость установления особых процессуальных правил рассмотрения корпоративных споров, которые бы гарантировали всем субъектам спорных отношений и другим заинтересованным лицам возможность получения информации о наличии судебного спора и участия в судебном разбирательстве. В связи с этим в АПК РФ была введена самостоятельная гл. 28.1, определяющая порядок рассмотрения корпоративных споров арбитражными судами20, и внесены иные изменения, направленные на совершенствование механизма защиты прав участников корпоративных отношений21. Однако норм, регулирующих особенности доказывания в корпоративных спорах, в гл. 28.1 АПК РФ не содержится. Значит ли это, что таких особенностей нет и при рассмотрении корпоративных споров суду и лицам, участвующим в деле, следует исходить из общих правил о доказательствах и доказывании, предусмотренных в гл. 7 АПК РФ? На этот вопрос следует дать однозначно отрицательный ответ. В доктрине признается специфика правовых источников гражданского процессуального доказывания, которая заключается в том, что специальные нормы содержатся не только в особенной части гражданского процессуального права, но и в отраслях материального права22.
Применительно к рассмотрению корпоративных споров тесная взаимосвязь арбитражного процессуального права и материального (гражданского) права обусловливает целый ряд проблем, в том числе связанных с доказыванием на различных стадиях арбитражного процесса. Так, используемая в АПК РФ и ГПК РФ категория «корпоративные споры» – понятие довольно условное и его содержание не в полной мере совпадает с пониманием корпоративных отношений, содержащемся в ст. 2 ГК РФ23. Для того, чтобы правильно выбрать надлежащий суд по конкретному делу (определить предметную компетенцию и территориальную подсудность), установить наличие у лица, заинтересованного в судебной защите, права на обращение в суд с соответствующим требованием, применить адекватные заявленному требованию правила судопроизводства, необходимо прежде всего определить правовую природу спора, по существу, доказать, что спор является корпоративным. Однако проблема в том, что вопросы определения природы спора, характера заявленных требований и связанные с ними вопросы судебной компетенции решаются судьей на стадии принятия заявления к производству суда и возбуждения производства по делу. Значит, суд должен решить указанные вопросы, исходя из содержания искового заявления. В исковом заявлении определяется предмет и основания иска, указываются нормы материального права, обосновывающие заявленное требование (ст. 125 АПК РФ). Как отмечается в литературе, из искового заявления суду должно быть ясно, подлежит ли спор рассмотрению в данном суде. Для этого достаточно определить характер спорных правоотношений (природу спора) и субъектный состав спорящих сторон24. Применительно к корпоративным спорам субъектный состав участников правоотношений, из которых возникли спор или требование, на разграничение судебной компетенции не влияет (ч. 6 ст. 27 АПК РФ), однако организационно-правовой статус корпорации будет выступать критерием разграничения вопросов ведения между судами общей юрисдикции и арбитражными судами (ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, п. 8 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).
Примечательно в связи с этим Определение ВС РФ от 2 апреля 2018 г. № 305-ЭС17-17083 по делу № А40-35170/2017 Арбитражного суда г. Москвы, в котором указывается на неисчерпывающий перечень видов корпоративных споров, предусмотренных в ст. 225.1 АПК РФ. В Определении отмечается, что к числу корпоративных относятся и иные споры, связанные с применением положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом ВС РФ подчеркнул, что если спор связан с нарушением предусмотренного Законом об обществах с ограниченной ответственностью порядка получения согласия на совершение крупной сделки, то характер такого спора не может меняться в зависимости от того, общество или его участник обратились с иском о признании такой сделки недействительной и (или) применении последствий ее недействительсности.
Как следует из содержания ст. 225.1 АПК РФ, категория «корпоративные споры» относится к большому числу споров, возникающих из корпоративных правоотношений и не только, имея в виду, что предусмотренный названной статьей перечень, во-первых, включает также споры, возникающие из административных и иных публичных отношений (п. 5 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ), а во-вторых, не является исчерпывающим. Таким образом, корпоративные споры – это различные виды споров, отличающихся по своему характеру друг от друга. В литературе отмечается, что нормы материального права влияют на особенности рассмотрения отдельных категорий судебных дел, в том числе на определение предмета доказывания. В соответствии с требованиями закона в исковом заявлении определяются предмет иска и его основание, указываются нормы материального права. Именно норма материального права и основание иска, – считает И.В. Решетникова, – являются источниками определения предмета доказывания. Исходя из предмета доказывания распределяется обязанность по доказыванию и определяются необходимые доказательства по конкретному делу25.
В науке гражданского процессуального права под предметом доказывания обычно понимается совокупность обстоятельств (юридических фактов), имеющих значение для рассматриваемого дела. Такое понимание предмета доказывания приводится, в частности, О.В. Баулиным со ссылкой на работы А.Ф. Клейнмана, М.К. Треушникова, С.Л. Дегтярева26. На совокупность обстоятельств материально-правового и процессуального характера, устанавливаемых для правильного разрешения дела как на предмет доказывания, указывает и И.В. Решетникова27. В то же время В.В. Молчанов считает, что «предмет доказывания – это материально-правовые факты, подтверждающие обоснованность требований и возражений сторон и имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, а всю совокупность фактов, устанавливаемых при рассмотрении и разрешении гражданских дел, целесообразно объединить общим понятием «пределы доказывания»28. Аналогичная позиция была высказана и М.К. Треушниковым29.
Согласно ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Из содержания данной нормы нельзя однозначно заключить, какие конкретно обстоятельства (юридические факты) входят в предмет доказывания, однако указывается на их источник. Представляется, что ссылка на нормы материального права, подлежащие применению при рассмотрении конкретного дела, не ограничивает предмет доказывания фактами материально-правового характера.
С учетом того, что категория корпоративных споров охватывает различные виды корпоративных споров, можно признать правомерным определение «своего», присущего конкретному их виду предмета доказывания, что обусловлено различиями в правовом регулировании соответствующих отношений, необходимостью установления различного круга обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. В ряде случаев в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по корпоративному спору, входят и обстоятельства процессуального характера, хотя и определяемые на основании норм материального права. Так, при рассмотрении вопроса о принятии к производству арбитражного суда иска участника юридического лица о возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу (ст. 225.8 АПК РФ), суд должен установить, относится ли лицо, предъявившее иск, к числу названных в ст. 225.8 АПК РФ субъектов, которым предоставлено право на обращение в суд в соответствие с нормами материального права. Исключить из предмета доказывания указанного обстоятельства невозможно, от этого зависит возможность принятия заявления к производству и рассмотрения данного спора как корпоративного, хотя и носит этот факт процессуально-правовой характер.
Весьма показательным является в связи с этим дело Арбитражного суда Республики Хакасия по исковому заявлению А.С. Постригайло от имени ООО «Разрез Аршановский» к двум директорам общества о взыскании солидарно убытков, причиненных этому обществу. Иск был предъявлен А.С. Постригайло как классический косвенный иск участника корпорации на основании ст. 53.1 и 65.2 ГК РФ, п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Однако прямым участником ООО «Разрез Аршановский» заявитель не был, он являлся участником двух иностранных компаний, которые в совокупности владели 25 % в 100 %-ном иностранном участнике российского общества. В данном деле арбитражный суд занял формальную позицию, сославшись при этом на заключение Исследовательского Центра частного права им. С.С. Алексеева, и констатировал, что в отсутствие указаний закона у всех иных лиц, в том числе акционеров / участников компаний более высокого уровня в корпоративной структуре отсутствуют необходимые полномочия, и, следовательно, они не вправе обращаться с косвенными исками в интересах юридического лица, участниками которого они не являются. В результате арбитражный суд вынес определение об оставлении искового заявления А.С. Постригайло без рассмотрения со ссылкой на п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ30. Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций, а также ВС РФ согласились с выводами Арбитражного суда Республики Хакасия.
По другой разновидности корпоративных споров о принудительном исключении участника из общества с ограниченной ответственностью в предмет доказывания наряду с обстоятельствами материально-правового характера также входит установление статуса истца как участника того же общества, что и ответчик, необходимо будет доказать владение истцом 10 % доли в уставном капитале, т. е. доказать факты процессуально-правового характера, от установления которых зависит принятие иска о принудительном исключении участника из общества к производству.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что особенностью доказывания по корпоративным спорам наряду со спецификой в определении предмета доказывания по различным видам корпоративных споров является установление такого юридического факта, как факт участия в юридическом лице, в связи с деятельностью которого возник спор, установление отношения участия в корпорации истца и (или) ответчика (факты активной и пассивной легитимации)31.
Как известно, понятие предмета доказывания связано с правилами распределения обязанностей по доказыванию32. И если предмет доказывания определяется судом, то бремя доказывания возлагается на лиц, участвующих в деле. В ч. 1 ст. 65 АПК РФ содержится общее правило: каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Исключение из этого правила сделано лишь для дел, возникающих из административных и иных публичных отношений, где обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения или действия (бездействия) возлагается на орган или лицо, чьи решение или действие (бездействие) оспариваются.
Ни процессуальное законодательство (гл. 28.1 АПК РФ), ни нормы материального права не предусматривают исключений из общего правила распределения обязанностей по доказыванию в корпоративных спорах. Вместе с тем в судебной практике по корпоративным спорам широкое распространение получил подход, при котором не только допустимо, но и необходимо перераспределение бремени доказывания, когда в процессе рассмотрения дела суд устанавливает недобросовестное поведение стороны. Речь идет о применении в процессуальном праве подходов и презумпций, сформировавшихся в материальном праве. В частности, в ГК РФ закреплены презумпция и принцип добросовестности. О добросовестности как принципе гражданского права говорится в п. 3 ст. 1 ГК РФ: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. С принципом добросовестности взаимосвязана и правовая презумпция добросовестности: добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5 ст. 10 ГК РФ).