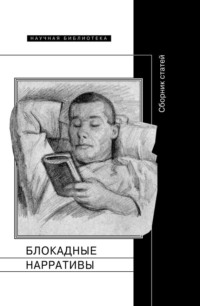Kitobni o'qish: «Блокадные нарративы (сборник)»
Памяти Сергея Ярова
© П. Барскова, Р. Николози, составление, предисловие, 2017
© Авторы, 2017
© Переводчики, 2017
© Е. Спицына, иллюстрации
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Полина Барскова, Риккардо Николози
Разговор о том, как и зачем изучать блокадные нарративы
(вместо предисловия)
Полина Барскова
Хочу начать наш письменный разговор с середины вещей. В конце второго дня нашей конференции «Narrating the Siege: The Blockade of Leningrad and its Transmedial Narratives», прошедшей в мюнхенском Университете Людвига-Максимилиана летом 2015 года и итоги которой составляют этот сборник, произошла встреча участников с режиссерами Джессикой Гортер и Сергеем Лозницей, авторами важных документальных киновысказываний о блокаде: «Блокада» (2005) и «900 дней» (2011). У этих фильмов на первый взгляд больше различий, чем точек пересечения. Лозница работает с хроникальным материалом, Гортер берет интервью у жителей современного Петербурга. Лозница, работающий, за исключением озвучивания, с архивным материалом, говорит о блокаде с точки зрения блокады – как бы из/от того времени, в то время как фильм Гортер документирует блокадную память, современное восприятие блокады.
Однако одна проблема объединяет оба этих высказывания: у зрителя обоих фильмов может возникнуть ощущение, что о блокаде говорить нельзя; невозможность производить текст о блокаде является для режиссеров и предметом исследования, и приемом, с помощью которого они конструируют свой нарратив. Лозница отказывается сопровождать кадры хроники текстом «от автора», отказывается объяснять и связывать обрывки блокадной кинореальности для (комфорта) современного зрителя. Персонажи Гортер то и дело неловко и напряженно замолкают перед камерой в своих попытках выразить отношение к блокаде; одной из самых примечательных и мучительных, на мой взгляд, сцен фильма является момент, когда родители, прошедшие блокаду, объясняют снимающему, почему они ничего не рассказали сыну. Родители оправдываются, а сам этот сын «успокаивает» всех наблюдением, что он, собственно, и не хочет ничего об этом знать, что он и доволен, что родители ничего ему не рассказали о блокадном опыте.
Родившийся через много лет после конца блокады Лозница отказывается говорить о блокаде, глядя (на) хронику, блокадники тоже отказываются говорить о блокаде за пределами узко определенных идеологических клише, проторенных «звуковых дорожек» о героизме и стоицизме. Мы можем наблюдать, как блокадная катастрофа (и во время, и уже после непосредственно событий) вызывает парадоксальный кризис самоописания: она порождает в своих субъектах ощущение, что и говорить, и молчать об этих событиях равно невозможно.
Может быть, самой часто повторяемой фразой, которая встречается в блокадных дневниках, причем и у школьников, и у профессоров, и у рабочих, и у поэтов, является следующая: это нельзя, невозможно описать, как восклицает, например, безвестная блокадная школьница:
Бомбежки… Пожары… Пылают дома…
Удел наш – и голод, и холод, и тьма.
<…>
Как призраки, люди живые бредут.
А сколько на саночках мертвых везут!
У морга их грудой грузят, как дрова.
Нет сил описать! Слишком слабы слова!
При этом в отчаянии повторяя, что описать, показать, репрезентировать блокаду невозможно, блокадники ее описывают и показывают постоянно, самим актом письма нарушая сегодняшние представления о возможном и невозможном. Они пишут во тьме, пишут опухшими, гноящимися руками, они пишут под страхом ареста и казни, они пишут, зная, что у них не будет читателей, но они не могут не писать. Этот сборник – важное коллективное усилие в рассмотрении громадного (хотя бы по объему корпуса) явления истории и культуры советского века – блокадного письма. В центре внимания авторов прежде всего культурный текст, культурный документ, возникший как отклик на события блокады. Авторы рассматривают в большинстве случаев письменные тексты (частные дневники и произведения литературы), но также и явления, как сказал бы Юрий Тынянов, «примыкающих рядов» – кино и даже блокадные слухи. Тексты поражают разнообразием подходов, жанров, точек зрения. Какими же могут быть стратегии по приведению этого корпуса в порядок, по осмыслению этого потока и хаоса голосов?
Риккардо Николози
Множественность голосов наших авторов, гетерогенность их подходов к блокадному письму и, в конечном счете, различные «блокады», которые проступают из этих текстов, действительно стали неожиданным итогом нашей мюнхенской конференции и ее письменной фиксации в этом сборнике. Неожиданным, так как мы не только дали авторам общий объект исследования, но и предложили соответствующий методологический аппарат.
Обилие взглядов на блокадное письмо, отраженное в статьях, не было предусмотрено заранее, но, без сомнения, стало сильной стороной сборника: полилог исследователей восстанавливает ту многослойность и сложность Ленинградской блокады, которую игнорирует современный российский дискурс Великой Отечественной войны. Однако мне представляется важным вначале прояснить, что произошло с нашим первоначальным концептом и что привело к указанному тобой разнообразию авторских подходов.
Фокус нашего сборника нацелен на его объект: для того чтобы закрыть зияющую дыру в исследовании Ленинградской блокады, мы сосредоточились на интермедиальном измерении блокадного письма, то есть на формах и функциях репрезентации блокады в различных медиа (в художественной и фактографической литературе, кино, радио, устном пересказе и т. д.)1. Блокада с самого начала породила настоящий поток репрезентаций, очевидная функция которых заключалась в вербализации пережитого и тем самым переводе его в категорию опыта; в желании придать смысл внезапному началу войны и блокады; в стремлении сделать непредставимое и неописуемое представленным и описанным. В этом плане тот парадокс между провозглашаемой неописуемостью пережитого и необходимостью изобразить блокаду, на который ты, Полина, указываешь, на самом деле никакой не парадокс, напротив, он – необходимое условие для появления письма, ищущего решения для проблемы изображаемости как таковой.
Важно подчеркнуть, что блокадное письмо было не более чем общим предметом исследования; методологический подход к блокадному письму, как мы его замышляли, должен был обладать своей спецификой, а именно быть исследованием нарративного измерения блокадной репрезентации. И именно здесь проявились те методологические расхождения, которые привели к неожиданному для меня результату. Я не уверен, что наши авторы, включая и нас, подразумевают под «нарративностью» блокады одно и то же. Понятие нарратива лично я использую не в качестве синонима «текста» (как в литературоведческом, так и в семиотическом смысле)2 или «дискурса» (в смысле Мишеля Фуко), а в более общем нарратологическом смысле. В этом я опирался на устоявшуюся и продолжающую разрабатываться традицию, рассматривающую нарративность как феномен, свойственный не только литературным текстам. Самое позднее с появлением семиологии Ролана Барта или метаистории Хайдена Уайта стало ясно, что люди являются в первую очередь производителями историй: наша картина мира состоит по большей части из рассказов о нем, и культуры определяют себя через нарративы – взять, к примеру, истории о начале времен3.
Какова познавательная мощность нарративов? Они способны придавать фактам осмысленность посредством определенных операций: установлением начального и конечного моментов, выбором событий и их линеарной организацией в определенном порядке, сополаганием персонажей, моделированием пространства и т. д. Нарративы – это структуры порядка, побеждающие контингентность и вводящие причинно-следственную связь в хаос чистой событийности. Они представляют собой исключительно гибкие конструкты, легко совмещающие истинное и придуманное, факт и фикцию; их сила – в способности придавать рассказу логичность и правдоподобие лишь посредством его цельности. Такие рассказы рождаются всегда в коллективном коммуникативном контексте и стоят друг с другом в определенной связи: рассказы рождают другие рассказы. Часто это просто вариации одной модели, одного masterplot: как подчеркивал Х. Портер Эббот, такой masterplot «может повторяться от рассказа к рассказу» и тем не менее «обладать сильным риторическим воздействием. Мы склонны доверять нарративам, структурированным именно так»4.
Важно подчеркнуть, что нашей целью не было разработать единственный masterplot, своеобразный «нарративный архетип» блокады, составленный из различных текстов и медиа разных эпох: ведь даже постоянно меняющийся советский блокадный дискурс не отличается единством стратегий репрезентации. Тем не менее сама блокада как историческое событие подчинена законам времени, моделируемым в текстах и медиа нарративно. Это не просто формальный момент, а, по моему убеждению, главное условие любой концептуализации блокады. Поэтому столь важно установить, с помощью каких нарративных стратегий вербализуется блокадный опыт; можно ли вычленить за текстами и медиа различной природы некие структурные константы – например, на уровне моделирования пространства и времени; какие модели нарративной аутентичности работают в исследуемых произведениях и в каком отношении находятся друг к другу миметическое и антимиметическое, фактографическое и фикциональное.
Интересно, что лишь некоторые наши авторы воспользовались таким методологическим предложением, в то время как другие искали подходы к теме блокадного письма, руководствуясь совершенно иными теоретическими предпосылками. Результат – отмеченное многообразие взглядов, причины которого коренятся, по-моему, не только в гетерогенности исследуемого материала. Как можно было бы, на твой взгляд, систематизировать эту панораму методологических подходов в нашем сборнике? Как наши авторы понимают нарративность блокады? И какие новые, неожиданные импульсы они смогли придать этой теме?
Полина Барскова
Начну с последнего вопроса: о том, что на конференции и в сборнике было для меня предсказуемым, а что – неожиданным. В связи с ощущением, что мы стоим в начале долгого, трудного пути по осмыслению блокадной текстологии, я не рассчитывала, что нашим участникам будет так просто найти общий теоретический знаменатель, включиться в него, тем более что спектр направлений блокадного письма настолько велик и сложен, что зарегистрировать, обозначить этот объем – вот что казалось мне наиболее важным отправным шагом.
Ближе всего к твоему методологическому запросу, как мне кажется, подошли те исследователи, которые писали о блокаде с точки зрения соцреализма, Евгений Добренко и Татьяна Воронина, что неудивительно, поскольку соцреализм, по крайней мере если верить тому, как эту систему описывает Катерина Кларк, – это именно ригидная система masterplots, где допускается лишь слабая вариативность5.
Из этих исследований мы узнаем, как блокадное соцреалистическое письмо относится к порождающему его Другому – советскому соцреалистическому письму о Второй мировой войне, и здесь для меня было интересным открытием, как слабо отличались эти нарративы, насколько писавшие блокаду с точки зрения соцреализма ориентировались на Большую землю: такие обязательные элементы, как самопожертвование, преодоление страдания, ориентация на менторское, руководящее участие партии, повсеместны; при этом реальные особенности ситуации (например, то, что враг личной персоной в городе был как бы невидим и неощутим, а сражаться приходилось с собственной личностью, разрушаемой голодом и ужасом) фактически стираются ради властвующих нарративных схем.
В области официального письма присутствие masterplots очевидно, и, наверное, наибольшим открытием для меня стала возможность сравнения советского и немецкого официального письма о блокаде, а вернее, письма о блокаде в прессе оккупированных территорий, о котором мы узнали из исследования Бориса Равдина. Я пришла в крайнее изумление, возможно простодушное, узнав, что советская и русско-нацистская пропаганда использовали иногда буквально одни и те же тексты (перепечатывались материалы из центральной советской печати). При перепечатке позаимствованные у вражеской пропаганды тексты становились частью противоположных, но равно ригидных статичных нарративов: в советском случае нарратива о героическом преодолении, в немецком – о бесчеловечном отношении большевиков к собственному гражданскому населению. Когда речь идет о пропаганде, об официальном письме, создается впечатление, что ты имеешь дело с «конструктором», где небольшой набор идеологически и даже эстетически выверенных элементов может слегка переставляться, но сумма, то есть послание, от этого не меняется.
Однако ситуация представляется мне иной, когда речь идет о текстах, не предназначенных для публикации. В принципе, здесь для меня пролегает водораздел между обсуждаемыми текстами: тексты о блокаде, не направленные на советскую аудиторию, как будто создаются по совсем иным законам, и друг от друга они тоже отличаются очень значительно. Из всего корпуса конференционных докладов, ставших статьями, выделяются исследования, посвященные блокадным дневникам: здесь также имеет смысл размышлять о наличии masterplot, и, мне кажется, одним из важных следующих шагов в нашем сотрудничестве было бы создание форума, где будет происходить «внимательное чтение» только и именно дневников, с прицелом, в частности, на выявление общих мест, «строительных блоков» этих нарративов.
Однако в разговоре о дневниках, произошедшем на конференции, меня поразило скорее выявление их разительных отличий, в частности дисциплинарных. Это мне показалось интересным. Дело не только в том, что дневники анализировали представители разных дисциплин (среди нас были представители филологии, истории и историографии, антропологии, социологии), но и в том, что авторы блокадных дневников искали, с точки зрения какой дисциплины их блокадный опыт может быть описан наиболее полно, наиболее точно и, возможно, с наибольшей степенью остранения.
Наиболее пристальными взглядами на эту проблему мне представляются исследования Ирины Паперно и Эмили Ван Баскирк: они вглядываются в два блокадных дневника, выдающиеся по своей проницательности и оригинальности взгляда, – дневник Ольги Фрейденберг и дневник Лидии Гинзбург. Оба автора – профессиональные филологи, при этом Фрейденберг пытается читать, осваивать блокаду как этнограф, а Гинзбург как психолог. Они вступают в диалог, я бы даже сказала в поединок, со своим представлением об этих научных системах, делают это, возможно, не всегда последовательно, но результаты их блокадных дневниковых исследований поражают не в последнюю очередь необычностью взгляда, свежестью вопросополагания. Ирина Паперно так описывает особую «трудность» блокадного дневника Фрейденберг:
Делая живую жизнь, исполненную страдания, объектом этнографического исследования, она не останавливается перед описанием отвратительного ни в сфере физиологии, ни в широкой области человеческого поведения в экстремальных условиях. Она преступает при этом не только общепринятые правила приличия и благопристойности, но, как можно предположить, и внутренние психологические преграды, которые останавливали других блокадников даже в радикальных дневниках от описания как экскрементов, так и амбивалентных чувств по отношению к ближнему, а это требует не только профессиональной квалификации, но и особого темперамента и большого мужества.
Мне бы также хотелось поговорить с тобой о жанровых особенностях блокадной репрезентации и возможностях изучения блокадной культуры с точки зрения жанра: очевидно, что жанровое разнообразие здесь огромно, даже если говорить только о текстах, о письме, о литературе (где есть все – от частушки до эпопеи, от подписи к открытке до водевиля), а ведь блокада нашла отражение по всему медиальному спектру: в искусстве, музыке, кино. Как тебе кажется, по результатам конференции и сборника, имеет ли аналитический смысл «читать» вместе блокадную текстологию и блокадное, скажем, кино? Или так: мне был крайне интересен доклад Владимира Пянкевича о блокадной сплетне: как обогащает разговор о блокадной текстологии обращение к «примыкающим» жанрам?
Риккардо Николози
Чтобы ответить на твой вопрос о гетерогенности жанров блокадного письма, я хотел бы вернуться к методологической проблеме нарративности блокады. Я не думаю, что этот нарратив находит свое выражение лишь через masterplots и что возможно выделить несколько основных нарративных моделей, лежащих в основе различных текстов или жанров. Напротив, нарративные структуры блокадных текстов необычайно разнообразны прежде всего в силу того, что в создании блокадного дискурса, пребывающего в состоянии постоянного изменения, участвуют многие жанры и медиа, и этот процесс пермутации связан с изменениями идеологических и культурных дискурсов советского времени.
Мне представляется гораздо более важным понять, в какой степени новый взгляд на блокадные тексты может быть обусловлен исследованием не столько тем, мотивов, идеологий и «атмосферы», сколько форм и функций повествования. Многие статьи в нашем сборнике, эксплицитно или имплицитно, показывают, что дело обстоит именно так, хотя представления наших авторов о нарративности и их понятийная база различаются и зависят в первую очередь от традиций тех дисциплин, к которым они принадлежат. Мне кажется, что к столь разным результатам приводят различия именно в методологии, а не в жанрах изучаемого материала. Это видно на примере статей Евгения Добренко и Татьяны Ворониной, исследующих блокадную литературу соцреализма, но руководствующихся в своих подходах совершенно разными принципами – что приводит, разумеется, и к различным результатам. Воронина ориентируется на модель соцреалистического masterplot Катерины Кларк и констатирует в повествовательных структурах блокадной литературы исключительную когерентность и единообразие форм. Ее взгляд направлен на определенные функции текстов (положительный герой, его инициация и т. д.), повторяющиеся от раза к разу. С этой точки зрения возникает ощущение, что авторы соцреализма пишут один и тот же блокадный текст, присутствующий в советской культурной памяти неизменным и выполняющий одни и те же функции. Добренко же опирается на другие методологические предпосылки и вскрывает структурные и тематические различия блокадных повествовательных моделей военного времени в их отношении к «большому рассказу» о войне – или, точнее, о победе. Нарративные элементы в его статье представляют собой не инструменты гипостазирования неизменных базовых категорий, а динамические функции текстов, благодаря чему авторы могут по-разному решать проблемы в изображении блокадного быта.
Интересный и опять-таки совершенно другой подход мы встречаем в статье Джеффри К. Хасса. Он исследует архивные документы, не предназначавшиеся для публикации (в том числе дневники), и их функцию как медиаистолкования и смыслополагания того страдания, которое авторы пережили во время блокады. Хасс выступает как антрополог и показывает, что эта форма секулярной теодицеи глубоко структурирована нарративом, однако не в узком литературоведческом смысле. Так, центральными нарративными элементами этой теодицеи для Хасса являются поиск причинно-следственных связей, формы выражения агентности, а также идея сообщества. С литературоведческой точки зрения наличие причинно-следственных связей – необходимое условие для любой формы повествования либо же попросту для любого вида аргументации, но не элемент нарративной структуры, как и сообщество и его поиск – в первую очередь мотив, но не основа нарратива. Перспектива Хасса позволяет выявить «нарративы страдания», в центре которых находятся различные процессы, протекающие внутри общества. Владимир Пянкевич в статье о блокадной сплетне и Борис Равдин в уже упомянутом тобой тексте о русскоязычной пропаганде немцев на оккупированной территории, в принципе, обходятся без какой бы то ни было концептуализации нарративности и исследуют тематические и мотивные элементы блокады (сами по себе исключительно интересные).
Я не вполне согласен с тобой еще в одном аспекте блокадного письма, а именно в строгом различении между официальной и неофициальной литературой. Ты пишешь, что «тексты о блокаде, не направленные на советскую аудиторию, на немедленную публикацию, как будто создаются по совсем иным законам, и друг от друга они тоже отличаются очень значительно». Я вижу скорее переходные феномены между официальным и неофициальным дискурсами, поскольку последний утверждает себя через неприятие официального письма или противопоставление себя ему. Лилия Гинзбург в «Записках блокадного человека» отмечает, что во время блокады «настоящая бабушка разговаривает точно как бабушка из очерков и рассказов», и делает вывод, что между народной речью и языком газет нет никакой разницы6. Сила официального, стереотипного повествования о блокаде – феномен, который можно наблюдать с самого начала. Даже аналитическая острота блокадных текстов Ольги Фрейденберг и Лидии Гинзбург имеет своим источником официальный нарратив: мотивация для вербализации блокадного опыта объясняется не только необходимостью назвать невыразимое и изобразить произошедшее, дабы понять его, но и стремлением предложить альтернативу «упрощенному» официальному дискурсу, чтобы расширить границы высказываемого. В своей интерпретации «Записок блокадного человека» я стремился указать именно на этот аспект. Экстремальный физический и психический блокадный опыт словно бы понуждает Фрейденберг и Гинзбург к письму и приводит, с одной стороны, к беспощадной интроспекции, а с другой – к тем антропологическим наблюдениям, на которые указали в своих статьях Ирина Паперно и Эмили Ван Баскирк. В этих текстах я вижу еще один пример того, как отличия методологических предпосылок приводят к иному типу чтения. Ван Баскирк исследует структурные элементы «Рассказа о жалости и о жестокости» Гинзбург, убедительно разделяя нарративные и аргументационные стратегии (ведь не всё в повествовательном тексте является нарративной структурой!). Паперно, в свою очередь, сосредотачивает внимание на техниках письма в блокадных записках Фрейденберг, осциллирующих между «автоэтнографией» и мифопоэтикой, не стремясь при этом свести их к одному общему нарративу. Различие подходов можно объяснить глубокими различиями исследуемых текстов и их авторов; однако, с другой стороны, при различных методологических подходах сложно решить, что было раньше: текстуальное яйцо или методологическая курица.
Гетерогенность блокады, о которой свидетельствует наш сборник, может зависеть также и от фокусировки взгляда – на определенных текстах одного конкретного автора и особенностях его нарратива или на сопоставлении различных текстов и жанров. Во втором случае на первый план выступают общие элементы блокадной репрезентации; в первом, как во многих уже отмечавшихся текстах, а также в статьях Кэтрин Ходжсон об Ольге Берггольц и Ильи Кукуя о Павле Зальцмане, мы погружаемся в блокадные миры художников, функционирующие каждый по своим собственным законам.
На твой последний вопрос о возможности распространить исследование блокадных текстов на другие медиа отвечает, как мне кажется, статья Наталии Арлаускайте. Ее анализ режимов визуальности при использовании документальных съемок в советском игровом кино о блокаде вплоть до 1960-х годов показывает на конкретных примерах, насколько большую роль в репрезентации блокады играет слияние фактуальности и фикциональности и как этот процесс можно описать на уровне приемов.
Некоторую неуверенность вызывает у меня роль поэзии в художественном дискурсе блокады, поскольку поэзия – за исключением баллады – организована, как правило, не нарративно и следует другим изобразительным законам, чем повествовательные тексты. С другой стороны, эта структурная особенность поэзии открывает возможность иного моделирования блокады, выделения других аспектов. Ведь именно об этом свидетельствует твоя статья о лирической интимности блокадной поэзии, как и текст Андрея Муждабы о блокадных стихотворениях Геннадия Гора, не так ли? Как бы ты могла описать отношения, в которые вступают эти статьи с другими материалами сборника? Кроме того, не стоило ли затронуть феномены интермедиальности, поскольку именно синкретичность медиа является одним из наиболее примечательных свойств советской культуры? Какую роль в блокадном нарративе играли другие виды искусств и другие медиа – живопись, плакат, радио и телевидение?
Полина Барскова
Вопрос о блокадной поэзии представляется мне крайне важным и увлекательным: глядя именно на эту специфическую форму высказывания, мы можем представить себе, насколько богатым, противоречивым, полным сложных внутренних связей был мир блокадной литературы. Область блокадной поэзии представляется мне своего рода призмой: глядя на эти преломления исторических событий в желании найти для них адекватную лирическую репрезентацию, можно многое узнать о том, какими возможностями обладали блокадописатели, что они могли, хотели, умели. Взгляд через призму поэзии позволяет нам мощнее, яснее формулировать некоторые важные вопросы: например, до какой степени блокадная литература исключительна, поскольку описывает исключительное событие, а до какой органически связана с эпохой, которую мы называем советские «долгие сороковые», например, как блокадная поэзия связана с общим развитием советской лирики в 1930-х и 1940-х годах? Даже если мы посмотрим на, казалось бы, исключительный случай «блокадной тетради» Геннадия Гора: вот, как неоднократно было высказано исследователями, поэзия только и именно блокадная, порожденная катастрофой и ни к чему, кроме катастрофы, не применимая, избегающая любой внеблокадной публикации, поскольку автор, вероятно, сомневался, может ли у такой поэзии вообще быть читатель вне блокады.
Именно поэтому мне кажется такой важной статья Андрея Муждабы о том, что «блокадная тетрадь» Гора не является чудовищной и блестящей аберрацией, что эти стихи органически связаны с его творчеством и до, и после блокады; мне кажется очень важным рассматривать блокадную литературу как порождение разнообразных контекстов и традиций, а не как дискурсивную зону исключения.
Случаю «невидимой» блокадной поэзии Гора в сборнике (а именно в моей статье) противостоит случай блокадной поэзии Берггольц, которая, казалось бы, была максимально и, я бы даже сказала, идеально публичной, «публикабельной» и официальной; по крайней мере, такая нацеленность на публикацию была первейшей заботой автора. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что поэзия Берггольц, по всем параметрам, казалось бы, пропагандистская, очень сложна, и это ставит перед нами парадоксальный вопрос: может ли быть конструктивно сложным пропагандистское высказывание? Берггольц создает уникально гибкого, «подвижного» адресата лирического обращения, и так же изобретательна ее работа с темпоральностью: ее версия истории полна неожиданных потайных дверей с надписью «выход» (что, вероятно, связано с травмой тюремного заключения, продублированной блокадной изоляцией); письмо Берггольц находится как бы одновременно в разных временах – эта изобретательность скорее подтверждает твою идею, Риккардо, о том, что между публикабельным и непубликабельным блокадным письмом существовали сложные связи, да хотя бы и в письме одного автора, поскольку теперь, когда до нас дошел блокадный дневник Берггольц, мы можем задумываться над тем, как один автор разграничивал, разделял блокадное письмо в стол и блокадное письмо для немедленной публикации.
Илья Кукуй в статье о блокадных дневниках Павла Зальцмана также смотрит на то, как колеблется блокадное письмо в зависимости от формата, заданного автором: почему «в дополнение» к стихам блокадный автор может ощущать необходимость в создании ретроспективного дневника, как лирическое и дневниковое письмо дополняют друг друга, а в чем, возможно, друг другу противоречат. На твой вопрос, как занятие блокадными нарративами связано с интермедиальностью, я отмечу вновь, что это начало значительного разговора: когда мы говорим о блокадном кинематографе (причем и художественном, и документальном) или о таких пропагандистских формах выражения, как плакаты и открытки, когда мы говорим о блокадных музыкальных формах (например, о жанре блокадной песни), то встает вопрос о том, как блокадный нарратив сочетается с иными формами репрезентации. Этих вопросов еще очень много.
* * *
В завершение нужно сказать об участии в нашей мюнхенской конференции Сергея Ярова, исследователя, чей вклад в науку о блокадных нарративах кажется нам особым не только из за объема «освоенных» им блокадных дневников, но из-за того, какого рода вопросы он решался затрагивать в своих исследованиях. Сергея Ярова не стало вскоре после нашей конференции, именно тогда, когда его книги о блокаде в самом деле стали находить внимательного читателя: две его монографии «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» и «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде 1941–1942 годов» стали значительными общественными событиями и вызвали широкий резонанс. В этих монографиях блокадный город представлен как особая цивилизация, живущая и выживающая по собственным законам. Яров не только стремился писать о блокаде без ретуши, погружаясь в ее самые тяжкие эпизоды, но также стремился предъявлять к изучаемым им материалам новые вопросы и методы, открывая таким образом новые пути читателям, пришедшим к блокаде после него.
У Сергея Ярова не было возможности предоставить статью для этого сборника. Он уже не успел этого сделать. Мы публикуем библиографию его научных работ и посвящаем наш сборник его светлой памяти.
Мюнхен / Амхерст, декабрь 2016 г.