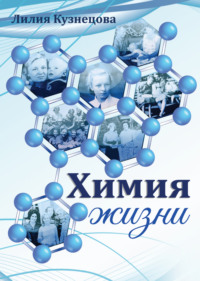Kitobni o'qish: «Химия жизни»
© Лилия Кузнецова, 2024
© Интернациональный Союз писателей, 2024
Об авторе

Лилия Михайловна Кузнецова – потомственный педагог, дочь сельских учителей. Окончила Московский государственный университет. Педагогическую деятельность начала в Крыму в школе в качестве учителя химии и биологии. Затем продолжила преподавать химию в высшей школе, сначала в филиале Алма-Атинского политехнического института в городе Рудном, затем в Казанском химико-технологическом институте. Работая с первокурсниками, обнаружила, что студенты не понимают сущности химических процессов и показывают в основном формальные знания. Установила недостатки преподавания химии в школе, организовала его научно-методическое исследование. Министерство просвещения Татарстана в 1980 году выделило школы и коллектив учителей для проведения педагогического эксперимента. В результате была создана новая технология преподавания химии в школе на основе системно-деятельностного подхода. Впоследствии были созданы учебники для 8-11-х классов, выпущенные в издательстве «Мнемозина». Много лет они входили в федеральный список учебников.
В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию под руководством членкора АПН СССР Л. А. Цветкова.
Автор монографии «Философские и психологические основы дидактики».
Глава 1. Моё военное детство
Младенчество
Трудно сказать, с какого возраста я себя помню. Во всяком случае, у меня в сознании остался день, когда мы отправлялись в эвакуацию, – 24 августа 1941 года. Накануне мне исполнилось четыре года.

Прасковья Максимовна и Григорий Фёдорович Бойко с племянницей Василисой (старшая) и приёмной дочерью Леной (младшая)
Но я помню и мирное время. Я жила у бабушки Василисы и дедушки Кузьмы Неезжалых, потому что мои родители учились в Нежинском пединституте, и я их видела редко. В доме жил Стасик – младший сын дедушки и бабушки, он же мой дядя, 1926 года рождения, то есть на одиннадцать лет старше меня. Он учился в школе. Мы с ним были одного статуса – дети.
Дом и надел земли Василиса получила от родных. Она жила не с матерью Евдокией и отцом Семёном Чикомазами, а с тёткой по матери, Прасковьей Максимовной, которая вышла замуж в Бахмач за волостного писаря Бойко Григория Фёдоровича.
Из свидетельства о рождении бабушки Василисы я узнала, что Семён не имел отчества. Видимо, его мама Мария родила сына вне брака. Вряд ли она была богачкой. Ничего о ней больше я не знаю, но очень сочувствую ей. Бабушка Василиса рассказывала, что у неё было уличное прозвище Мария-русочка. Может быть, она приехала из России и осела на Украине в Конотопском районе, селе Бондари. Там бабушка Василиса и родилась в 1891 году.
Поскольку супруги Бойко были бездетными, они выпросили для воспитания племянницу Василису. Родители моей бабушки Василисы – Семён и Евдокия Максимовна – были очень бедные, с трудом могли растить двух девочек, поэтому они и согласились отдать одну из дочерей благополучно живущей сестре. Так Василиса оказалась в Бахмаче. Семья Бойко была дружной и доброжелательной.
Позднее на крыльце волости Григорий Фёдорович нашёл подкидыша. Это оказалась девочка, которую назвали Леной. Он взял её к себе. Потом они удочерили ещё одну девочку – Лиду, а потом Надю. Так в семье оказалось четверо детей.
Василиса всю жизнь относилась к Лене и её потомкам как к родным. Поэтому внучку Лены Ярославу мы с Аллочкой всегда считали троюродной сестрой.
Брат Григория Фёдоровича был управляющим поместьем Кочубея, куда мою бабушку, а тогда девочку Василису отправляли на отдых. Она рассказывала, как ездила в поместье, как купалась в Сейме.
Григория Фёдоровича все очень почитали. Это был по-настоящему благородный человек. Девочки росли в достатке. Лена и Лида стали учительницами. Василиса от учёбы отлынивала, окончила только начальную церковноприходскую школу, что не помешало ей быть весьма начитанной и развитой.
Дружила она с Фионой Неезжалой, жившей неподалёку. По-моему, они были одногодками. У Фионы был старший брат Кузьма. Он учился в той же школе, но был старше Василисы, родился в 1883 году.
В него-то и влюбилась Василиса. Чернявый, брови вразлёт, умный, решительный – полюбился молодой девушке, хотя от недостатка женихов она не страдала. Один из её обожателей был инженером, которого направляли работать в Челябинск. Он звал её с собой, и Григорий Фёдорович рекомендовал, но строптивая Василиса не согласилась.
Василиса была очень обаятельной девушкой. В семье, где царит добро и уважение друг к другу, и дети растут такими же. Василиса и в старости обладала неизъяснимым обаянием, её все уважали. Вот и Кузьма полюбил Василису, и выдали её замуж за Кузьму. В приданое Григорий Фёдорович купил ей надел земли (не знаю, сколько, полагаю, соток сорок) и построил молодой семье дом.
Кузьма был из простой крестьянской семьи. О его родителях Луке и его жене Секлете Неезжалых знаю мало. Но сужу, что Лука не менее благороден по духу, чем Григорий Фёдорович. Он дал образование детям. Кузьма стал бухгалтером, Катерина – учительницей, а старший, Григорий, был первым секретарём райкома уже при Советах. Но на него поступил донос, видимо в 1937 году. Об этом ему сообщил друг – начальник районного НКВД. Чем в ту пору заканчивались доносы, известно. Григорий не хотел такой участи – пыток, заключения, смертной казни. Решил уйти из жизни самостоятельно. Они с женой ушли в лес, и он застрелил жену и себя.
Остались двое или трое деток. Их всех вырастил дед Лука. Василиса очень привечала своего племянника Василя – сына Григория. Он приезжал к нам в гости уже после войны.
Моя мамуся рассказывала ещё об одной родственнице – Виктории, которую она случайно встретила в Мариуполе. Та жила в доме на Комсомольском проспекте, там же, где и мама с папой, и Аллочка. Но я всего не запомнила из рассказа. Я поняла, что Виктория – это дочь Григория, то есть двоюродная сестра мамуси. Эта встреча состоялась незадолго до мамусиной смерти.

Кузьма и Василиса Неезжалые
Итак, Кузьма и Василиса обосновались в новом доме.
И пошли у них детки. В 1910 году родился первенец Александр, в 1912-м – Анатолий, потом были два Владимира, которые умерли в младенчестве: один от воспаления лёгких, другой от оспы. Бабушка Василиса с сожалением вспоминала, что не дала сделать младенцу прививку. В 1916 году появилась Анюта, моя мамуся, а через десять лет, в 1926 году – Стасик.
Наверное, я тоже родилась в этом доме. Не в студенческом же общежитии меня мама рожала.
Отец – Антон Иванович Нижний из Винницкой области, села Городище. Он учился заочно в Нежинском пединституте, там и увидел Анюту, нашу мамусю. Она была яркой и бросалась в глаза при всей её скромности. Её заметил руководитель хора, услышав, как она поёт на субботнике, отмывая окна в аудитории. Она стала солисткой хора. Её приглашали на местное радио петь по заявкам трудящихся. А трудящимся сразу полюбился голос Анюты Неезжалой, и они слали заявки именно на её исполнение. Так она подрабатывала в студенчестве.
Антон тоже был музыкальный: играл на разных инструментах и даже сочинял музыку. Видимо, на этой почве они и познакомились. Мамуся не рассказывала о подробностях их знакомства. Только сказала, что когда она уехала домой на каникулы, он приехал за ней следом. Мама Василиса сказала: раз приехал в дом к девушке, то обязан жениться. Так и состоялся их брак. Антон остался жить у тёщи и работать в местной школе, потому что его родители жили далеко. Не помню его подробно, только эпизод, когда он катал меня на велосипеде в предвечерье.
Было тепло, а в воздухе роились мошки и лезли в глаза. В эмоциональной памяти осталось, что отец меня очень любил.
В доме появлялись родственники – сёстры моего отца Надя и Наташа Нижние. Надя рисовала мне девочек в туфельках с застёжкой на пуговке. Помню Нину – жену Александра. Не знаю, почему она оказалась у нас без мужа, ведь он учился в Полтаве. Может, приезжала в гости.
Все жильцы звали бабушку Василису мамой. Вслед за ними я тоже звала её мамой. Так до самой её смерти в 1980 году и называла. Незадолго до смерти она благодарила меня за то, что я никогда не изменила ей и называла мамой до самого конца. Значит, для неё это было важно. Я очень любила её. Кстати, вслед за мной бабушку называла мамой и моя младшая сестричка Аллочка, которая родилась уже после начала войны – 3 июля 1941 года.
Когда мама Анюта приехала из Нежина, встал вопрос, как я её буду звать. Папа Антон предложил называть её мамусей. Так мы с Аллочкой и прозвали на всю её жизнь, так называем и в воспоминаниях.
Очень хорошо помню домик бабушки Василисы и дедушки Кузьмы. Крыльцо, небольшие сени, прямо – чулан, направо – входная дверь. Первая комната с русской печкой. Слева от неё полок. С него можно залезть на печь. Направо буфет, потом окно, у окна стол. Дальше другая комната. Налево вдоль стены, граничащей с печкой, стоит кровать. Напротив кровати между двух окон – комод. На комоде стоят мои любимые куклы Дуся и Алла. А за окном большой куст сирени. Почему-то считалось, что сирень мамусина. Видимо, она её сажала.

Я довоенная
Справа от двери ещё одно окно, перед ним стол. За этим столом в праздники собирались гости и пели песни. Почему-то мне не нравилось, когда пела бабушка. Украинские песни часто с грустинкой и философской подоплёкой (русские буквы «е», «и» по-украински звучат как «э», «ы»):
Стоiть гора високая,
Пonid горою гай.
Зелений гай, густесенъкий,
Неначе cnpaвdi рай!..
…До тебе, люба рiченько,
Ще вернешься весна.
А молодiстъ не вернешься,
Не вернеться вона.
Последние слова меня всегда печалили.
В углу, справа от стола, висел портрет Шевченко: в каракулевой шапке и кожухе, со свисающими усами. Чётко запомнился – видимо, я спала на кроватке напротив портрета, вот он и врезался в память. Шевченко на Украине очень почитали. Мама-бабушка научила меня читать его стихи:
Як бы мет черевики,
То пшла б я на музыки,
Горенько мое,
черевикiв немае.
Бабушка водила меня на праздничный концерт в школу, и там я выступала. Стихи читала, как водится, стоя на табуретке.
И дом, и двор я снова увидела пять десятилетий спустя, когда мне было пятьдесят четыре года. Ничего не изменилось, только теперешние жильцы перестроили крыльцо да срубили мамусину сирень. А сам домик и комнаты в нём оказались крошечными.
Из довоенного периода помню эпизод, который вызывает у меня самой удивление. Приехала из Нежина мамуся, привезла гостинец – мармелад. Такое лакомство я попробовала первый раз. Очень понравилось. Мне дали несколько мармеладок, остальное сложили в фаянсовый чайничек и поставили в верхнюю часть буфета на последнюю полку. Когда все разошлись по делам, а мама пошла пораться (управляться) со скотиной, я раскрыла дверцы буфета и по полкам, как по лесенке, добралась до верха. Взяла чайничек с мармеладом и благополучно спустилась вниз. Как это мне удалось – вызывает удивление. Не представляю, как спускалась, держа в одной руке чайничек со сладкой добычей. Мармелад я весь съела, хотя он предназначался Стасику.
Какая-то фантастика, можно не поверить. Но последующие события подтверждают реальность моей проделки. Пришёл Стасик из школы, пообедал, мама ему предложила угоститься мармеладом и указала, где он стоит. Но я-то не полезла второй раз наверх, чтобы вернуть посудинку на место. Я поставила его на полку нижней части буфета. Понятно, что Стасик наверху чайничка не нашёл. Тогда я указала, где он стоит, но уже пустой. На этом воспоминание обрывается, но уверена, что меня не наказали. Вообще не помню, чтобы меня наказывали.
Со мной обращались с большой любовью. Помню, как я ходила с котом в гости к прадедушке Луке и прабабушке Секлете. Кота я хватала за горло, так и тащила. Почему-то он не сопротивлялся. Мама Василиса отбирала его у меня и показывала, чтобы я сложила ручки и на них бы лежал кот. Я делала, как она велела, но, выйдя за калитку, снова хватала его за горло – так удобней. И за эти проделки мама меня не ругала, а только уговаривала.
Потом пришла война. Самого начала войны я не помню. Помню роддом, мы с папой Антоном стоим под окном, но это уже начало июля. Сверху из окна выглядывает мамуся со свёртком на руках – это была Аллочка. Я хотела, чтобы её назвали Дусей. Эту куклу я любила больше, но родители меня убедили, что лучше назвать дочку Аллой. Теперь Аллочка довольна, что моё предложение не было принято.
Прилетели немецкие самолёты и стали бомбить Бахмач. Бахмач является железнодорожным узлом. Через него проходит Московско-Киевская дорога и дорога на Гомель, в Белоруссию. Немцы такие узлы бомбили в первую очередь. Мы жили в селе Бахмач-1. Это достаточно далеко от железнодорожной станции. Помню, гудят немецкие самолёты: гу-гу-гу, как-то прерывисто. По этому гудению население отмечало, чей самолёт летит: наш или немецкий. Во время этого налёта Стасик был у своего деда Луки. Меня послали за ним. Я бегу через огород, добежала до дома деда, а он стоит в дверях клуни1 и крестится, как в грозу, когда гром гремит. Таким я его и запомнила.
Все смотрят на небо, и я тоже. Вижу самолёт, и из него что-то падает. Говорю Стасику: «Сливы летят». За сливы я приняла бомбы. В память эта картина врезалась намертво.
Когда Аллочку забрали из роддома, то все были озабочены тем, чтобы она не испугалась гула самолётов и взрывов бомб. Эта озабоченность передалась и мне. Так и осталась в душе на всю жизнь. Всегда о ней беспокоюсь.
Во время налётов все прятались в убежище, которое наскоро соорудили, вырыв землянку, в которую набиралось множество народа – так мне казалось. Этой тесноты я боялась, поэтому зарывалась лицом в мамины колени. И когда раз или два уже во взрослом состоянии застревала в лифте и метро, эти страхи проснулись в виде клаустрофобии. Такое моё личное эхо войны.
Эвакуация
Не знаю, кто принял решение эвакуироваться. У большинства не было такого намерения. Сужу об этом по тому, что после возвращения по окончании войны мы застали всех соседей в добром здравии.
Видимо, решение принял дед Кузьма. Он был инициативный, деятельный и достаточно образованный для того времени, служил на железнодорожной станции бухгалтером, как тогда говорили – счетоводом. Видимо, ему было известно о положении дел больше, чем кому бы то ни было. Во всяком случае, восемь семей решились уезжать.
Дедушка понимал, что нашему семейству придётся лихо, если фашисты достигнут Бахмача. Средний сын Василисы и Кузьмы Анатолий служил начальником пограничной заставы. Он погиб в первые дни войны. А нам бы досталось от немцев, если бы мы остались на оккупированной территории. Так что нужно было уезжать подальше.
Бомбёжка железнодорожного узла не позволяла эвакуироваться на поезде. Дед Кузьма с другими главами семейств договорились о гужевом транспорте в колхозе. Это были кибитки, запряжённые лошадьми. Обоз выезжал из Бахмача двадцать четвёртого августа. Помню тот солнечный день: много народа, рассаживаемся по кибиткам, трогаемся. Сзади остаётся папа Антон, машет рукой. И я огорчаюсь, что он не едет с нами. Но мамуся объясняет, что папа должен остаться, он уходит на войну.
Сборы в дорогу сопровождались сильным беспокойством. Никто не знал, надолго ли уезжаем, далеко ли. Поэтому решали, что взять с собой, а без чего обойдёмся. Вещей оказалось на три чемодана. Дело к осени, значит, нужно подумать о холодах. Взрослых четверо: Кузьма, Василиса, мамуся и Стасик, двое крошек. Аллочке ещё нет двух месяцев. С нами была ещё тётя Граня – жена дяди Анатолия, начальника заставы. Это ещё одна трагедия в нашей семье.

Начальник Новоград-Волынской пограничной застаем Анатолий Кузьмич Неезжалый
Дядю Толю в район Новоград-Волынска перевели перед самой войной. До этого он служил начальником заставы на иранской границе в Средней Азии, воевал с басмачами. При переезде семья дяди Толи отправила вещи контейнером во Львов. В субботу двадцать первого июня тётя Граня поехала во Львов получать контейнер. Было лето, на ней было чёрное платьице и чёрные туфельки, при себе дамская сумочка. Так я её запомнила, когда она приехала к нам в Бахмач. Так и застала её война на перроне чужого города. Назад на заставу вернуться уже было невозможно. А на заставе остались муж и шестилетняя дочь Лида (почему-то её называли Лилей, как и меня). Сердце разрывается, когда представляю, что испытала тётя Граня. У неё оставался только один вариант – приехать к нам в Бахмач. Не помню, когда она отправилась к себе на родину, в Среднюю Азию. Ей предстояло ещё разыскать дочь.
На шестой заставе Новоград-Волынского направления шли жесточайшие бои, не менее жестокие, чем в Брестской крепости. Фашисты переправили по мосту через Западный Буг бронепоезд с дивизией. Пришлось сражаться с противником, в десять раз превосходящим состав погранзаставы, да ещё более вооружённым, чем пограничники. Тем не менее они ожесточённо сопротивлялись и сразу положили множество немцев. Сражались целый день, пока от вражеских снарядов не стали взрываться блокгаузы с запасом гранат и другого вооружения. При этом дядя Толя был ранен в голову, но продолжал командовать. Он был очень мужественный. Мужество было у него в генах: и дед Кузьма, и бабушка Василиса были бесстрашные и решительные. Его пример поддерживал пограничников. Через некоторое время он получил ранение в спину и руку. Истекающего кровью, бойцы перенесли в подземный переход своего командира. Он лежал на шинели (со слов Лили) и продолжал отдавать распоряжения бойцам. К ночи он умер.
Со слов взрослых и Лили я знаю, что солдаты погранзаставы по команде своего израненного начальника вынуждены были спуститься в подземные переходы. Но вскоре немцы стали запускать в подземелье отравляющий газ, и начальник, ещё живой, отдал команду выходить наверх. Он, умирающий, видимо, понимал, что сдача в плен хоть кому-то сохранит жизнь, в том числе и маленькой дочке. Лиля была не одна, с ней была домработница Шура.
В живых оставалось семеро бойцов. Все они попали в немецкий лагерь. Видимо, в начале войны немцы не сильно охраняли лагеря, и пограничникам удалось бежать. Одного из убежавших пограничников убили украинские оуновцы.
А гражданских немцы отпускали. Шура с Лилей вышли из лагеря и оказались на незанятой территории.
Тётя Граня рассказывала, что Шура сообщила ей, где они находятся (уже не на оккупированной территории), и там она нашла свою дочь. Из пограничников к концу войны осталось в живых четверо.
Всё это я пишу по воспоминаниям Грани и Лили, а также по многим газетным и журнальным статьям.
Теперь тётя Граня уходила с нами.
Чемоданы поставили в заднюю часть кибитки. Нас с Аллочкой поместили перед ними. Править лошадьми должна была Василиса. Остальные шли пешком.
Где-то уже в России наша кибитка перевернулась. Чемоданы накрыли нас с Аллочкой. Я выползла сама, а Аллочку достали. Но она, видимо, оказалась в нише между чемоданами и даже не проснулась. Она, к счастью, была на редкость спокойным ребёнком. То, что это было в России, я сужу по речи людей, которые кинулись на помощь. Одна бабушка сказала мне:
– Лапушка, не ушиблась?
Это слово – «лапушка» – меня поразило, и поэтому запомнился эпизод.
В семье часто повторяли название города Старый Оскол. Это название врезалось в память навсегда. Там нас посадили в товарный поезд. Отчётливо помню два яруса деревянных нар. Остались письменные воспоминания мамуси. Она пишет, что нары смастерили дед Кузьма со Стасиком. Помню печку, установленную в вагоне: уже была осень, становилось холодно. Оказывается, печку раздобыл у железнодорожников опять же наш дед Кузьма. Он был надёжным защитником семьи. К нему тянулись и другие эвакуированные, зная, что он умеет организовать более-менее сносные бытовые условия.
Мы с мамусей поместились на верхних нарах, а нижние заняли еврейские семьи. Мне казалось, что ехали мы долго. Во всяком случае, выгрузились на станции Шумиха Курганской области по снегу. Мамуся вспоминает, что ещё из дома с собой прихватили картошку, другие овощи, крупы. Поезд останавливался чаще всего в поле. Помню, как дед быстро выбегал и тут же разводил костёр, на котором варили картошку. К костру присоединялись и другие семьи.
В дороге болели и нередко умирали от кори дети. Это доходило до сознания со слов взрослых. Я тоже заболела. Помню только момент, когда мамуся стала искать в моей голове вшей. Их, паразитов, расплодилась уйма. Я заплакала от боли, не давая прикоснуться к голове, и пришла в себя. Умница Аллочка лежала рядом со мной и не заразилась. Это было большой удачей для семьи.
А вот у наших друзей – семьи Божко – девочка моего возраста умерла.
На станции Шумиха Курганской области нас выгрузили. Дальше повезли в прицепе грузовика. Это был большой ящик на полозьях. Как я упоминала, уже выпал снег. Ехали долго, останавливались в деревнях. Мама Василиса и другие женщины шли проситься на ночлег. Каждый раз мама удивлялась, как люди с готовностью принимали нас: четверых взрослых и двух детей. Как-то укладывали всех, не высказывая ни малейшего неудовольствия.
В деревне Заманилки Курганской области мы жили у одних людей довольно продолжительное время. Впервые за последние месяцы я попила молока. Потом мы поехали в Кислянку Усть-Уйского района Курганской области. Туда направили мамусю завучем в школу. С нами поехала мама Василиса и Стасик. Для деда Кузьмы в Кислянке работы не нашлось, а в Заманилках он сразу же устроился. Он просил, чтобы Василиса осталась с ним, но она не могла покинуть дочь с маленькими детьми. Мамусе же нужно было ходить на работу. А с кем оставить детей? Аллочке исполнилось всего полгода.
Так дед и прижился в Заманилках, изредка приезжал в Кислянку. Помню, как Аллочка плакала, видя деда в белом белье, когда он, ложась спать, раздевался. Когда ложился и укрывался одеялом, Аллочка замолкала, как будто предвидела его скорую кончину. В Заманилках он упал с высокого воза с сеном прямо на огромный крюк, предназначенный удерживать дополнительные панели воза. Распорол живот и вскоре умер.
Воспоминания об эвакуации вызвали размышления, волей-неволей приходится сравнить беспорядочный поток беженцев с востока в Европу. В Европу они попадают на утлых плавсредствах, часто тонут в Средиземном море, а затем испытывают массу трудностей в жизни на новом месте.
В СССР всё было по-другому. Был создан эвакуационный совет при правительстве. Поэтому потоки эвакуированных следовали в точно определённые места. Как я упоминала, мы должны были ехать в Казахстан. Обстоятельства изменились, и нас чётко переориентировали в Курганскую область на границу с Казахстаном. Все были трудоустроены и обеспечены жильём. С нами в Кислянке оказались и семья Божко, и еврейские семьи. Когда я пошла в первый класс, я сидела за одной партой с Юлей, еврейкой из эвакуированных. Их поселили на первом этаже единственного в деревне двухэтажного дома. Страну охватил хаос войны, мужское население было оторвано от рабочих мест, промышленность столкнулась с большим дефицитом работников, но спасение детей, женщин, стариков проводилось чётко и упорядочено.