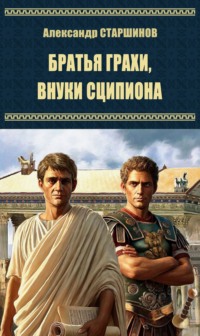Kitobni o'qish: «Братья Гракхи, внуки Сципиона»
Посвящается В.Н., без помощи которого не была бы написана эта книга, как и все другие, связанные с историей Древнего Рима
Пролог
Проскрипционные списки1 Суллы
Декабрь 82 года до н. э.
Ночью мне приснилось, что мой брат жив. В эти зимние дни он все время мне снился. В своих снах я видел жаркое лето, и мы с ним идем купаться в наш пруд – самый большой из трех, обложенный камнем. Брат выглядит таким, каким я его видел в последний раз – двадцатилетним красавцем, загорелым атлетом в белой тунике и легком плаще поверх. Я же во сне был таким как сейчас – шестнадцатилетним пареньком, которого отец так и не успел включить в списки граждан и который должен все еще носить детскую тогу, обшитую пурпурной каймой. Внезапно брат поворачивается ко мне, и я вижу, что он мертв – щека порезана, а левая рука почти что обрублена и грубо пришита. Брат что-то хочет сказать мне, но губы его лишь бессильно дергаются. Наконец я различаю едва слышное:
– Деймос и Фобос тебя спасут…
И я просыпаюсь. Выскакиваю из душной спаленки в дневную комнату с большим окном. Из-за холода ставни закрыты. В этой комнате нет стекол в окне. Хватаю толстый шерстяной плащ и выхожу в перистиль. Кусачий зимний холод заставляет меня ежиться. Небо на востоке быстро светлеет.
Брата Публия нет со мной уже долгие пять лет. Но он снится мне, хотя и не каждую ночь. Возвращаюсь в комнату, открываю ставни. На столе лежат восковые таблички, присланные отцом. Письмо привезли вчера.
«…Ни в коем случае не езди в Рим. Там происходят страшные дела. Вступив в Город, Сулла2 занялся убийствами без суда, как прежде это делал Марий. Безумие и беззаконие царят в Республике. Составлены списки, и в них сотни имен. Людей убивают только за одно имя. Потому что это имя вспомнил Сулла, и оно ему не нравилось. Публия убил Марий. Я не хочу, чтобы тебя убили по приказу Суллы», – написал отец.
Он смертельно рисковал, отправляя письмо – если бы у посланца нашли эти таблички, отец сам бы мог оказаться в списках на бессудную казнь. Но он хотел меня, своего единственного сына, смертельно напугать и тем самым спасти.
Но я не испугался. Почти. Я предпринял ряд действий, которые отец бы явно не одобрил. Я знал, что рискую не только своей жизнью. Но в моей голове Марий и Сулла слились в единое целое. И я хотел, непременно хотел досадить этому двухголовому чудовищу и хоть как-то отомстить за смерть Публия.
* * *
Они каждый день появлялись на дорогах. Путники, бредущие в никуда. Их было не спутать ни с кем – взгляд сразу выдавал беглецов среди пеших и конных. Они пробирались в оглядку – неважно, шагали они пешком или ехали на уставших лошадях. И всегда старались нелепо съежиться, сделаться незаметнее, проскользнуть. Все они ехали или шли поодиночке, без спутников, без рабов, без вьючных мулов и поклажи, без жен и детей, сторонясь встречных и даже друг друга. Старые, молодые, подростки. Их никто не окликал, они ни к кому не подходили. Заметив человека, идущего или едущего навстречу, беглец опускал взгляд или отворачивался – только бы не обратить внимания на себя, только бы не окликнули. И еще они постоянно оглядывались. Страх покрывал их невидимым покровом, как мелкая дорожная пыль, страх чуяли псы и облаивали путников на все голоса. Иногда беглецы делали вид, что их заинтересовал вид роскошной гробницы, что помещалась между двух старых пиний у перекрестка. Они останавливались, читали надписи, и ждали, когда дорога опустеет, прятали лица от встречных под капюшонами дорожных плащей.
Камни дороги лихорадочно блестели на зимнем солнце. Прошлогодняя трава, обожженная ночными заморозками, слегка шелестела, прижимаясь к стволам огромных пиний. Все беглецы шли из Рима.
А поскольку они успели добраться до нашего городка, то получили слабую возможность спастись. Я поджидал их на этой дороге после полудня, хотя отец запретил мне выходить из дома в эти дни и уж тем более о чем-то болтать с незнакомцами. Страх смерти пронизал римский мир и запечатал уста. Но молчальники могли точно также погибнуть, как и те, кто не боялся проклинать убийц. Я стоял, держа под мышкою мешок с хлебом и сыром, и еще – с деревянными флягами, которые по-прежнему умело вытачивал наш старый Икар долгими зимними вечерами в своей мастерской. Отец обожал давать рабам мифологические имена или имена царей. В этом была особая насмешка – награждать бессильных прозвищами всемогущих.
Днем, стоя в тени старой гробницы, заброшенной и уже давно не охраняемой, я высматривал очередного беглеца на дороге. Хотя последние дни выдались теплыми, ночами случались короткие сильные дожди, а беглецам приходилось ночевать под открытым небом. Но даже в теплый зимний день ветер колюч и порывист, а сладостный фавоний начнет веять только в феврале. К тому же старики говорили на кухне, что после ночных заморозков можно на днях ожидать снега.
Этим утром первым появился человек лет сорока, с кротко остриженными темными волосами. Прежде гладко выбритый, теперь он оброс темной щетиной, на нем не было даже дорожного плаща, только тога, перевязанная на военный манер, чтобы удобнее было иди, и как я отметил, тога с широкой пурпурной полосой. Сенатор! Я немного выступил вперед. Беглец остановился, глянул настороженно. Вид мальчишки-подростка его успокоил. К тому же одежда деревенская: шерстяная туника с длинными рукавами, да греческий плащ, – на военного точно не похож.
– Чего тебе? У меня ничего нет. Что было – все отдал.
Я заметил светлый след на его правой руке. Прежде он наверняка носил массивный золотой браслет, который теперь исчез. На левой руке на пальце тоже имелся светлый след – видимо, от кольца. Из дома он бежал, не успев прихватить даже дорожный плащ. А кошелек наверняка отдал за возможность покинуть Город.
– У меня хлеб есть. Кора пекла, – проговорил я торопливо, опасаясь, что он уйдет. – Она вкусный хлеб печет, муку просеивает два раза, никакого крошева от жерновов, о наш хлеб зубы никто не ломает. Кора просила даже, чтобы Икар ей клеймо сделал, как для хлеба в дорогой пекарне. Просто так, не на продажу, для славы, любит она показать себя и перед фамилией, и перед гостями.
– Хлеб…
Кажется, путник в сенаторской тоге уловил запах свежего хлеба из моего мешка. Хотел двинуться дальше, но не смог, соблазн оказался неодолимым. Он подошел, хромая. Дорогие кальцеи – не та обувь, в которой стоит отправляться в многомильный пеший поход. Прежде он путешествовал, как любой богач, в удобной спальной повозке, а сотни рабов везли и тащили всякую утварь, как будто из Города в поместье направлялась праздничная процессия. В армии он наверняка служил военным трибуном и, значит, в дальние переходы отправлялся верхом. Мне нравилось вот так по одежде и повадкам оценивать человека, это было своего рода развлечением скучным зимним днем.
Я вытащил из мешка кусок хлеба и сыр, аккуратно завернутый в льняную салфетку. Путник огляделся, вздохнул, уселся на какой-то гранитный обломок. Когда-то это был базис статуи, сама статуя исчезла, то ли украденная, то ли разбитая, а вот базис из темного гранита уцелел. Путник взял у меня хлеб и сыр, положил себе на колени, наслаждаясь самим предвкушением щедрой трапезы. Я протянул ему флягу с разбавленным водой вином. Когда я его разбавлял, вода была горячей, сейчас сделалась едва теплой. Путник сделал большой глоток и стал есть.
– В Городе все еще убивают? – спросил я, внутренне содрогаясь от возбуждения.
Известия, приходившие из Рима, пахли смертью и кровью.
Сенатор кивнул, продолжая неспешно жевать. Видимо, ему хотелось потянуть время. Я был уверен, что идти ему некуда, как и другим беглецам, он просто бежал, в надежде, что со временем жестокость иссякнет. Но вдогонку беглецам скакали центурионы, настигали и убивали. Да и в провинции сторонники диктатора Суллы составляли свои списки, добавляя туда местных богачей, чтобы иметь возможность разграбить их имения и виллы. Алчность, дотянувшись до топора, крушила людские жизни направо и налево. Каждый город отныне превратился в театр смерти.
– Эй, друзья, а почему нет вывески, что здесь таверна! – раздался оклик, от которого мы оба вздрогнули. – Непорядок! Я едва на полном скаку не промчался мимо.
Я глянул на дорогу. К нам подходил путник в толстом сером плаще с капюшоном, какие носят погонщики мулов. В руках у него был посох, на ногах удобные башмаки, похожие на военные калиги, с толстыми подметками, подбитыми гвоздями.
– На полном скаку? – переспросил человек в тоге с пурпурной полосой. – Что-то я не вижу у тебя коня.
– Пегас – тоже конь! А коли человек имеет склонность к написанию стихов и поэм, то, значит, владеет Пегасом, а значит, конь у меня имеется, – отшутился бродяга. – Что тут у нас? Хлеб? Сыр? Запеченные яйца есть?
Незваный товарищ огляделся, приметил рядом барабан от развалившейся колонны, подкатил и уселся рядом. В серой траве порскнула зеленая ящерица, нашедшая себе убежище под каменным обломком.
– Ну, так чем потчуете? Я бы не отказался от каши с салом, но таверна у вас, смотрю, захудалая, подобных яств не подают.
Я протянул ему кусок хлеба и сыр. Достал из мешка вторую флягу.
– Не, питье не надобно. У путника фляга всегда с собой! – он продемонстрировал мне серебряную флягу, откупорил, глотнул. – Фалерн. Настоящее Опимиево вино того года, когда был убит Гай Гракх.
Я разглядывал наглого сотрапезника с интересом. Он тоже наверняка был из беглецов. Во-первых, шел пешком из Города в одиночестве. И припасов в дорогу у него было чуть. Но на тех, прежних, кого я встречал, он походил мало. Во-первых, к путешествию он обстоятельно подготовился: башмаки его были удобны, в руках – посох, прочный и на вид не тяжелый, под плащом – туника из плотной шерсти, а под нею – еще одна, поплоше, к тому же виднелась котомка с ремнем через плечо, у пояса фляга и нож в кожаных ножнах. Он был далеко не молод, то есть лет ему было где-то за шестьдесят, а то и сильно за шестьдесят, но держался он прямо, голубые глаза его смотрели весело, а жилистые руки явно отличались силой. У него были курчавые волосы, в молодости наверняка черные как смоль, а сейчас почти совсем седые, но кое-где черные пряди еще мелькали в густых завитках, да и брови не поседели, оставались совершенно черными, будто насурьмленные.
– Да что ты стоишь, парень, садись с нами, поешь да попей, глотни фалерна, – стал угощать меня седой моими же припасами. – Как тебя звать-то, парень?
– Марк.
– Послушай, Марк, это конечно неприятно, что теперь в Риме на улице могут сграбастать человека, свериться с папирусом, и если твое имя есть в его веселом списке, взять и отрубить тебе голову на Марсовом поле. А предварительно высечь так, что на спине у тебя останется одно голое мясо. А могут быстренько свернуть шею, а потом уже голову отрубить. Слышал про такое?
– Слышал, – я неохотно кивнул.
– Но мы сами устроили себе такое веселье и некого нам больше винить, кроме как самих себя.
– Сами? – фыркнул человек в сенаторской тоге. – А разве не Сулла составил проскрипционные списки без суда и приговора?
– А разве не наши отцы-сенаторы устроили весь этот спектакль? Грызлись, дрались, убивали. Вот диктатор и решил, когда он захватил Город: составлю-ка я списки, кого надобно мне убить. Кого захочу, того и прикончу. И не будет ни суда, ни защиты, ни юристов, ничего. Зачем такие излишества как суд? Просто список подлежащих казни. А казнить может любой – увидит, узнает, убьет, даже на палачей не нужны расходы. Утешай себя тем, что после смерти не будет уже никакого зла. Как писал Эпихарм: «Мертвым быть ничуть не страшно, умирать куда страшней».
Человек в сенаторской тоге тяжело вздохнул:
– Хотелось бы еще немного пожить и кое-что в жизни сделать. Прежде я изучал юриспруденцию и неплохо выступал в суде…
– Послушай, Сенатор, – перебил его старик, – я не спрашиваю твоего имени, оно мне ни к чему, а ты можешь звать меня просто Философ. А по имени мы будем называть нашего доброго Марка, потому что его вряд ли кто-то занес в проскрипционные списки и у него в отличие от нас есть надежда выжить. Хотя если он будет торчать здесь на виду и потчевать беглецов всякими яствами, то легко могут и занести. Знаешь ли ты, Марк, что помощь проскрибированным карается смертью?
Я молча кивнул.
– Поэтому нам лучше поднять наши тощие зады, – продолжил Философ, – и переместить их в какое-нибудь укромное местечко. Марк наверняка живет в большом поместье, где много-много всяких строений и найдется летняя хижина для уборщиков урожая, которая сейчас пустует.
– Таковая есть, – признался я.
– Вот видишь, нам незачем сидеть у дороги и привлекать внимание центуриона, едущего по своим важным делам. Пускай едет, не будем мешать занятому человеку. А ты отведи нас в эту хижину, да принеси туда парочку одеял, да только чтобы в них не было клопов и блох.
Он распоряжался так, как будто я уже согласился предоставить моим новым знакомцам убежище. Отец строго-настрого запретил мне приводить чужаков на наши земли, но Философ так ловко повернул разговор и сумел заморочить мне голову, что я не смог ему отказать.
– Идемте, провожу вас…
Сенатор вопросительно глянул на меня и, сообразив, что приглашение относится и к нему тоже, вздохнул с облегчением, и поднялся.
Я же почти что уверился, что эти двое проведут остаток дня и ночь в пустующей хижине и наутро уйдут. Я даже подумал дать обет Меркурию, которому всегда давал обеты мой отец, что поставлю ему алтарь, как только достигну возраста двадцати лет.
Глава 1. Философ и Сенатор. День первый
Декабрь 82 года до н. э.
Я повел моих опасных гостей окружной дорогой. Вернее, тропинкой, что тянулась между посадками фруктовых деревьев, лавра и убранными полями. После уборки хлеба мы выгоняли сюда свиней, чтобы они пожирали паданцы груш и слив. Но сейчас свиней, в ожидании снега, загнали в загоны.
Хижина, куда я вел моих беглецов, находилась на дальних землях поместья. Во время пахоты и уборки хлеба здесь ночевали рабы и держали под навесом волов, дабы не тратить попусту драгоценное время страды, когда каждый светлый час особенно дорог. Хижина эта когда-то принадлежала фермеру, чей надел соседствовал с нашим поместьем. Но после войны с Ганнибалом, на которой сгинул один из его сыновей, а второй вернулся калекой, семья разорилась, и мой дед по отцу выкупил и дом, и землю по бросовой цене. Несколько раз он рассказывал эту историю, хвалил себя за то, что дал якобы честную цену, и сетовал, что бездомники, сгрузив свой оставшийся скарб на одну-единственную повозку, отправились в Рим в поисках новой жизни. Дом был так мал и стар, что никому из арендаторов уже не приглянулся, да и арендаторов у нас с каждым годом становилось все меньше. Наш вилик приказал подлатать соломенную крышу, сделать новые деревянные ставенки на окна и новую дверь, да еще расширить навес для волов. А в двух комнатах, из которых состоял старый дом, устроили деревянные топчаны для ночевки. Имелась также небольшая кладовая с нехитрым инструментом. Сохранилась и каменная изгородь с трех сторон, сделанная настолько добротно, что за прошедшие годы она почти не повредилась. Огромный шатер фигового дерева3 служил украшением двора, его разлапистые ветви с узорными листьями летом почти скрывали дом с одной стороны. А осенью листья сгребали на корм волам.
Очаг был устроен на улице – там в летние дни готовился нехитрый обед, потому что тащить похлебку такую даль было несподручно. Мальчишки при кухне приносили рабам только хлеб и баклагу с вином, чтобы немного разбавить воду. Имелся тут и неплохой колодец с чистой родниковой водой сразу за огородом. Ближайшие поля в эту зиму остались под паром. Выросший после уборки пшеницы люпин запахали в землю – как советовал в своей книге «Земледелие» еще Катон Старший. Экземпляр этой книги хранился на вилле, но я никак не мог удосужиться прочесть ее всю и лишь выхватывал кое-какие советы из отмеченных красным рубрик. От этих моих занятий список книги заметно засалился, многие слова было не разобрать.
Отец мой владел пятью поместьями, но любимейшим было маленькое имение на озере Ларий, где отец жил в последние пять лет с молодой женой безвыездно. Это поместье он купил незадолго до гибели моего брата, и туда он вкладывал все наши доходы, как будто в лихорадочном этом обустройстве пытался забыть о постигшем его несчастье. Загородные виллы на берегах водоемов еще только входили в моду среди богачей и требовали изрядных денег. Отец мой был тщеславен, к тому же любил начинания куда больше своих сил, а потому многие дела бросал незаконченными.
Место на озере напоминало Элизий – дом в окружении олеандров, гранатовых деревьев и кипарисов стоял недалеко от берега. Днем дул легкий южный ветер, а ночами – северный, остужая нагретые за день камни. Берега озера, обрамленные узором строгих гор на севере, и небеса, отраженные в воде то цвета бирюзы, то сапфира, вызывали такое наслаждение, что можно было с утра до самого заката любоваться красотами, будто лучшей картиной Апеллеса или статуей самого Праксителя, и занятие это не надоедало. По утрам легкая дымка укутывала горы вдали, и в тишине слышался только плеск волн. Я побывал в этом дивном уголке дважды, но лишь затем, чтобы выслушать массу предостережений и запретов, наказов и поучений.
Поместье, в котором я проводил нынешнюю зиму, предоставленный по сути сам себе, было старым нашим родовым имением. Будто изработавшийся мул, тянуло оно на себе колченогую повозку приходящей в упадок семьи, не давая впасть в бедность. Дом, довольно просторный, с большим атрием4 и удобным таблинием5, находился в пренебрежении и давно требовал ремонта, но вилик жаловался на убытки и леность рабов, дороговизну новой черепицы, а по вечерам на кухне, куда я заглядывал в ожидании, когда обед принесут в малый триклиний6, все разговоры вертелись вокруг ремонта амбара. Ремонт этот длился уже второй год, но никак не мог завершиться. Я подозревал, что вилик утаивает часть доходов, и даже затребовал однажды его таблички, чтобы проверить записи, но так и не понял, жульничает старый вольноотпущенник или нет. Поместье кое-как приносило небольшой доход, но все деньги отец требовал отсылать ему в Ларий, где он обустраивал в новом доме роскошный перистиль, украшенный мраморными статуями.
Если бы жизнь в Республике текла как прежде, то прошлой весной я бы отправился в Рим, чтобы поступить в риторскую школу. Но в нынешние времена находиться в Риме было небезопасно. Пока Марий и Сулла соперничали между собой за право встать во главе армии и вести железные легионы на войну с Митридатом, в столице царил хаос. Мой старший брат, изрядный повеса, красавец, умница, которому в жизни удачи сыпались как из рога изобилия, шесть лет назад обручился с одной из красивейших девушек нашей округи, дочерью богатого соседа Оклация. За ней давали солидное приданое, но, главное, ее красота и приятный нрав могли составить счастье любого, так говорил наш отец, прибывший в старое поместье для устройства свадьбы. Желая поразить красавицу, накануне свадьбы мой брат отправился в Рим, чтобы выбрать ей в подарок самые роскошные драгоценности. При нем была изрядная сумма денег, которую он взял из наследства, оставленного ему матерью. Как раз в эти дни в Рим ворвался Марий во главе своих головорезов. Первым делом его стража отыскивала людей консульского или преторского звания, их тут же вели на казнь, а дома грабили. Но более всего бесчинствовали рабы, которых Марий набрал по дороге, дал им свободу и сделал своей личной стражей. Об этом стало известно много позже, наш раб Ксеркс пересказывал такие подробности, что я никогда не решусь их повторить. Надо полагать, Ксерксу все эти ужасы с большим удовольствием передавали погонщики на базаре в день Нундин7.
Когда мой брат не вернулся из Рима в положенный срок (день свадьбы уже близился), но стали прибывать беглецы, которые рассказывали о происходящем в Городе ужасные вещи, отец спешно отправил на поиски брата двух наших самых преданных вольноотпущенников, дабы выяснить, что же случилось в Городе. Все мы надеялись, что брат мой, совсем молодой человек, не занимавший еще никаких должностей, не мог привлечь внимания Мария. К тому же семья наша не принимала участия в политических склоках, а отец в молодости занимал лишь должность военного трибуна во время битвы при Верцеллах8, правда, в армии консула Лутация Катула, а не Мария. Беда в том, что отец был с Катулом в дружеских отношениях, и мой брат Публий должен был остановиться в доме у консуляра9 во время поездки в Рим. Спустя шесть дней посланные на поиски вольноотпущенники вернулись с телом моего брата. Как выяснилось, Лутаций Катул, товарищ Мария по консульству, получивший вместе с ним триумф за победу над кимврами, был объявлен Марием врагом. Свою смерть несчастный Катул заслужил лишь тем, что посмел сочинить книгу, в которой приписывал себе, а не Марию, славу победы при Верцеллах. Друзья Катула из тех, что были вхожи к Марию, принялись просить за него перед обезумевшим от крови стариком. Но тот заявил совершенно безжалостно: «Он должен умереть». Катулу сообщили роковой ответ. Тогда он приказал насыпать в жаровню не прогоревшие угли с синими опасными огнями, заперся в комнате без окон и задохнулся от смертельного дыма. После самоубийства Катула мой брат спешно собрал вещи и решил бежать, хотя не ведал, найдется ли в Риме хотя бы один дом, где ему откроют двери и помогут укрыться. В те дни каждый боялся собственной тени. Но Публий не успел даже выйти на улицу. Рабы из охраны Мария ворвались в дом Катула, убили брата в атрии, а все, что было при нем, забрали себе. Домашние Катула спрятали тело убитого из жалости к его молодости, а потом отдали нашим людям, когда те приехали в Рим. Вольноотпущенники, что привезли тело брата, положили убитого на кушетку так, чтобы казалось, будто он спит. Плач стоял по всему дому – все домашние любили Публия за его веселый нрав и щедрость. Я плакал, видя, что брат страшно изуродован. Левая рука его была почти что отрублена, и чтобы она не отвалилась, ее пришили толстыми нитками. Щека глубоко порезана, другие раны разглядеть было невозможно – его тело не только натерли солью и бальзамическим составом, но и одели в длинную чуть ли не до щиколоток тунику, чтобы скрыть многочисленные раны. На погребальном костре его так густо укрыли ветвями кипарисов, что вечнозеленые ветви полностью скрыли тело.
После гибели моего брата семья наша как будто раскололась – отец уехал в новое поместье на озере, а я остался в старом доме. В письмах он сообщал о своих надеждах, что молодая жена подарит ему нового сына, но этого счастливого события до сих пор не произошло.
С братом я был куда ближе, чем с отцом, и неважно, что ушедший за Ахерон Публий был старше меня на девять лет. Со мной он становился снова ребенком и часами мог играть в детские игры, хотя уже надевал тогу взрослого гражданина, выходя из дома. Бывало, я вместе с близнецами Коры, моими ровесниками, домородными рабами10, прятался в какой-нибудь дальней комнате, а брат находил нас и, размахивая деревянным мечом, театрально выпучив глаза и корча жуткие рожи, преследовал и выгонял в перистиль, где мы, отмахиваясь своим игрушечным оружием, принимали бой. В другой раз брат шепнул, что под навесом за домом спрятался Полифем, вчетвером мы кинулись в сражение со страшным чудовищем. А выяснилось, что там стояла большая глиняная бочка, только что привезенная от мастера и которую рабам надлежало осмолить, а мы расколотили ее в мелкие осколки.
В доме нашем было пятьдесят две комнаты – большие покои и крошечные каморки и кладовые. Дальние комнаты самовольно занимали рабы, на что вилик смотрел сквозь пальцы, но время от времени выгонял их оттуда, когда сердился на своих подопечных за леность или мелкое воровство. Мы с Деймосом и Фобосом (так звали близнецов) тоже иногда стращали самовольных поселенцев, а они откупались от нас сушеным инжиром или деревянными игрушками, которые с таким искусством вырезал в своей мастерской Икар, а Ксеркс ему помогал.
Один раз я с близнецами подсмотрел, как Икар прячет в постели кожаный мешочек с монетами, и тайком выкрали его скромный клад. Узнав про это, Публий наградил нас всех троих звонким оплеухами, монеты велел вернуть, да еще доложил туда три серебряных денария, которые обещал подарить нам на праздник. Но потом смилостивился, и мы тоже получили в подарок каждый по денарию. И еще кучу сладостей. Когда я вспоминал эти радостные дни, мне казалось, что где-то далеко неведомая рука зажигает светильник, но огонек этот быстро гаснет, а тьма вокруг становится плотнее, непроглядней.
Смерть Публия вырвала какой-то кусок из моего живого тела и превратила меня в калеку. Но я тщательно скрывал свое увечье – не пристало римлянину плакать и жаловаться.
После гибели брата отец приказал мне жить в нашем старом доме и не казать нос в столицу. Все вокруг не устоялось, как молодое вино осенью, и отец боялся что-либо предпринять. Мое пребывание в поместье походило на ссылку, но я был готов принять ее как наказание за неведомую вину – не спас брата, не уберег. Не мог уберечь. Но не мочь что-то сделать – тоже вина. Дом сделался скучен: мои ровесники, сыновья Коры, теперь жили в ближайшем городке, помогая в гончарной мастерской нашего вольноотпущенника. За мной, как и за всем поместьем, должен был наблюдать двоюродный дядюшка отца Маний, дряхлый старик, который давно уже не выходил из дома, а если и выбирался из своей комнаты, то разве что в наш маленький перистиль посидеть на скамье. Даже в триклиний он не выходил на обед, еду носили ему в комнату. Надо понимать, что при таком пригляде всем распоряжался вилик, вообразивший себя царьком нашего захудалого царства. Зимние дни, пока было светло, я проводил в нашей библиотеке, читал или смазывал свитки и футляры кедрецом, чтобы их не уничтожали насекомые.
Тем временем события в Риме разворачивались кровавые: сам Марий назначил себя консулом в седьмой раз, но вскоре умер11. Цинна вместе Серторием перебили бывших рабов из охраны Мария. Однако порядок после этого не воцарился. Даже убийство Цинны не прекратило хаос. Сенат пытался договориться с Суллой, но ничего не добился. Вражда между последователями покойного Мария и клиентами нынешнего диктора Суллы грозила смертью любому, кто окажется на пути озлобленных и яростных сторонников кого-то из них. Сулла тем временем пребывал на войне, и сила его армии лишь возрастала. Весной этого года пришло сообщение, что Сулла с войском высадился в южной Италии. Беспечный, я бегал смотреть, как движутся железные легионы по дороге. Пять легионов! Шесть тысяч конницы. Вид этой армии, разбившей воинство Митридата и утопившей в крови Афины, должен был внушать трепет каждому при одном взгляде на позолоченные орлы легионов и блеск весеннего солнца на кольчугах и шлемах. Я был слишком юн, чтобы оказаться призванным в армию, а наше поместье лежало вдали от мест яростных сражений. В нашем городке после убийства моего брата мы числились в сторонниках Суллы, и теперь, казалось, беда должна была обойти наш дом стороной. С глупой беспечностью я чувствовал себя в безопасности. О бедствиях и кровавых схватках из Рима доходили лишь неясные слухи. Победу в сражении у Коллинских ворот12 Фортуна отдала Сулле. Так Вечный город оказался в руках назначенного вопреки всем законам диктатора. В отличие от прежних лет, когда диктатура не могла длиться долее шести месяцев, срок его власти не был никак ограничен, а полномочия оказались по сути царскими. Сулла стал волен миловать и убивать любого. Сто двадцать лет в Риме не назначали диктатора, и вот он явился – самозваный и обуянный жаждой безмерной власти. Более всего на свете римские граждане боялись, что Рим снова окажется во власти царей, а теперь один человек решал по своей прихоти, жить или умереть римскому гражданину. Говорят, никто в Риме не посмел возвысить голос против ужасов, которые он творил. Лишь один мальчик возмутился, когда увидел, как из дома Суллы выносят головы людей, которых там пытали, а затем убили. «Почему никто не убьет хозяина дома!?» – воскликнул мальчик. На что получил ответ от своего учителя: «Его боятся больше, чем ненавидят». «Почему тогда ты не дал мне меч – я бы его убил и избавил отечество от рабства!»13 Но мальчик был слишком мал, чтобы осуществить задуманное, и никто ему, разумеется, меча не дал. А отрубленные головы продолжали прибивать к Рострам14.
Мой отец пока что выжидал, что будет дальше, избегая любого участия в делах государства, что для знатной семьи в прошлые годы было делом немыслимым и весьма обидным, но теперь все чаще и чаще молодые наследники не шли служить в армию и не искали должностей. Отец присылал мне с письмоносцем таблички с предостережениями и указаниями, как себя вести. В случае опасности, что письмо перехватят, наш человек должен был сломать печати и стереть написанное на воске. Сам отец выходил из дома лишь для того, чтобы навестить своих друзей сулланцев и заверить их в преданности диктатору. В каждом городе Италии составляли списки на убийства, и попасть в этот список мог любой, лишь бы кто-то из сулланцев соблазнился его богатством или красотой имения. Иногда я с ужасом вспоминал, как прекрасна вилла отца близ озера Ларий. И если кто-то позарится на новенький дом и окружающий его сад, то наша семья потеряет все – все земли, все деньги, все дома, а, главное, – жизни. Смерть моего брата от рук людей Мария не могла пересилить жажду обогащения в сердцах приспешников диктатора Суллы. Ходили слухи, что в списки включали даже известных сулланцев, лишь бы добыча оказалась достаточно жирной. Услышав подобный рассказ (переданный одним из близнецов Коры шепотом) я начинал мысленно возмущаться трусостью и покорностью проскрибированных. Но это были даже не слова, а лишь мысли. Открыто обнаружить свои чувства я не решался. И хотя после гибели брата я никак не мог зачислить себя в сторонники Мария, Суллу я искренне возненавидел, видя в нем могильщика Республики. К тому же я мечтал о карьере юриста, хотел выступать в судах, защищать подозреваемых от несправедливых приговоров. А какие суды могут быть в эпоху проскрипций?
* * *
Итак, я устроил своих гостей в заброшенной хижине, запретил им выходить из дома и разводить огонь, приказал дожидаться, пока я принесу теплые вещи и обед.
Однако когда ближе к вечеру я вернулся, нагруженный, будто верблюд, одеялами, мисками, и завернутым в кусок овчины горшком с кашей, то обнаружил, что мои гости нарушили обозначенные запреты: они развели огонь в уличном очаге, вскипятили себе воды в котелке из кладовки и насыпали углей на жаровню. В доме сделалось тепло, но обитатели хижины забыли даже прикрыть ставни, и свет жаровни внутри можно было заметить со стороны тропинки, что тянулась вдоль убранного поля.