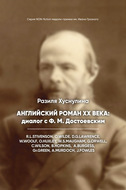Kitobni o'qish: «Английский роман ХХ века: диалог с Ф. М. Достоевским»
© Р. Хуснулина, 2020
© Интернациональный Союз писателей, 2020
Введение. Ф. М. Достоевский в Великобритании: стереотип и реальность. Оценка его творчества в критике
Ф. М. Достоевский (1821–1881) отнюдь не вошел в английскую культуру легко и плавно. Напротив, он был встречен настороженно и с опаской, как писатель, ломающий устоявшиеся литературные каноны, осваивающий неведомые темы и опровергающий привычные вкусы.
Первые отклики о нем появились во французской прессе в связи с его кончиной. До этого он не был известен англичанам. В «Истории русской литературы» (Лондон, 1882), подготовленной Чарльзом Тернером, некоторое время читавшим лекции в Императорском университете в Санкт-Петербурге, Достоевский лишь упомянут как друг Н. А. Некрасова1. Когда же в 1884 году во Франции, Германии появились переводы романов Достоевского и по ним были подготовлены вольные английские версии, его наконец заметили критики, но восприняли в некоем общем ряду. Они отзывались о нем как о писателе чужеродном, «таинственном русском», «пришельце из потустороннего мира»; персонажей соотносили с известными сведениями его биографии: эпилепсией, ссылкой, азартными играми.
Подобный «этнографический» подход к творчеству писателя как к некой типовой, всеобъемлющей формуле загадочной «русской души» и стал для литературоведов и критиков самой простой «разгадкой» Достоевского – провидца со странной судьбой. Такое его понимание они стремились приспособить к понятному, тому, что было на слуху, объясняя загадочность «русской души» «крайностями», «бесхребетностью», видя в них «некий рок».
Доминанта загадочной «русской души» долгое время, вплоть до 1920-х годов, определяла интерпретацию личности писателя, его творчества. Отчего и оказалось возможным «не замечать» Достоевского и отодвинуть на периферию, говоря о его экспериментах как о причуде второстепенного прозаика.
Словно предвидя подобную интерпретацию, Достоевский возражал против узконационального истолкования явлений, называемых русскими, нередко ему же приписываемых. К «русской» теме Достоевский подступает с разных сторон. Устами Радомского, одного из персонажей «Идиота» (1868), он говорит, что если писателю «удалось сказать… нечто действительно свое, свое собственное, ни у кого не заимствованное», его можно назвать «русским»2. О другом измерении «своего», «русского», можно судить по высказыванию Версилова из более позднего романа «Подросток» (1875): «У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех. Это – русский тип, …и получил он способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех… Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я – настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль»3. Словами Ивана Карамазова («Братья Карамазовы», 1879) Достоевский указывает на «великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению»4 как на «тайну бытия человеческого».
Введя в обиход термин «русская идея» (в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год), Достоевский имел в виду ее «общечеловечность», синтез «всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа»5. Тему русского начала как «капитальную» писатель развил в речи, прочитанной им при открытии памятника А. С. Пушкину 8 июня 1880 года. Тогда, оппонируя И. С. Тургеневу, заявившему, что «…название национально-всемирного поэта мы не решаемся дать Пушкину», Достоевский произнес пророческие слова: «Нет, положительно скажу, не было поэта с такой всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось… Ибо что такое сила русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности»6.
Всю свою жизнь Достоевский называл Пушкина своим учителем и считал, что Герман («Пиковая дама») вдохновил его на создание образа Раскольникова, баллада «Бесы» дала заглавие и эпиграф его собственному одноименному роману, а монолог из «Скупого рыцаря» стимулировал образ Долгорукого («Подросток»), его жажду золота и безграничного могущества.
«Подпольный человек, Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Шатов, Верховенский, Иван Карамазов – все эти существа, – отмечает французский критик Анри Труайя, – одержимы каждый своей идеей. … Комфорт, деньги, положение в обществе ничего не значат для них… Они не различают граней между мечтой и действительностью». Поэтому их нельзя назвать «целиком русскими», точно так же наивно было бы полагать, что «Россия XIX века была сплошь населена истеричками, эпилептиками, чахоточными». Об авантюрном князе Валковском, герое «Униженных и оскорбленных», Труайя пишет, что «этот персонаж гораздо чаще встречается за границей, во Франции, Англии, Бельгии, чем в России». Исходя из чего он заключает: «Создания Достоевского вовсе не чисто русские, потому что они поглощены решением мировых проблем. Идеи, носителями которых они являются, выходят далеко за рамки проблем национальной литературы»7.
И если трактовать речь о Пушкине шире и приложить к творчеству Достоевского то специфическое «русское», что он уловил в поэте – способность перевоплощаться в чужие национальные образы и понимать культуру других народов, – то это объяснит «всеевропейскость» его собственных персонажей. Но такое понимание Достоевского, сопряженное с ломкой стереотипа, утверждалось в среде английских критиков долго и трудно.
Знакомство с Достоевским началось с книги «Русский роман» (Le roman russe, 1886; англ. пер. 1913), написанной французом Мельхиором де Вогюэ. Глава «Религия страдания. Достоевский» долгое время оставалась самым влиятельным эссе о писателе. Поясняя ее заглавие, автор пишет: «Сострадание к бедным сделало его наставником людей именно этого класса, который верил ему»8. Новаторство Достоевского, таким образом, ограничивалось «человеческим сочувствием» к персонажам «униженным и оскорбленным». Кроме того, на протяжении всего исследования де Вогюэ соотносит имена Тургенева и Достоевского, возвеличивая первого и отодвигая на периферию второго, сводя представление о нем к расхожей формуле «загадочного русского монстра».
Односторонность подхода де Вогюэ к наследию Достоевского и в связи с этим упрощенное истолкование романов писателя тем не менее не помешали ему привлечь внимание к Достоевскому. По замечанию Гилберта Фелпса, биографа И. С. Тургенева, книга де Вогюэ стимулировала новые переводы романов Достоевского, и «в 1886 году [когда она была издана во Франции] появилось не менее 18 изданий в Лондоне и Нью-Йорке»9.
Высокая оценка творчества Достоевского была дана в книге Джорджа Гиссинга «Чарльз Диккенс» (1898). Автор назвал Достоевского «великим русским писателем», у которого Диккенс «мог бы найти много интересного и восхитительного», хотя его романы «гораздо более мрачные по сравнению с английскими». Эту «мрачность» он объясняет не только условиями русской жизни, но и стремлением Достоевского взглянуть на «нужду» и «жалость»10. Если бы «Преступление и наказание» писал Диккенс, рассуждает Гиссинг, он начал бы роман с изображения отца Сони Мармеладовой, а может быть, даже посвятил ему всю книгу. Образ Сони он представил бы отнюдь не как «исключительный» и уж совсем отказался бы от образа Раскольникова – настолько тот далек от того, что привык изображать английский писатель. И тогда, по мысли Гиссинга, не осталось бы ничего от великого «шедевра». Реализм Достоевского, который «прямо говорит и откровенно называет вещи своими именами», он противопоставляет «чисто викторианскому лицемерию»11 Диккенса.
В первые годы ХХ века популяризации Достоевского отчасти способствовали и русские эмиссары. П. А. Кропоткин (1842–1921) в статье «Идеалы и действительность в русской литературе» (Ideals and Realities in Russian Literature, 1905) назвал Достоевского величайшим писателем, но вместе с тем раскритиковал его романы за «слабость формы», «отсутствие концовки»12 и выразил опасение, захотят ли читать их в Англии. Но, живя там, он регулярно выступал с лекциями по русской литературе и способствовал формированию позитивного мнения о писателе.
Д. С. Мережковский (1865–1941) находил в творчестве Достоевского глубоко органичные для себя мотивы, хотя в конце 1870-х годов именно от Достоевского начинающему поэту пришлось услышать о своих ранних стихах: «Слабо… плохо… никуда не годится… чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!» В исследовании «Л. Толстой и Достоевский» (вошло в книгу «Толстой: человек и художник» – Tolstoy as Man and Artist; изд. в 1902 году в Лондоне) Мережковский отметил силу драматического характера романов Достоевского, уникальное использование диалогов для самовыражения героев и посетовал, что англичане не увидели в нем «поэта евангелической любви» и «излишне упростили» Достоевского на фоне Толстого.
В 1906 году, уже живя в Париже, Мережковский опубликовал статью «Пророк русской революции» (к 25-летию со дня смерти Достоевского). В ней он вновь назвал Достоевского «самым родным и близким из всех русских и всемирных писателей не мне одному». Признавая Достоевского глубоко христианским писателем, Мережковский в свойственной ему пророческой манере писал: «Он… открыл нам путь ко Христу Грядущему. И вместе с тем он же, Достоевский, едва не сделал нам величайшего зла… – едва не соблазнил нас соблазном Антихриста, впрочем, не по своей вине». В ходе исследования Мережковский решает, «какое из этих двух лиц подлинное» у Достоевского: «…великого инквизитора, предтечи Антихриста, или старца Зосимы – предтечи Христа»13. Работы Мережковского о Достоевском оказали стимулирующее влияние на прочтение Достоевского в Англии. Вместе с тем «стремление показать в Достоевском фанатика привело к тому, что Беннетт, Вулф и Форстер увидели в нем лишенного художественного вкуса мудреца»14.
Немаловажное значение в формировании мнения о Достоевском имели вышедшие в 1910–1915 годах книги Мориса Бэринга «Вехи русской литературы» (The Landmarks in Russian Literature, 1909), «Русские» (The Russians, 1911), «Движущая сила России» (The Mainsprings of Russia, 1914) и «Очерки русской литературы» (The Outline of Russian Literature, 1915). Написанные ученым и дипломатом, который время от времени наведывался в Россию и знал ее язык, они знакомили читателей с различными аспектами «русской» темы, в том числе с творчеством писателей XIX века: Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и А. П. Чехова. О судьбе романов Достоевского Бэринг высказал в 1903 году мрачное предположение, что «рынка сбыта подобных книг в Англии не будет»15.
Главу «Достоевский» в «Вехах русской литературы» (The Landmarks in Russian Literature, 1909) Бэринг открывает услышанными им высказываниями о Достоевском, которые свидетельствуют о недооценке писателя не только в Англии, где его «назвали автором фельетонов и мелодрам, стоящим в одном ряду с Э. Сю и К. де Монтепеном», но и на родине: «Нам, русским, стыдно, что мы столько восхищения выразили Толстому, когда рядом был такой гений, как Достоевский»16. В числе его основных «достоинств» им названы «любовь и сострадание»17. Поэтому, «в двух словах» определяя смысл творчества Достоевского, Бэринг обосновывает его не литературными, а этическими достоинствами: «Достоевский – нечто большее, чем русский писатель. Он брат для всего человечества, а особенно для тех, кто отчаивается, страдает или угнетен»18.
Книги, посвященные русским писателям XIX века, принесли Бэрингу успех, и его нарекли «апостолом русской литературы и культуры»19. Но о Достоевском он не сказал ничего нового, подошел к его творчеству стереотипно и даже назвал романы писателя «бесцветными». В духе де Вогюэ из книги в книгу Бэринг возвращался к теме «русской души». Как и три десятилетия назад, когда вышла книга де Вогюэ, понятие «русской души» продолжало оставаться определяющим в оценке творчества Достоевского. Но, кроме того, с ним стали соотносить разнородные и весьма отдаленные от него явления.
Словно выполняя общественный заказ, культуролог Дороти Брюстер подготовила антологию «Русская душа» (The Russian Soul, 1916), в которую вошли статьи о драме, фольклоре, народных песнях, поэзии, языке и изобразительном искусстве России. В одной из них, «Россия и русский глагол» (1915), лингвист Джейн Харрисон даже попробовала по-любительски соотнести грамматическую форму русского глагола (прошедшего времени, несовершенного вида) с духовным миром людей, использующих его в своей речи, чем произвела «бум»20. Из романов Достоевского она выделила «Братьев Карамазовых» и увидела в нем «символическое воплощение русской души»21. Ее исследование, по словам Д. Брюстер, «стимулировало новые психологические исследования об обычаях и нравах русских»22. Тема «русской души» продолжала устойчиво поддерживаться и в периодике; Г. Р. Джосс объяснил это «эстетической дистанцией»23, которая разделяет народы и делает их загадочными.
В числе тех, кто по-новому заговорил о Достоевском, был Арнольд Беннетт (1867–1931). Он писал о Достоевском с 1908 по 1931 год и, как никто другой, способствовал продвижению его книг. Беннетт использовал для этого свою колонку в «Нью Эйдж» (New Age): «Я не устану повторять, что лучшие образцы романа созданы Достоевским». Там же, взывая к крупнейшему английскому издательству «Хейнманн», он назвал «скандалом» отсутствие «хорошей, полной версии произведений Достоевского»24. В немалой степени он тем самым предопределил судьбу романов Достоевского в Англии.
В 1912–1920-х годах Достоевского наконец издали – появился перевод полного собрания сочинений писателя, выполненный Констанс Гарнетт. Предваряя его выход, Эдвард Гарнетт обратился к читателям «Экедеми» с коротким эссе о Достоевском. «Современное поколение, – писал он, – не знает произведений Достоевского. Тем хуже для этого поколения»25. Причину его долгого игнорирования Гарнетт объяснил «страхом перед мрачной тематикой». В отличие от писателей и критиков 1880–1910 годов, мотивировавших интерес к Достоевскому загадочными проявлениями «русской души», он высоко оценил его как психолога. Такой подход к нему совпал с характером литературных поисков модернистов и стал одной из причин их обращения к Достоевскому.
Выход собрания сочинений Достоевского в Англии стал культурным событием с сопутствующими ему философскими диспутами, публичными высказываниями. Словно выражая благодарные чувства многих писателей, К. Мэнсфилд (1888–1923) писала К. Гарнетт в 1921 году: «Мы так вам обязаны, что сами еще не в состоянии это осознать. Эти книги… переменили наши жизни»26.
Теперь Достоевского стали читать и у него искали ответы на «проклятые» вопросы. Новый мир, пришедший с Достоевским, помогал английской интеллигенции понять себя и даже более того – «менял ее характер»27.
В появившейся в эти годы книге профессора-слависта Янко Лаврина «Творчество Достоевского-психолога» (Dostoevsky and his Creation, 1920) дана его оценка как величайшего психолога: «Суть и значение творений писателя могут быть поняты не столько благодаря общепринятым этическим меркам, сколько глубине проникновения в психологию, лежащую в основе внутренней драмы его искусства»28. Его психологизм, по словам Лаврина, «идет не из психологического любопытства, не из пустого стремления выразить переживания человека, характерного для большинства современных писателей, а из необходимости, сильнейшей внутренней потребности, перед которой он не мог устоять. Глубоко проникнув в таинственное «подполье», он достиг той черты человеческого бытия, за которой могло произойти либо полное самоуничтожение, либо полное обновление. И он смог направить трудноразрешимые вопросы бытия в «психологическое» русло… и из него по-новому высветил религиозные проблемы, восстав против всеобъемлющего «научного» подхода к ним, опасного как для настоящей религии, так и для настоящей науки»29.
Указывая на «великий синтез этики, эстетики, психологии, философии и религии» в произведениях Достоевского, Лаврин отмечает, что тем самым писатель «нарушил пропорцию в изображении внутренней жизни героя и внешней событийности». Однако именно эта диспропорция придала его романам «такое внутреннее напряжение, которого нет ни в одном из произведений современных писателей»30. Такого рода «психологизм, изображение «духовной драмы» Лаврин связывает с настоящим и будущим литературы.
Автор монографии «Ф. Достоевский» (F. Dostoevsky, 1923) Дж. М. Марри принадлежит, как и Я. Лаврин, к поколению, становление которого пришлось на годы Первой мировой войны. «Мой жизненный опыт, – писал он, – заставил меня все больше углубляться в суть вещей, чтобы найти твердое основание для веры. Этим я был беспрерывно занят с 1918 года, и все мои книги появились благодаря именно этому»31.
Не забывать, не успокаиваться – таков для него нравственный урок войны, и потому «Бесам», направленным против своеволия личности, отводится едва ли не главное место в его книге. В ней без труда можно уловить то общее, что связывает искания Марри с Достоевским, – моральный пафос, а местами и мысли, ситуации, в которых оказываются герои его романов. Неслучайно во время работы над книгой Марри «преследовало странное ощущение, что он был не более чем секретарем, пишущим под чью-то диктовку»32.
Характеризуя мир трагических героев «Бесов», Марри называет его «миром символов и потенциальных возможностей, заложенных в безжизненных существах»33. Единственный, кто, по словам критика, вызывает сочувствие – Шатов; в его убийстве Марри видит «оправдание смерти Ставрогина», идейного вдохновителя нигилизма. Высоко оценивая «Бесов», Марри между тем замечает: «Достоевский не был романистом в привычном понимании. К нему нельзя подходить с привычными мерками литературы и логики; он превзошел и ту, и другую», исходя из чего Марри неожиданно заключает: «Его искусство метафизично, каким не должно быть искусство»34.
На протяжении всей книги Марри вырабатывает подход к романам Достоевского как лишенным системы, а то и четкой логики, отбрасываемой автором за несущественностью. Этот взгляд стал специфической особенностью его исследования. В действительности эта кажущаяся нелогичность и разнородность, может быть, и есть устойчивая черта романов Достоевского. При анализе романа «Братья Карамазовы», поражающего напряженностью, почти исступленностью запечатленных в нем духовных борений, Марри не придал значения карамазовскому «билет почтительнейше возвращаю», не менее значимому в контексте идей романа, чем гамлетовское «быть или не быть», хотя и назвал Ивана, «автора» «Легенды о великом инквизиторе», «молодым Гамлетом».
Как видно из книги Марри, он был немало удивлен тем, что Достоевский обдумывал замысел «Братьев Карамазовых» около десяти лет. Равно как и тем, что роман назван «энциклопедией русской жизни», но таковой, по мысли Марри, не является: «Достоевский не мог написать энциклопедию; он не умел воспроизводить жизнь, и если рассматривать «Братьев Карамазовых» как зарисовку русской жизни, то она в основном фальшива»35. Марри отрицает какое бы то ни было значение романа для познания русской действительности. Раскрывая психологическую драму и скрытые потенциальные возможности души «в одно время, в том же пространстве, в рамках семьи», Достоевский тем самым «снижает реалистичность» описываемого.
В том же 1923 году во Франции вышла книга А. Жида «Достоевский» (Dostoievsky), написанная в форме эссе. А. Беннетт, с которым Жида объединяли дружба и обширная переписка, представил ее англоязычному читателю, не упустив возможности высказать и свое мнение о Достоевском. Оценив книгу как лучшую прочитанную им о Достоевском, Беннетт отметил, что Жид «понял» ее «по-ницшеански», и прибавил: «Конечно, Достоевский – твой писатель. Его моральные установки соответствуют твоим». Позднее в письме к Жиду он отметил, что в книге ничего не сказано о технике письма Достоевского, «если таковая вообще была!» Беннетт способствовал переводу книги Жида; на английском языке она вышла в 1925 году. В предисловии к ней Беннетт уже в который раз назвал «Братьев Карамазовых» «лучшей книгой из когда-либо написанных»36.
Беннетт-публицист, сумев в первые полтора десятилетия века привлечь внимание читателей к Достоевскому, помог не потерять его из виду. Позже он апеллировал к нему в полемике с Вулф. Считая роман «Братья Карамазовы» «безупречным» благодаря его «жизненности», Беннетт порицал Вулф за стремление подменить «жизнь» «абстракциями». Комментируя бытовую сцену (автобус задавил щенка), он обратился к ней со словами: «Вы не увидели бы и сотой доли реальности в этой сцене». И, поучая ее, продолжил: «Повествование должно идти от реального факта, …а не надуманных абстракций»37. «Человек гораздо более сложен и таинственен, чем может представить его язык»38, – уклончиво ответила ему Вулф.
В другой статье, «Развитие романа» (The Development of the Novel, 1929), Беннетт, называя Дж. Джойса «гением инноваций», а Вулф «психологом», осуждает их за «отсутствие формы», вновь призывая их учиться у Достоевского.
За то долгое время, что Беннетт писал о Достоевском, изменилась и его собственная литературная репутация. Первые критические работы Беннетта, написанные с 1908 по 1911 годы, появились, как уже упоминалось, в периодическом издании «Нью Эйдж», которое возглавлял известный критик А. Р. Оредж, немало написавший в поддержку английского модернизма; с 1926 по 1931 год он уже вел рубрику в массовой газете «Ивнинг Стэндард» (Evening Standard). Влияние Беннетта, по мнению лондонской элиты, особенно той, которая не так давно пришла в литературу, но уже успела заявить о себе, резко упало. В прошлом популярный романист, драматург, эссеист, противник островной изоляции Англии, Беннетт теперь сам стал объектом критики со стороны молодого поколения. В. Вулф, Т. С. Элиот, Дж. Джойс считали его «устаревшим писателем».
Книга Хелен Мачник «Восприятие Достоевского в Англии» (Dostoevsky’s English Reputation, 1939) – пример еще одного всевластия типовых формул, не позволяющих правильно понять и оценить писателя. Отведя себе роль «хроникера русской жизни», Мачник представила Достоевского русским провидцем со странной судьбой.
Сконцентрировав основное внимание на характере восприятия Достоевского, она вычленила периоды, соответствовавшие, с ее точки зрения, прочтению прозаика в Англии: малопримечательные «первые годы» (1881–1888), «переходный период» (1889–1911), когда сформировалось общественное мнение о нем, «успешный период» (1912–1921), отмеченный появлением переводов Констанс Гарнетт, – наиболее важный, с которого началась реальное освоение наследия Достоевского. И, наконец, «поздний период» (1922–1936), конец которого совпал с негативными оценками тех писателей, которые в предшествующий период как раз и способствовали его популяризации. Подобная периодизация, будучи неполной и неточной, упрощает выведенную в заглавии тему.
Отдельные высказывания Мачник о Достоевском не только не вписываются в характер заявленного ею подхода, но кажутся даже абсурдными. Завершая раздел об «успешном периоде» восприятия Достоевского в Англии, она неожиданно заявляет: «Достоевский не привнес ничего нового в литературу, он лишь умно распорядился старым материалом»39. Среди тех, кому писатель подражал и чье творчество «использовал», были, по мнению Мачник, Э. По, маркиз де Сад. «Извращенный бесенок», живущий в его героях, перенят им у По, а образ человека из «подполья» навеян де Садом, но, в отличие от него, Достоевский показал не «погибшее» существо, а героя «с незащищенным внутренним миром». Даже язык, которым написаны произведения Достоевского, кажется Мачник заимствованным, причем на этот раз – у Бодлера: «Казалось, Достоевский говорит языком Бодлера, не афористичного, но с избытом интроспективного красноречия»40.
Рассуждая о писателях, английских и американских, испытавших влияние Достоевского, Мачник ссылается на мнение М. Коули, назвавшего «ряд энтузиастов – Менкена, Ханекера, Сомерсета Моэма, Лафорга», которые «переняли интригу из произведений Достоевского»41. Но оно кажется ей неубедительным, и, продолжая его мысль, Мачник отмечает, что, скорее всего, характер их творческих исканий совпал с Достоевским. В качестве примера она приводит роман С. Льюиса «Главная улица»: «Смените имена, язык на более разговорный и объективный – и тогда «Бесы» вполне могут стать произведением какого-нибудь молодого американца, живущего на Монпарнасе»42.
Мачник отмечает, что влияние Достоевского на английскую литературу «не было столь «ощутимым на поверхности», как на немецкую: творчество Верфеля, Г. Гессе, Вассермана». Его традиция в английской литературе располагается на другом, «глубинном уровне»43.
И хотя она продолжает развиваться, тем не менее те, кто когда-то выступал за «ассимиляцию традиции Достоевского» – Вирджиния Вулф и Дэвид Гарнетт, – теперь ополчились против него и заявляют, что «традиция уже исчерпала себя» и настало время восстановить нарушенный «баланс литератур»44.
Подводя итог своему исследованию, Мачник отмечает, что влияние Достоевского на современный английский роман «заключает в себе странный парадокс»: он «не столько гениально описал, сколько умело вдохновил. …Он не открыл конечных истин, он лишь подтвердил их существование. Он не вкладывал душу в произведение, напротив, он ее освобож дал. Его влияние нельзя не увидеть в бесформенности и рыхлости современного романа»45.
В том же 1939 году вышла книга Питера Кая «Достоевский и английский модернизм. 1900–1930» (Dostoevsky and English modernism, переизд. 1952, 1992), к работе над которой, как пишет автор, его побудили исследование Хелен Мачник «Восприятие Достоевского в Англии», а также отдельные высказывания В. Вулф о романах писателя. По сути, книга – его «ответ на их реакцию» на Достоевского.
Как считает П. Кай, «восприятие Достоевского английскими писателями начала XX века может быть понято исключительно в контексте модернизма: …скептицизма в отношении кредо, идеалов, художественных традиций; пренебрежения к среднему классу и его условностям; жажды перемен; интереса к процессам восприятия, сознания и к тому, что В. Вулф назвала «темными сторонами психологии»»46. В главах, посвященных Д. Г. Лоуренсу и В. Вулф, автор приводит их многочисленные высказывания о Достоевском, его прозе и ими мотивирует «открытие» Достоевского в Англии. На его взгляд, их прочтение Достоевского имело отношение порой не столько к самому писателю, сколько к предшествующим интерпретациям. «Достоевский был обсуждаемым гостем в английской литературе, – пишет Кай. – Писатели недоумевали, как им называть его: пророком, мудрецом, садистом, монстром. Он не был романистом в общепринятом смысле, но даже недоброжелатели не отрицали силу его влияния»47.
Литераторы старшего поколения, которых он назвал «писателями-джентльменами», опасаясь, что русский писатель, читаемый в Англии, может благодаря модернистам занять «привилегированное положение», отнеслись к нему весьма критично. Это была, по выражению Кая, «прометеевская борьба с Достоевским». О самом молодом из них – Форстере – критик пишет: «Он никогда не знал, как ему относиться к Достоевскому – создателю образов Рогожина и Раскольникова, который никогда не завладеет умами почитаемой им [Форстером – Р.Х.] кембриджской публики»48. Кай приводит ироничное высказывание из письма Лоуренса Форстеру, относящегося к 1924 году: «Для меня вы – последний англичанин. Я – следующий после вас»49. Этой фразой Лоуренс подчеркнул не только признание достоинств старшего писателя, но и дистанцию между ними. Форстер получил классическое кембриджское образование, с детства вращался в среде родовитых англичан, и его либеральный гуманизм был далек от того кризиса, который переживал Лоуренс.
«Достоевский выступает в роли собеседника с каждым из английских романистов, – продолжает Кай. – В их ответах на его реплики улавливается диалог, напоминающий разговор Ивана и «джентльмена» черта или Порфирия и Раскольникова, который позволяет проникнуть в самую суть их отношения к нему»50. Говоря о значении подобных диалогов, Кай подводит итог своему исследованию словами: «Там, где есть процесс сознания, там всегда есть диалог»51. И поэтому любую форму обращения к Достоевскому критик уже считает диалогом с ним.
В том же году, что и Кай, свою оценку наследию Достоевского дал писатель Дж. Пауис в книге «Наслаждение литературой» (Enjoyment of Literature, 1939). Во введении автор обосновывает «суть литературы», которая заключается в том, чтобы «назвать ангелов и демонов своими именами»52. В этой мысли есть нечто программное для него как художника, и в то же время она неотделима от его прочтения Достоевского, «возрождение» прозы которого он в том числе связывает с этической определенностью и достоверностью, найдя в ней глубоко органичные для себя мотивы. Один из них Пауис определяет словами Кириллова («Бесы»): «Нам всем следует измениться»53.
В числе лучших образов Достоевского он называет Раскольникова, Свидригайлова («Преступление и наказание»), Рогожина («Идиот»), Ставрогина («Бесы»), которые построены на взаимопроникновении «духовного добра и духовного зла»; в соответствии с этим Ивана Карамазова Пауис отвел на задний план. «Тургенев назвал Достоевского «садистом», и это страшное слово лишь подтверждает, как глубоко писатель сумел постичь природу греха. Когда Иван Карамазов, верующий в Бога, но не принимающий мир, им созданный, «возвращает» Создателю «билет», то это звучит по-садистски жестоко»54, – соглашается с ним автор. Он не принимает и высказанную Шпенглером и затем подхваченную литературоведами мысль о том, что в образе Алеши Карамазова нашли «окончательное воплощение философские искания Достоевского». На его взгляд, князь Мышкин «тоньше и значительней», а кроме того, «глубже проникает в тайну греха»55.
Пауис пишет о Достоевском как о «выразителе поколения» и ставит его в один ряд с другими писателями всемирной литературы: «Блестящие страницы Библии, Гомера, Шекспира и Данте, Рабле и Сервантеса, Гете и Достоевского подтверждают величие их создателей, которые используют всю силу своего духовного и художнического влияния на нас, в итоге характеры, ими созданные, одушевляются их опытом»56. Выделяя среди них Гомера и сближая с ним Достоевского, Пауис отмечает, что их произведения «сопоставимы по эпическому размаху: глубоки, как океан, стремительны и масштабны»57.