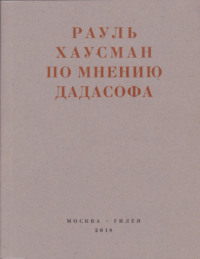Kitobni o'qish: «По мнению Дадасофа. Статьи об искусстве. 1918–1970»

Рауль Хаусман. 1929. Фото Августа Зандера
Перевод с немецкого: Т. Набатникова, М. Кузнецов, К. Дудаков-Кашуро
Перевод с французского: М. Лепилова
Составление, хроника и комментарии К. Дудакова-Кашуро

© Книгоиздательство «Гилея», 2018
© К.В. Дудаков-Кашуро, составление, хроника, комментарии, 2018
От составителя
В представляемом сборнике сделана попытка воссоздать чрезвычайно многогранный и вместе с тем цельный образ художника и мыслителя Рауля Хаусмана, чьё творчество обычно ассоциируется со взлётом берлинского дада в конце 1910-х годов, но далеко не исчерпывается им. Не столько интересам, сколько необходимости творческого, новаторского осмысления и изменения современности удовлетворяло обращение Хаусмана к самым разным темам и проблемам: от первобытного искусства до современной лингвистики, от актуальных политических идеологий до физики элементарных частиц, от этнографии до кроя повседневного мужского костюма, от истории архитектуры до психоанализа, и т. д. Интеллектуальная деятельность Хаусмана, нашедшая отражение в сотнях художественно-критических и научно-исследовательских статей и эссе, как разбросанных по множеству изданий – от малотиражных до подготовленных им и уже не раз переизданных сборников статей, так и вовсе оставшихся в рукописи, пересекалась с его творчеством как художника, фотографа, скульптора, поэта, наконец, изобретателя и учёного-естествоиспытателя. Значительную часть обширного наследия Хаусмана составляют статьи, посвящённые и общим вопросам искусства – прошлого и современного, и отдельным искусствам – живописи и литературе, театру и танцу, музыке и кинематографу, теории и практике фотоискусства, одним из первых исследователей которого он был, а также моде, типографике и многому другому. Разумеется, бóльшая их часть – тексты, посвящённые тем экспериментальным формам искусства, которые он практиковал и которые для него составляли части одного целого будущего здания «нового искусства»: оптофонетике, фотомонтажу, фонетической поэзии и др. Почти без исключения все эти тексты (некоторая их часть ещё остаётся неопубликованной) рассматривают искусство как в системе новых социальных отношений, так и с точки зрения антропологических изменений, привнесённых техникой. В этом смысле эстетическому мышлению Хаусмана присущ особенный диапазон и масштаб, редкий даже для представителей художественного авангарда. Другим достоинством, хотя и представляющим подчас большое препятствие для переводчика, является авторский стиль письма – полемический, пропитанный энергией мысли, интуицией, широкой эрудицией, стиль настолько же самобытный и новаторский, как и предметы, описываемые им. В связи с этим нашему изданию потребовался большой корпус комментариев, проливающих свет на порой сложно уловимые историко-культурные явления, реалии вильгельмовской и веймарской эпохи, аспекты научно-технической картины мира fin-de-siècle, но прежде всего учитывающих контекст немецкого и мирового искусства прошлого столетия, который начиная с экспрессионизма и заканчивая неоавангардом 1960-х составлял естественную среду общения и творчества Хаусмана.
Отбор статей, переведённых с немецкого и французского, был обусловлен несколькими обстоятельствами: во-первых, доступностью источников, так как многие материалы в буквальном смысле слова разбросаны по редким изданиям или находятся в архивах в Германии и Франции; во-вторых, первенством публикации на русском языке: все статьи переведены специально для настоящего сборника, и лишь две появились до его выхода в свет, но в ходе его подготовки (отдельное место занимает статья «Оптофонетика», изданная для журнала «Вещь» в 1922 г. и с тех пор не переиздававшаяся). Наконец, из огромного количества текстов были выбраны те, которые наиболее репрезентативно дают панорамную картину взглядов Хаусмана на различные проблемы искусства, – взглядов, которые можно проследить от ранних публикаций до написанных за несколько месяцев до смерти. Среди этих текстов наиболее резонансные программные манифесты – индивидуальные и коллективные, критические статьи, исследования, эссе, речи и пр. При подготовке публикации учитывалось, что Хаусман мог одни и те же материалы готовить на нескольких языках или переписывать их, внося изменения, что обусловило текстологические разночтения. Поскольку тексты Хаусмана академическими изданиями не представлены, а ошибки публикаторов в существующих изданиях нередки, в целом ряде случаев тексты сверялись по разным источникам и переводам. Было решено разделить тексты на две части – на написанные в Германии и сочинённые – после значительного перерыва – во Франции. Такое деление соответствует характеру самого материала: в первом случае это статьи, написанные в наиболее интенсивный творческий период, как Хаусмана, так и немецкого художественного авангарда, во втором – это скорее ретроспективный взгляд, обобщающий индивидуальный опыт и опыт дадаизма в целом и уточняющий его историческое место в связи с появлением послевоенных неоавангардных движений.
Константин Дудаков-Кашуро
Германия. 1918–1932
Материал живописи скульптуры и архитектуры
Живопись динамизм красок формы задуман в плоскости её делаешь так чисто как только возможно оформление органично в аналогии видимого момента ни подражая ни описывая. В блестящей чистоте бумаги картины мгновений электрических призм хрупкого происходящего прямоугольной радости одновременного наложения или спирально намотанный из внутренней реальности творца. Конструировать движущееся видеть живое делаешь конструктивно-динамическое в чистоте материала. Скульптура вгоняющая себя в пространство изменяет его зиждется на радости приспособления или мрачной скорби ты будешь извлечён из атмосферы скульптурно-динамического мгновения в прозрачность стекла чёрный бархат железо небо большого города над ним дрожит электрическое голубое голубое зелёное красное спектральное проникновение друг в друга происходящего это хорошо утешительно и исполнено высокой реальности природа изображения. Норма. Архитектура пространственная динамика или она должна таковой быть, до сих пор лишь в Богемии Гочара и Янака1 почему не изображают свет и включение в темноту замкнутости пространства. Движение стены окно не симметрия как случайная прорезь даёшь ему достать от пола до потолка в различных формах цветного стекла которое восхищает людей и воздействует через свою передачу света. Регулярность часть буржуазного пространственного довольства дверь становится входом или побегом прочного в окружающую атмосферу которая окружает или остаётся брошенной. Кровля не ромовая баба и избегает бесформенности. Архитектура найдёт свою лёгкость без голой целесообразности. Всё изменчиво движет пространства умеренности границ нового человека который отдаётся этому.
Что, по мнению Дадасофа, скажет художественная критика о дада-выставке
Заранее подчеркнём, что и эта выставка дада представляет собой обыкновенный блеф, низкую спекуляцию на любопытстве публики – однако посмотреть её стоит. В то время как Германия сотрясается и дрожит от правительственного кризиса доселе невиданной продолжительности, в то время как съезд в Спа1 всё больше оставляет в неизвестности наш будущий жребий, – являются эти парни и создают безнадёжную тривиальщину из лохмотьев, отбросов и мусора. Столь декадентское сообщество, у которого отсутствует какое бы то ни было умение и серьёзное желание, редко когда ещё появлялось перед публикой в такой беззастенчивой наглости, на какую тут отважились дадаисты. У них ничему уже нельзя удивляться; всё гибнет в яростных потугах быть оригинальными; будучи лишены всего творческого, они бесятся в своём идиотизме. «Механическое искусство»2, имеющее развитие в России и могущее вызывать симпатию, – здесь бездарное и нехудожественное обезьянничанье, по своему исключительному снобизму и наглости противоположное серьёзной критике. Даже единственный талант среди этой орды, рисовальщик Гросс3, разочаровывает; как раз по нему становится отчётливо видно, куда может завести одарённого человека слабость характера и неспособность сопротивляться модному принуждению и жажде «новизны» – прямиком в болото скуки, в заблуждение пошлой бессмыслицы. О, Грюневальд, Дюрер и другие ваши великие немцы, что бы на это сказали вы? Всё, показанное на этой выставке, находится на столь низком уровне, что приходится удивляться, как художественный салон набрался отваги показывать эти поделки за довольно высокую входную плату. Пусть владельцу – возможно, введённому в заблуждение, – впредь будет наука, а над дадаистами да прострётся покров щадящего молчания!
Что есть дада?
«Знатокам искусства» слева и справа (“Die Rote Fane” и “Deutsche Tageszeitung”)
Дада в первую очередь есть честное желание показать без прикрас собственную внутреннюю ситуацию. Приукрашивание содержится в ключевых словах «человек – хороший»1 так же, как в “Deutschland, Deutschland über alles”2. В них выражается не примитивное, но абсолютно лживое, мошенническое стремление подменить либо «пролетарскую», либо патриотическую «культуру», которой не имеется в наличии. Этот сорт конструизма, который даёт возможность так называемому художнику чувствовать себя «ценностью в себе» и необходимым фактором просвещения для широких масс, отвергает дада. Дада – не народное искусство, дада это тактика ликвидации старого и подготовки (может быть) нового общественного договора. Искусство мыслимо только на основании широчайшей всеобщности, искусство есть договор. Дада – антиконвенционально, оно не позволяет себе жесты восседающего в облаках индивидуума, так называемого гения. Дада – это воля не быть гением. Дада – это разложение без слабости или растроганного прискорбия по «Закату Европы»3. Дада – без заката и подъёма.
ДАДА – палач буржуазной души.
Мы прекратим своё дада, как только наступит время дада4.
Объективное рассмотрение роли дадаизма
Когда говорят об искусстве, нельзя забывать: это только кажется, что в нём есть место позиции «башни из слоновой кости»1, надпартийного художника. Всё искусство всегда было партией – партией как раз тех, кто в это время господствовал; в Европе со времён греков это никогда не были пролетарии, ни разу «просто человек», а были короли, графы, господа, папы, банкиры и христианская буржуазия. Нельзя забывать, что художник из числа рабов или презираемых в древности, в Средние века и в начале Ренессанса становился ремесленником, который был организован в гильдию, и что развитие в гения, единолично восседающего на облаках и превосходящего других людей, есть лишь позднейшее изобретение. Но и гений творил внутри «искусства», то есть некой конвенции, которая постоянно использовала экономические, социальные, научные, технические основы своего времени – лишь с тем ограничением, что она служила исключительно имущим и была от них зависима. Ибо борьба гения против буржуазии и капитала вряд ли когда действительно затрагивала его «непонятость» – это непонимание уже давно было в большой моде, но эта борьба относилась лишь к сугубо персональной неспособности повыгодней для себя обустроить независимость от капитала; то был недостаток, вытекающий из отрыва от гильдии, и его следовало принимать как плату за свободную индивидуальность. Сегодня так называемый большой художник уже выработал технику, которая постоянно должна приводить его к признанию через капитал; в «массах» ему ждать нечего. Какая могла быть «священность» искусства, если художник поставлял негодяю свою «красоту», за которую в золоте платили зачастую втрое больше, чем за само произведение, – если художник как истинный паразит паразита чувствовал себя превознесённым на пару часов в атмосфере «истинного образования», которую он хотя и помогал сам же сотворить, но в которой из-за нехватки мелких денег и костюмов ему лишь изредка было позволено принять участие! Если представить себе однажды ситуацию, которую называют прорывом художника, это окажется не чем иным, как ростовщичеством худшего сорта, ловким обманом, который прикрывается святыми словами. Вот из «непонятого» сделали гения после того, как ему чуть было не дали умереть с голоду, – на основе коммерческих соображений какого-то капиталиста, который из того факта, что он обрабатывает бумагу, полотно или камень несколько ловчее, чем тысяча других, берёт на себя власть выдавать оценочное суждение, которое будет признано. Но господин художник не сделал ничего, кроме того, что понял: «священность искусства», «священность творчества» саму по себе можно сбыть за деньги, да что там, эти деньги сегодня и есть полный и действительный смысл искусства. Художники этого сорта знают, что они – за счёт того, что имеют рыночную стоимость, – представляют собой буржуазный фактор власти, и они трясутся за его сохранение; они смеют и поныне прикидываться, будто делают человеческое дело, которое можно назвать культурой, – в то время как точно знают, что сражаются не на жизнь, а на смерть, до последней капли крови лишь за буржуазное признание во взаимном пополнении банковского счёта! Что для них глубоко безразличны и народные массы, и искусство, и всякая человечность, и что они лишь используют всю болтовню об искусстве, культуре и интеллекте, чтобы скрыть свои истинные мотивы и лучше приспособиться к желаниям буржуазного капиталиста, которого они этой болтовнёй про l’art pour l’art1 (понимание которого будет поставлено ему в заслугу и честь) делают в своих целях послушнее. Это надувательство, которое дадаисты давно разглядели и механизм которого сами ради блефа применили по отношению к буржуазии, – этот обман применяется господами художниками всех направлений в равной мере, идёт ли речь о представителях академического искусства, импрессионистах, экспрессионистах или о ком-то ещё. Только вот самое омерзительное, в настоящий момент противное самому примитивному самопознанию дадаиста, – это разыгрывание фразы о «чистом творчестве», и громче всех её используют те люди, которые грязнее всего обманывают самих себя – господа экспрессионисты. Они, главным образом, лишь подражатели Кандинского и Пикассо, после десяти лет в «море новых форм» наконец-то ухнувшие в «соборный стиль»2, это люди без всякого другого убеждения, кроме одного, что их наконец-то достигнутая модерновость теперь есть также и самая важная вещь на свете. Эти господа постоянно говорят о «чистом искусстве», о «всемирной любви», о «строительстве» – будучи не чем иным, как совершенно неосознанной формой мелких эгоистов, обманывающих самих себя. Все «радикальные» художники сегодня последовательно присягают двум крайностям – «башне из слоновой кости» и «всемирной любви». Они ощущают себя либо эстетствующими властителями, либо, как большинство, коммунистами, и активно разрабатывают программы, смысл которых, если коротко, сводится к тому, что «изменение мира» наступит тотчас, если этот мир массово осчастливить их продукцией. Но это вовсе никакие не коммунисты, а лишь одичавшие обыватели. Это выходит на поверхность, как только прояснишь себе значение искусства внутри сообщества и спросишь себя, может ли быть вообще радикальное или революционное искусство, – что дадаист отрицает, поскольку видит в искусстве лишь известное, узко ограниченное поле деятельности человеческого желания, чьи периоды движения между большими периодами согласия он никогда не назвал бы революцией; да что там, дадаист даже усматривает в сбросе политических напряжений в картины или стихи размывание политической энергии, которого следует избегать. В ситуации борьбы народных масс он может желать лишь объективной ясности – но ни в коем случае не «радикального» или ещё какого-либо поэтизирования их энергий – провести классовую борьбу, вероятно, возможно и без лирики; дадаист видит лишь одну возможность подчеркнуть необходимость классовой борьбы – в сатире или в карикатуре, которые кажутся ему единственно чистым (художественным) вспомогательным средством. Поскольку искусство в Европе всегда было вентилем для отвода тоски европейца по той жизни, какой она не являлась, искусство было устроено вроде бы идеально; в действительности же оно всегда служило целям господствующих классов, помогало в том, чтобы их представления о собственности и о тактиках эксплуатации милосердно прикрывать вуалью красоты. Насколько мало было у «свободного человека» на самом деле «свободного, разумного Я», настолько же мало было свободно искусство, ибо искусство всегда является осознанным преобразованием действительности и чрезвычайно зависит от общей морали и права всего общества. Связанный с собственностью человек христианско-буржуазной Европы является средоточием священных законов своей трусости и боязни переживания и из этих слабостей породил трагическое искусство и культуру – он охотно сравнивает себя с Христом, который умер на кресте. Но как христианство есть полная противоположность Христу, точно так же недостоверна и эта трагическая нота в христианском, буржуазном искусстве и культуре, которые всегда были лишь насмешливой маской для смехотворной погружённости в мелкую, собственническую, ограниченную защищённость, и все фразы об искусстве, перебрасывающем мостики между классами и мирами в Европе, стали употребительны и встречали некоторое понимание лишь потому, что буржуа и художник, пожалуй, знали ценность этого надувательства как средства идеализации и спасения чести эксплуататора, который тем самым маркировался в качестве «мецената культуры». Экспрессионизм и сегодня призван служить в качестве отвлечения от неприятной современности успокоенному буржуа как средство стабилизации его существования, как нирвана из лживости миллионных прибылей, валютных спекуляций и саботажа производства, как «религия духа», потому что война проиграна, а художник – прохвост, который поставляет к этому средства и практику: с помощью экспрессионизма. Экспрессионизм есть не больше и не меньше, чем мировой перелом – лживость, жонглирование властью души́ взяли верх над военным, капиталистическим и буржуазным болотом, а дадаизм – осознанная тактика доведения до абсурда этого подлога, который притворяется, что он есть новый Веймар и воображает себя экономической аллеей победы. Возможность и право так называемого «абстрактного искусства», например, какого-нибудь Кандинского или Пикассо, дадаист не оспаривает, но они – исходные пункты, инициаторы ложных манёвров легиона подражателей, которые живут надувательством души и таким образом видятся дадаисту объектами, заслуживающими нападения. Дадаизм – переходная форма, которая тактически обращена против христианско-буржуазного мира и беспощадно изобличает смехотворность и бессмысленность его духовного и социального механизма. Это происхождение и обусловленность буржуазным обществом и культурой ставят в укор дадаизму и проклинают его как нереволюционный. Но при этом всегда упускают из виду, что пока ещё нет никакой пролетарской культуры, кроме буржуазной, да что там, сам пролетарий в основном буржуазно обусловлен и инфицирован – потому что он продукт буржуазного миропорядка. Однако революционирование пролетария – не есть дело быстроты или успеха одной лишь революционной акции, оно требует постоянной, очень тяжёлой работы по предотвращению обратного погружения пролетария в буржуазные привычки. Эту работу выполняет в области искусства дадаизм, который поэтому отвергает всякий выставленный напоказ идеализм или радикализм (искусства для искусства) и ставит во главу угла материализм имеющейся в мире и культуре ситуации. Дадаизм есть, ещё раз повторим, тактика революционного человека для ликвидации буржуазного афериста, который мыслит себя революционным на основе применения «чистых», «абстрактных» средств выражения; дадаизм есть осмысленная тактика разрушения отживающей буржуазной культуры, и как плохи те политики, которые не имеют никакого понятия о необходимости разбуржуазивания пролетариев, так и дадаист, который хотел бы угоститься «абстрактным» или «активистским» искусством, был бы ослом или аферистом вдвойне – ибо именно он понял необходимость и возможность воздействия конкретного и сатиры, именно он хочет действовать – он и действует! Его аттестат – правая пресса, только пролетарская пресса отвергает дадаиста, поскольку он не фабрикует революционной лирики. Но это означает – плохо понимать интересы пролетариата; это полная недооценка революционирующей работы, которую дадаист выполняет в области культуры. В разделении труда по типу буржуазной науки, буржуазной мысли или буржуазного искусства дадаист видит лишь пустую и наглую самоуверенность в объяснении мира, который выходит далеко за рамки возможностей понимания буржуазной позиции. А дадаист считает жизнь или переживание современности без исторической и осмысленной позиции по отношению к миру столь важными, он видит вещи настолько напрямую, что, возможно, а то и наверняка не может быть и не станет художником в сегодняшнем смысле. А чем ему стать, когда начнёт возникать пролетарская культура, ему покажет его мужественная искренность! Дадаиста запросто можно бранить буржуазным нигилистом: дадаизм есть центровое нападение на культуру бюргера!