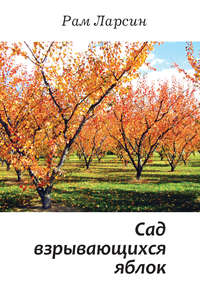Kitobni o'qish: «Сад взрывающихся яблок (сборник)»

© Рам Ларсин, 2016
* * *
Сад взрывающихся яблок
Дождь, широкий и мощный, полгода обходивший этот иссушенный край, внезапно хлынул с неба, и когда за тучами погас последний луч солнца, лицо Нины продолжало светиться каким-то таинственным сиянием – так по ночам, прикасаясь к ее телу, я думал, что оно излучает собственный теплый свет.
– Кончилось это страшное лето! – В ее глазах были слезы или капли, брызжущие через открытое окно. – Какое счастье!
И я не решился сказать ей о письме, которое получил сегодня, не мог омрачить этот ее радостный порыв, потому что она была моим солнцем, и она была моим дождем…
Я вспомнил это темной глухой ночью, ворочаясь без сна на жесткой казарменной койке. Нина побледнела, узнав, наконец, о повестке в армию. Должно быть, в мыслях ее возник образ моего отца, погибшего в стычке с чеченцами: для Нины они ничем не отличались от тех, что подстерегали меня здесь.
Ее страх невольно передался мне, я накричал на нее, а потом извинялся долго и основательно – благо было чем. И сейчас, засыпая, я думал о ее губах, груди, бедрах и о том, как странно говорят о ночи – глухая…
Отряд подняли с первыми всполохами зари, но Шломо, тощий йеменец с кипой на кудрявой голове уже ждал нас, держа закопченный кофейник над маленьким зыбким костром. Так исполнял он свою ежедневную мицву перед людьми и Богом, который, наверно, воздаст ему за этот ароматный глоток кофе холодным утром.
Появился самал, черный, полуголый, казавшийся в тусклом свете фонаря сбитым из простых геометрических фигур – круглая голова, треугольный нос, квадратные плечи. Окинув всех снулым еще взглядом, он произнес как заклинание:
– Авиноам!
– Мефакед? – вышел вперед рабат, грузный, приземистый и всегда хитро улыбающийся.
– Я вижу, без меня к нам новенького определили.
– Вчера прибыл. Парень исправный. Не то, что некоторые. Верно, Иоси?
– Иоси, Иосале! – повторяли на разные лады солдаты.
Я уже знал, что у нас, как во всякой уважающей себя части, есть мишень для грубого мужского юмора – рыжий малый с жалкой сморщенной физиономией еврея из штетла.
– Отставить это! – прервал общее веселье самал. Изящным жестом, какой трудно было ожидать от его тяжелой руки, он принял чашечку, пригубил и застонал, разнежась. Это, должно быть, придало ему силу воли взглянуть на меня:
– Имя?
Моя скрежещущая ашкеназийская фамилия произвела на него сильное впечатление. Он усмехнулся:
– Рабат, ну как ты будешь звать нового бойца?
Еле вырвав из себя первые звуки, Авиноам к концу стал задыхаться, чем привел начальство в отличное расположение духа. Глаза его снова обратились ко мне:
– Хуялта?
На это раз сконфузился я. Стоящий рядом Иоси подсказал:
– От ивритского “хаял”, в смысле полностью ли ты экипирован.
– Да, мефакед!
– Хорошо, Жреб-кор-ски, – тоже не без труда произнес самал, вызвав сочувственный смех подчиненных.
– Молчать! Вы лучше представьте себе, как звучат для русского ваши собственные фамилии: Эльбас, Молхо, Кадури, – командир исчез за дверью, очевидно, чтобы одеться, но, и невидимый, продолжал журить своих солдат, – Зилха, Элиа, Марьюма! Жалкая деревенщина, вы не способны понять культурного человека, как это, има шело – Жебер – Чебер, – он запнулся и вдруг мы услышали его громоподобный хохот, охотно поддержанный с этой стороны. Наконец, самал предстал перед нами, и я не узнал его. Затянутый под самую селезенку видавшим виды ремнем, холодно блестя безволосым черепом и вбитой, казалось, в мощную грудь планкой боевых наград, он был готов к любым передрягам, и голос его не предвещал ничего хорошего:
– Через полчаса выступаем. Сейчас – в столовую, пятнадцать минут на завтрак. Напоминаю: из строя не выходить.
– Можно, я пойду с тобой? – робко попросил Иоси. – Ребята все время пристают.
– А ты бы послал их подальше!
Тот махнул рукой:
– Не ведают, что творят, – и добавил на идиш. – Капойре!
Наш путь лежал мимо густых рядов фруктовых деревьев, меж которых сновали люди в белых куфиях. Следя за их ловкими движениями, мой новый товарищ сообщил:
– Граница проходит дальше, за холмами, но палестинцам разрешается обрабатывать их бывшие земли.
Я заметил:
– Чисто израильский парадокс!
Крепкий смуглый араб, несший плетеную корзину с яблоками, должно быть, понял эти слова и повел в нашу сторону острый неприязненный взгляд.
– Исмаил! – позвали его из глубины сада, и он исчез.
Тут из-за низких облаков вырвалось солнце, ярко осветив иосины красноватые волосы и почти такого же цвета плоды среди мягкой сияющей зелени. Вчера, в первый день моей службы было пасмурно, и я не мог оценить всю эту красоту.
– Чудесно, а? – улыбнулся Иоси.
Я сдержанно кивнул. Мне хотелось просто молчать и впитывать в себя пахнущий цветами воздух и давно забытую тишину.
Но Иоси был говорун:
– Знаешь, как-то в детстве родители повели меня на кукольный спектакль Образцова о первых людях. Помню, когда Ева протянула Адаму яблоко (некоторые считают, что это был апельсин), оно упало, лопнуло и из него посыпалась какая-то труха.
Моему терпению пришел конец.
– Послушай, ты никогда не делаешь пауз? Ведь это грубое нарушение драматургических правил!
Он сжался весь, увял.
– Извини… уже кончаю, – и продолжал несчастным голосом, – я, семилетний мальчик, был так разочарован, что и сейчас, когда вижу на деревьях апельсины или яблоки, мне представляется, что они бутафорские, потому что слишком красивы.
Наконец иосин крохотный рот перестал судорожно, как в мультфильме, сокращаться. Мы молча шли, чужие и замкнутые. Мне вдруг стало неловко, что я отношусь к нему не лучше, чем вся наша братия. Я-то сознавал, что передо мной необычная, сложная натура, и вместе нам будет легче пройти однообразную службу, но его жалкость, неуважение к самому себе отталкивали. И все же я сказал, тронув его поникшее плечо:
– Что ж, давай проверим. Может быть, это действительно камуфляж.
Я потянулся к спелому, нежно округлому, чуть ли не по-женски манящему плоду.
– Жеребчинский! – послышался сзади бдительный окрик самала, и хотя он, наконец, правильно выговорил мою фамилию, солдатам это по-прежнему показалось смешным, и Иоси тоже. Внезапно яблоко, облюбованное мной, взорвалось так театрально, невсамделишно, как, наверное, на иосином кукольном представлении. Но жгучая боль, пронзившая меня, и кровь на лбу и груди были настоящие. Алые капли соединялись в быструю упругую струю, которую я не мог остановить. В помутневшем сознании билась острая мысль: это она, это сама жизнь оставляет меня…
Вокруг были выстрелы, крики, дым. Падая, я увидел Иоси – он все еще продолжал смеяться, но как-то странно: все лицо его дергалось, губы корчились, а пальцы беспомощно хватали воздух. Потом он рухнул рядом со мной.
– Ты ранен? – пытался спросить я, он прошептал что-то, и я понял, что это всепрощающее… Капойре!
– Нет! – беззвучно, всем своим гибнувшим существом закричал я, и с тех пор эхо этого слова не умолкало во мне.
– Нет! – мое жестокое страдание не прощало ничего и никому: ни своей несчастной галутской судьбе, наделившей меня вечным, вездесущим врагом, ни рыжему Иоси, из-за которого, так думалось мне, я был ранен, ни даже Нине, единственно родному человеку на свете – это она потянула меня сюда, в страну взрывающихся яблок…
Но меньше всего заслуживали прощения врачи в госпитале, упорно трудившиеся над тем, чтобы извлечь из моей головы маленький осколок гранаты – таков был их диагноз. Не добившись ничего на первой операции, они снова принялись за мой несчастный мозг, и он содрогался от каждого прикосновения иглы или скальпеля. Боже мой, Нина предупреждала их, что у меня врожденная нечувствительность к наркозу, а они объясняли все моим слишком богатым воображением. Но в тот, второй раз, на вершине моей муки было мгновение, когда я понял, что умру сейчас и здесь, на операционном столе. И тогда – так, наверное, бывает перед смертью – мне открылась истина: хирурги… ох как больно… ищут кусочек металла… а на самом деле… господи, где взять силы… там просто… косточка… хватит, прекратите!.. от разорвавшегося яблока…
Они, должно быть, тоже признали свою ошибку, потому что внезапно оставили меня в покое.
И избыток наркоза в моем теле оградил меня от действительности…
Ах, этот сладкий покой, не нарушаемый никакими звуками, болью, ежедневными волнениями – он как тихая глубокая река нес меня куда-то, а вдали, словно на другом берегу, появлялись смутные образы, я узнал потом, что приходили друзья по студии и солдаты из части, а дальше, где течение бурлило, пенилось, мне чудилось… нет, не может быть… и все же… это был он, отец, который погиб от чеченской пули на переправе через горную речку, «Папа!» – замирая, крикнул я, но сестры разбудили меня к завтраку, я быстро проглотил еду и снова нырнул под одеяло, так в детстве мне удавалось досмотреть ускользнувший сон, и сейчас я так же лежал неподвижно, укрывшись с головой, но все было напрасно, как вдруг я опять увидел отца вместе с нашей маленькой семьей, мама играла ноктюрн Шопена до диез минор, а отец, не зная ни одной ноты, преображался и забывал обо всем, и оба они вздрагивали, когда клавиша западала, и отец обещал позвать настройщика, но не успел, потому что его призвали в армию, а мама ждала его и каждый вечер играла этот ноктюрн, пам-пам-пам с западающей клавишей, и дедушка, живший вместе с нами, требовал починить инструмент, а мама говорила, что это должен сделать отец, и дед тайком позвал кого-то, после чего фортепиано звучало прекрасно, но мама никогда больше не подходила к нему…
– Марк, хватит спать! – тормошила меня Нина. – Скоро врачебный обход.
Меня окружил ареопаг врачей, которые осматривали рану, изучали снимки, констатируя, что мое здоровье улучшается и что теперь нужно довериться матушке природе – ходить, дышать свежим воздухом и снова ходить. И я ходил под бдительным присмотром Нины, но быстро уставал и садился на скамью.
Стояла прекрасная весенняя погода, и все, кто мог, спешили вырваться из серых унылых стен на волю, под теплые лучи солнца. Вот бледная девушка, прислонясь к одинокой, как она сама, сосне, читает старую пожелтевшую книгу и украдкой вытирает влажные глаза. Поодаль за столиком несколько крепких мужчин играют в шешбеш, негромко ругаясь по-арабски. А сбоку, усевшись в удобных шезлонгах, два высоколобых старика решают проблемы, которые не успели решить за долгую жизнь.
– Трудно представить, – слышу я одного из них, – что спонтанные бездумные силы эволюции могли создать такое совершенное существо, как человек, – он понизил голос, когда мимо проходила Нина, – особенно женщину. Что вы думаете об этом, профессор?
– Что ж, насчет красоты должен согласиться с вами, хотя это вещь субъективная. Например, крокодил, умея говорить, сказал бы то же самое о своих самках. Но по поводу совершенства буду спорить. Ибо что это такое? Максимальное приспособление живого организма к постоянно изменяющимся условиям природы с единственной целью – продолжение рода. С этой точки зрения тот же крокодилес даст фору любому homo сапиенс, так как живет не изменяясь сто миллионов лет. То есть он уже с самого начала был приспособлен ко всем будущим изменениям природы. Это ли не самое похвальное, что можно сказать о животном?
– Господи, но ведь ему полностью чуждо главное – стремление к творчеству!
– А зачем оно крокодилу? Ему и так хорошо – все сто лет, которые он живет. Между тем для Бетховена музыка была ежедневным изнурительным способом выжить!
Его собеседник задумался, пораженный. Меня тоже удивила эта мысль, хотя приходилось напрягать все свое знание иврита, чтобы следить за рассуждениями профессора.
Но Нину волновало другое. Неподалеку, у цветочной клумбы, увядшей за зиму, расположились трое – женщина, мужчина с перевязанным плечом и девочка, очевидно, их дочь, беленькая, с большим бантом на кудрявой голове, словно из мультфильма.
– Вот выздоровеешь, – нинин голос дрогнул, – и мы тоже заведем такого ангелочка, а?
Внезапно девочка заплакала, мать, успокаивая ее, вынула из сумки и протянула ей что-то круглое, красное. От волнения я не сразу вспомнил, как это называется. Мне стало нехорошо. Весь дрожа, я кинулся к ним и выхватил этот страшный гибельный плод. Тут силы оставили меня, глаза застлал туман. На мгновение мне показалось, что я стою среди широкого яблоневого сада, зная, что сейчас все взорвется к чертовой матери…
– Марк! – донесся ко мне спасительный крик.
Туман стал расходиться, пальцы мои, державшие яблоко, вдруг ощутили, какое оно гладкое, нежное – и, казалось, совершенно без моей воли положили его перед испуганной девочкой.
– Прости, маленькая! – пробормотал я.
Нина, тоже извинившись перед всеми, потянула меня в палату, уложила в постель и села рядом.
Мы молчали.
– Скажи, – наконец, спросил я отчаянии, – что со мной?
А она все гладила мои холодные руки. Потом опомнилась:
– У нас гости.
Я увидел на пороге странного человека. Поколебавшись, он стал медленно приближаться – рыжий, низкорослый увалень, чья физиономия напоминала окорок, с которого резали мясо для шуармы.
– Марк!
– Иоси! – ахнул я.
Мы обнялись. Он несмело прикоснулся к моей голове, сжал плечо, щеки его были влажны, мои тоже.
– Меня только недавно перевели в Тель Ашомер для пластики лица, – сказал Иоси. – А сначала поместили в иерусалимскую Адасу лечить глаза. Я почти ничего не видел. Там и нашли меня ребята – самал и Шломо, рассказали, что были у тебя, но ты совсем плох, никого не узнаешь.
Нина, воспользовавшись паузой, проговорила:
– Мне нужно на работу.
Бесстрашно глянув на гостя, кивнула ему:
– Марк рассказывал о вас. Выздоравливайте! – и мне: – Я приду вечером.
Иоси печально смотрел ей вслед:
– Красивая у тебя жена. И чуткая: очень старалась не замечать мое уродство. Обычно я вызываю у женщин суеверный страх.
Мне не хотелось продолжать эту тему.
– Ничего, сейчас медицина делает чудеса, – обнадежил я его, удивляясь самому себе. – Будешь как новенький.
– Бэ эзрат ашем!
– Так-так… Я всегда подозревал, что ты тайно верующий. А кипа?
– Я не ношу ее. Признаюсь тебе одному: стыдно. Кипа, цицит стали чуть ли не символом обмана и лицемерия.
– И как это вяжется с твоим “капойре”?
– Понимаешь, простить можно маленьких бедных людей, которые грешат, чтобы выжить. Но не тех, кто, постигнув всю премудрость Торы, обманывают, крадут!
Я не унимался:
– Но разве не тот же твой Бог сотворил их такими?
Он склонился ко мне, словно собираясь открыть самое сокровенное, и я увидел, что огонь, опаливший лицо Иоси, как бы облагородил его: сжег то мелкое, жалкое, что было в нем когда-то:
– Я много думал об этом. Может быть, в начале времен Он хотел создать разумное существо, чтобы разделить с ним свое одиночество. Но первый человек, потом его потомки испугались могущества своего создателя и стали рабски хвалить его деяния, не возражая, не пытаясь предложить что-либо другое, пока Бог не решил, что это именно то, что нужно людям… Но так не будет вечно. Никто не знает этого лучше, чем люди простые и искренне верующие. Я слышу, как они тайно возмущаются жадностью и непорядочностью священников, и Бог не может не слышать этого. Близится время, когда Он вырвется из лживых пут раввинов и снова станет таким, как вначале: одиноким и справедливым.
Я засмеялся:
– Да ведь это Новейший, Третий завет! Первый, ТАНАХ, был довольно удачным, со вторым, христианским вышла большая неприятность для самого автора, а теперь ты со своей крамолой… Не боишься?
– Боюсь.
Иосин истерзанный рот пытался улыбнуться:
– Ну, со мной все ясно. Ты-то что?
Я задумался.
– Не знаю. До сих пор я избегал говорить с кем-либо откровенно. Нину не хочу расстраивать, другие не поймут. А с тобой можно: мы ведь братья по крови. Мне вдруг вспомнилось, что тогда, перед взрывом, я обидел тебя. Прости! Я теперь знаю, что ты не тот, каким казался всем нам.
– Капойре! Мы с тобой оба изменились, потому что в упор увидели ее, беззубую старуху, а это не проходит даром.
– Да. Раньше я был общительным, жизнерадостным парнем, любил поговорить с друзьями, даже выпить, а теперь хочу быть один, и если мне мешают, становлюсь нетерпеливым, грубым. Ящик на стене не включаю, потому что его постоянная тема – человеческая корысть, цинизм, похоть. Я… не люблю людей! Понимаешь, там, в саду это взорвавшееся яблоко погубило меня…
В иосиных глазах, лишенных ресниц, мелькнуло беспокойство:
– Марк, то была старая сирийская граната – так заявил самал.
– А, ты тоже не веришь мне, а я тебе верил! Помню твой рассказ о том, как в кукольном театре лопнуло яблоко Евы, набитое всякой дребеденью. Так что же, сейчас, в наше время трудно заложить взрывчатку в какой-нибудь плод?
Иоси был поражен:
– Ты меня дурачишь?
– Нет!
Я вдруг разволновался, рана под бинтами жгла, губы дрожали:
– Ты человек верующий. Неужели мои слова кажутся тебе менее правдоподобными, чем… чем… – мое возмущение вылилось в крик, от которого Иоси медленно отступал к двери, – чем то, что наши предки перешли вброд Красное море? Нет, ты такой же лицемер, как все!.. – я уже не знал, с кем и о чем я говорю, и совершенно обессилев, упал на кровать…
Вечером пришла Нина, сразу заметила мое состояние, и я, виновато отводя глаза, признался во всем.
– Надо обратиться к психиатру, – расстроилась она, – тут ведь лучшие из лучших!
– Нет, – я сказал то, что уже давно продумал. – Ты хочешь видеть меня дома? Так вот, если что-нибудь обнаружится, меня не выпустят отсюда…
Нина не знала, что ответить. Позже я попросил ее, как делал дома перед сном:
– Почитай что-нибудь!
– Знаешь, я спешила и впопыхах взяла что-то, не глядя, – она порылась в сумке. – Лорка! А нужно бы другое, полегче.
– Нет, очень хорошо, – кивнул я. – Найди это… как оно начинается… “ Хочу уснуть я…”
– Ну, самое мрачное!
– Ничего, точно под настроение. Я немного помню наизусть: “Хочу уснуть я сном осенних яблок…” Как там дальше?
Она нехотя полистала несколько страниц:
– И ускользнуть от сутолоки кладбищ,
Хочу уснуть я сном того ребенка,
Что все хотел забросить сердце в море…
– Тут идет очень страшное.
– Читай!
– Хочу забыть, как кровь томится в мертвых
И просят пить истлевшие их губы…
Нина выронила книгу.
Я кричал в нетерпении:
– Хочу забыть, как травы сердце жалят
И пьет луна змеиными губами…
– Дальше!
Слезы текли по нининым щекам:
– Вы на заре лицо мое умойте,
Чтоб муравьи мне глаз не застилали…
– Еще! – кричал я.
– Сырой водой подошвы мне смочите,
Чтоб соскользнуло жало скорпиона…
Я продолжал, гладя ее дрожащие плечи:
– Ибо хочу уснуть я, но сном осенних яблок,
И научиться плачу, что землю смоет…
Обнявшись, мы шептали в один голос:
– Ибо хочу остаться в том ребенке смутном,
Что все хотел забросить сердце в море…
Стало тихо. Ни звука не было в огромном здании.
– Теперь иди, тебе рано вставать. Вы все еще не закончили эту башню в Тель-Авиве? Утром не нужно приходить, ты не можешь быть здесь и там.
Поцеловав меня, Нина исчезла…
Ночь прошла в каком-то больном, горячечном сне, а проснувшись, я занялся единственным своим делом – ожиданием прихода Нины…
В сущности, я всегда ждал ее с тех пор, как встретил там, в стране нашей юности, где мы виделись тайком, потому что она была дочерью известного архитектора, а я только делал первые шаги на телевидение. Нину, наверное, поразила моя дерзость: прячась от всех, я снимал фильм об озере Лазурном, преступно засыпанном, чтобы на его месте возвести виллы для нашего бомонда. Сюда входила и нинина семья, и своенравная девчонка была не прочь досадить собственному отцу, который всегда смотрел свысока не только на чужих, но и на своих близких. Да и я натерпелся от ее характера. Скучая среди своих богатеньких сверстниц, она отыгрывалась на мне – могла назначить свидание на какой-нибудь заброшенной безлюдной окраине, и когда я, злой, весь в снегу или насквозь промокший от дождя, собирался, наконец, уходить, Нина возникала передо мной, невинно улыбаясь. Но в тот памятный вечер она не пришла вообще, и я решил, что с меня довольно. Мое оскорбленное эго кипело, а тело требовало сатисфакции…
Их дом был построен отцом по последнему крику зодчества: парадный вход под неотесанной глыбой камня, словно падающей на впечатлительного гостя, стеклянная, выходящая в сад гостиная с картинами импрессионистов, умело скопированными местным художником, высокие крученые люстры, скорее затенявшие, чем освещавшие пространство.
Прокравшись по узкой тропинке за спиной хозяйки, которая как бы плавала в огромном аквариуме, я постучал в подвальное окно.
Нина растерялась, обрадовалась, помогла спуститься вниз, и я подумал, что она, наверное, очень огорчает модерных родителей своей естественной и какой-то изящной простотой. Милое, светлое ее лицо ничем не напоминало холеричные физиономии Гогена, мягкая круглая шея – длинные индюшачьи горла Модильяни, а стройное спортивное тело – похотливую плоть пикассовых женщин.
– Прости, что не пришла, – без всякой неловкости сказала она. – Мне нужно срочно окончить одну деталь. Дай мне четверть часа, а?
Она повернулась к столу и продолжала лепить что-то на изогнутом металлическом каркасе, поминутно запахивая халат, слишком большой для нее, старый и весь в прорехах, отцовский, мелькнула догадка. Внезапно я почувствовал легкое головокружение от мысли, что кроме этого на ней нет ничего.
– Ну, на сегодня хватит, – вздохнула Нина, – мне только нужно переодеться.
– Зачем? – глухо сказал я. – Твой халат очень экзотичен. Может быть, я уже заслужил право видеть тебя не только через эти рваные дыры?
Она испугалась, а меня разрывали самые противоречивые чувства: еще не остывшая обида, которая толкала меня немедленно уйти, и в то же время желание ее близости – все это вдруг вылилось в горькие слова:
– Впрочем, кто я тебе? Ты можешь запросто забыть о нашей встрече, когда лепишь что-то… Кстати, что это такое, черт возьми?
Нина готова была возмутиться, но вдруг замерла, словно поняв, что давно ждала подобной вспышки.
– Это моя дипломная работа – рыцарский замок, окруженный крепостной стеной. Вот он в подлиннике, – она протянула мне книгу, раскрытую на старинном рисунке.
– А крест у ворот тоже останется? – мой взгляд задержался на Иисусе, окровавленном и поникшем. Нина рассеянно улыбалась:
– Нет, хотя мои родители будут рады любому упоминанию о том, что евреи распяли Христа.
– Римляне! – упрекнул я ее.
– Все равно. Ведь ему было страшно больно.
Но меня уже не интересовала история:
– Смотри, ты вся в гипсе, – говорил я, вытирая ее пальцы, словно измазанные мукой, и темной му’кой наполнялось мое тело.
Нина, внезапно лишенная воли, пыталась продолжать свои объяснения:
– Крышу замка завершат две башенки, да, обнял я ее, добавив, круглые и очень гладкие, она оседала под моими руками, а в саду будет тенистое озеро, озеро, повторил я, и, склонившись, стал целовать ее открытые колени, которые отчаянно сжались и будто окаменели, что, что, спрашивал я, она задыхалась, не знаю, что делать с ними, и я, дрожа, помог ей, впервые открыв таинственный, трепетно-беззащитный мир женщины, и замер, страшась разрушить все это своей грубой силой, милый, прошептала она, плача, не жалей меня, будь… как римлянин, и содрогнулась от моего внезапного натиска, а потом все смешалось – крик и кровь, ее и того, на кресте, и она лежала, раскинув руки, пока я распинал ее, стыдясь своего счастья…
То была сказка, и ничто не омрачало ее – ни то, что мы должны были встречаться в подвале, ни отсутствие денег. Все теперь зависело от фестиваля в Москве, куда я послал свой фильм о нашем прекрасном, но уже несуществующем озере. Я начал снимать его давно, завороженный красотой этого места, а потом лихорадочно продолжал, почуяв, что здесь совершается неладное. Вот первые кадры: широкая водная гладь, куда горожане приходили всей семьей отдохнуть от жары, пыли и шума, нырнуть в прозрачную глубину, поймать, если удастся, юркого зеркального карпа или просто раскинуться в тени высоких тополей, роняющих мягкий пух.
Появляются титры:
Озеро “Лазурное” – территория 34 га, длина 800, ширина 400, глубина 4 метра.
Мой голос за кадром:
«Однако есть люди, которые отдыхают не здесь, а на Лаго Маджоре или Комо, возвращаясь осенью в свои дома – дома, а не виллы, как в Италии, потому что земли у нас маловато. Поэтому хозяева города решили озеро засыпать, спустив воду в долину, и построить здесь тоже что-нибудь европейское».
На экране – обнажившееся дно, где корчится, судорожно хватая воздух, серебристая рыба, а в небе печально крякают утки, улетая в лучшие края. И только пара белых влюбленных лебедей не может подняться вслед за ними. Я ловлю их камерой, но они прячутся в зарослях камыша – там их потом нашли, безжизненных, со сплетенными длинными шеями, словно они удушили друг друга…
Потом настало время бульдозеров.
Титры: бульдозер – это машина весом в 17 тонн, шириной 2480 мм, высотой 1200 мм, назначение – разработка и транспортировка грунта.
Мой голос:
«Под грунтом имелись в виду таинственные поляны среди широких кустов темно-красной малины, ручеек, бодро зовущий в неведомую даль, первобытно пахнущая трава с россыпью скромных ромашек, над которыми грозно парит мохнатый шмель – вся эта цветущая чаща, хранимая, как стражами, высокими тополями».
Титры: тополь – это дерево семейства ивовых, высота 60 м, диаметр ствола более метра, живет до 80 лет, некоторые до 150.
Мой голос:
«Впрочем, этим стражам вскоре самим понадобилась защита, потому что их тоже решено “транспортировать”, подкопав сильные заскорузлые корни, и вот они медленно склоняются, цепляясь за небо бессильными ветвями, и падают с жалобным гулом.
Только самый большой из них не поддается лесорубам, смеясь над ними серебряной листвой, пока его не связали тросом с двумя тракторами и стали тянуть вниз, как пигмеи великана, и он застонал страшно и все-таки не упал, а разорвался поперек мощного тела.
Шел вечер. Усталые люди решили окончить работу завтра, а насмерть раненое дерево, поправ свою гордость, стонало, прося избавить его от невыносимой муки. Но никто не повернул назад».
Титры: человек – это…
Мы долго искали точное определение, но не нашли и закончили фильм большой паузой.
Эта пауза разразилась телефонным звонком из Москвы: один из членов фестивального жюри, который когда-то был моим преподом в институте, поздравлял меня с удачным фильмом, который, к сожалению, не был отмечен призом. «Ты знаешь причину», – утешил он меня.
Впрочем, в нашем городе я стал знаменит, хотя местные власти не простили мне моих разоблачений. Передо мной и Ниной, теперь уже моей женой, закрылось все – и моя телестудия, и ее отчий дом, и архитектурный факультет, который она не смогла окончить. Выход был один: Израиль, странный край, поразивший меня невероятной жарой и такой же свободой, и красными, сочными, взрывающимися в лицо яблоками. И хотя взрыв этот случился много позже, когда у нас уже была работа, дом, друзья, но в искаженной моей памяти осталось не это, а последние полгода, проведенные в госпитале Тель Ашомер, среди белой пустыни простыней, беспощадных пальцев хирургов и обязательного голоса Нины: профессор Бен Яков, вы обещали посмотреть мужа!
– Что ж, обещания иногда выполняются, – строго улыбнулся тот, – и именно сегодня.
Главный хирург Бен Яков не доверял подчиненным. Обычно он мирно проходил по коридорам своего обширного владения и вдруг врывался в какую-нибудь палату, что было совершенной неожиданностью для всех, кроме его ассистентки Шош. И вот они возле моей кровати, он – большой, с развевающимися седыми волосами, она – беленькая, почти прозрачная, которую он выбрал из всех, потому что любил анекдоты о блондинках.
– Посторонних прошу удалиться! – протянула девушка, и так как она смотрела на меня, мне показалось, что посторонний – это я. Нина же и не думала уходить.
Шош подала профессору мою папку.
– Что ж, – с удовольствием сказал тот, когда бинты были сняты – мне и смотреть нечего: моя работа, я знаю здесь каждый миллиметр. – Его широкая рука как-то по собственнически касалась моего черепа. – Дело идет на лад. Швы сошлись прекрасно. Ну, а что нам говорят последние снимки? Все очень чисто, поздравляю нас обоих. Я думаю, вас пора выписывать.
Он был очень доволен:
– Знаете, успех операции заложен в пальцах хирурга. Они должны быть сильными и чуткими, как у хорошего виолончелиста. Помните “Элегию” Маснэ: А-а-а, а-а, а-а-а, – пробасил он, но заметив, что ассистентка уже разложила какие-то бумаги, перешел к прозе:
– Итак, пиши: внешняя ткань выглядит совершенно здоровой…
Тут в дверь заглянула большая толстая эфиопка и, стараясь быть незамеченной насколько это было возможно при ее габаритах, покатила к дверям тележку с остатками завтрака.
– А яблоко? – добродушно попенял ей врач. – Оно совсем нетронутое. Да это самое полезное из всего, чем здесь кормят!
Он засмеялся, а меня охватил озноб, когда красный сочный ионатан плавно скатился из руки санитарки в мою онемевшую ладонь.
– Продолжим, – Бен-Яков вернулся к медицинскому заключению, – швы зажили, зажили, повторяла девушка и в тоже время исподволь наблюдала за мной, а я весь дрожал, обжигаясь этим проклятым яблоком, профессор, тихо сказала ассистентка, обратите внимание на пациента, не отвлекайтесь, одернул ее тот, рана на снимках почти не заметна, Нина, помоги мне, беззвучно кричал я, медленно погружаясь в какую-то темную пропасть, и она, все видя и понимая, в отчаянии толкнула стакан, стоящий на столе, вода выплеснулась на белый лист бумаги, ах, боже мой, воскликнул Бен Яков, какие только анекдоты не слышишь о блондинках и все удивляешься, Шош вытирала глаза и стол, яблоко между тем покатилось на пол…
– Ладно, – успокоил ассистентку отходчивый профессор, – потом перепишешь и принесешь мне.
Глянув на меня, Бен-Яков проговорил:
– Я вижу, вы расстроены, молодой человек? Успокойтесь, это займет еще денек-другой.
Оба они, как и в начале визита, бесшумно проплыли мимо, а огорченная Шош еще раз кинула в мою сторону тревожный взгляд, словно не в силах отрешиться от какой-то странной мысли…
Опустошенный, я рухнул на кровать.
– Так вот что чувствуют преступники! – мрачно проговорила Нина…
Назавтра она уже была в другом настроении.
– Мне позвонили, что тебя выписывают! – крикнула она с порога.
Потом в дверях появился высокий, плечистый парень.
– Машина будет у выхода, – улыбаясь Нине, сказал он, и я вдруг понял, что она, наверное, очень хороша, моя жена, но понял это умом, а не сердцем. Незнакомец кивнул мне и отступил в коридор.
– Наш новый сосед, Сергей, – пояснила Нина, помогая мне одеться. – Он иногда подвозит меня. Ты ведь знаешь, наше старенькое ”Пежо” очень капризно.