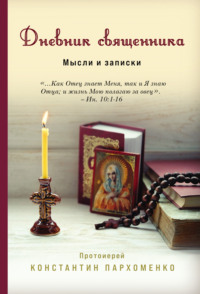Kitobni o'qish: «Дневник священника. Мысли и записки»
© Пархоменко Константин Владимирович, текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
От автора
Перед вами дневник обычного приходского священника. Я служу в Санкт-Петербурге, в городском храме. Совершаю Божественную литургию, духовно окормляю1 людей, крещу и отпеваю, преподаю детям и взрослым, несу другие послушания моего священноначалия – словом, занимаюсь всем тем, чем занимается любой из 30 тысяч священников Русской Православной Церкви. После службы – по магазинам, потом время для детей: со старшими учить уроки, с младшими играть в куклы и машинки. Жизнь моя не насыщенней и не интересней, чем жизнь других моих собратьев-пастырей, а в отношении мудрости, глубины веры или духовности бóльшая их часть оставит меня далеко позади.
Первые годы моего священства я, как юный муж, не могущий насытиться молодой супругой, просто наслаждался Служением и ничего из увиденного и пережитого не записывал. Потом поймал себя на мысли, что был свидетелем множества потрясающих историй, что многое из услышанного, прочитанного, понятого как-то отозвалось в душе… И все это забылось.
И тогда я решил записывать все, что покажется интересным и важным. Так родились эти записи.
Почему я позволил себе огласить некоторые беседы, случаи, ситуации, поведанные мне? В этом отношении я руководствуюсь словами Писания: «Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально» (Тов. 12:7).
Не рассказать о чудесах Божиих, пусть даже личных, мне кажется не совсем честным. Всем поведать и прославить Бога!
Нередко в пастырской деятельности бывают случаи, когда прихожане, рассказывая о чем-то, просят, чтобы это осталось «между нами». Эту просьбу я всегда выполняю. Рассказов о том, о чем просили хранить тайну, в этой книге (как и в других) вы не найдете.
Очень часто я ловлю себя на мысли, что обычный человек совершенно не представляет себе настоящей, подлинной жизни священника. А мы, священники, обычно мало говорим о своем служении. Это происходит потому, что наше общение с людьми часто происходит на духовническом уровне, то есть на уровне доверительно-исповедальном. Нельзя разглашать поведанное тебе в полутьме храма, перед Крестом и Евангелием. Отсюда и вырабатывающаяся у батюшек привычка помалкивать о своем служении или отмахиваться: ну служим, Богу молимся, да что тут говорить…
Признаться, и мне нелегко было решиться записывать что-то, относящееся к моему духовничеству. Я много раз тщательно просматривал свои записки, чтобы исключить нарушение тайны исповеди или не выдать чьих-то личных секретов. Кажется, мне это удалось.
Мне показалось, что то, что я писал на память для себя, может оказаться интересным, полезным и другим. А главное, вы сможете приоткрыть для себя внутренний мир человека, предстоящего у престола и ежедневно исполняющего свои пастырские обязанности.
Когда я подумал, что мои записки, мой дневник может оформиться в книгу, мне захотелось назвать ее так: «Бог есть!»
Да, есть! И Он в нашем мире, в нас с вами, действует самым активным и видимым образом, и вы об этом сейчас прочитаете. То, что Бог есть, открыл я еще подростком и потом только укреплялся в этой мысли. Настоящим клондайком, подарившим мне множество золотых самородков – знаков присутствия Божия, – явилось мое священническое служение. До того как я стал священником, я и думать не мог, что Бог так зримо, так ощутимо участвует в наших судьбах, что Он, как мать, нежен и заботлив с нами, как отец, терпелив и мудр.
Но я видел и испытал это сам! Я общался со множеством людей, которые рассказывали мне удивительные вещи. Я лично пережил то, о чем только читал в книгах. Например, что такое благодать Божия, когда ты переживаешь состояния, которые можно описать только выдохом: «Рай», – или что такое на практике бесовские нападения и страхования…
Пастырское служение, которое во многом состоит из общения с людьми, дает много поводов улыбнуться. Уверяю вас, моя улыбка добрая, я никогда не смеюсь над людьми и, приводя какие-то курьезные случаи, скорее умиляюсь простоте и непосредственности моих героев. Юмор – великая вещь. Известно, что диавол хочет, чтобы мы не смеялись; он хочет убедить нас, что все в мире трагично и безвыходно. Но Бог учит нас иначе относиться ко всему происходящему: улыбнуться, спокойно предать себя в Руки Божии и продолжать смиренно и охотно нести свой крест.
Старый протодиакон…
– Лысый, как коленка, – смеялся старенький отец протодиакон и поглаживал свою голову, действительно лысую, как бильярдный шар.
Он вообще весь был лысый, ничего не росло и на лице. Но отец протодиакон не унывал. Был весел, общителен, любил ходить в гости, не дурак был выпить, хотя ему было под 80, знал массу интересных историй и охотно их рассказывал. С ним и самим вечно приключались курьезные истории, достойные пера Лескова.
Вот и сейчас он, смеясь, рассказывал, как его вчера… обокрали. Был в епархии, а дома осталась старуха-экономка. Она помогала отцу протодиакону прибраться, готовила поесть. Хорошая старушка была, но абсолютно глухая. И вот, переделав все свои дела, она легла подремать.
Стандартная однокомнатная хрущевка, первый этаж. Воры стучали, желая выяснить, есть ли кто в квартире, – соседи слышали. Потом, удостоверившись, что никого нет, выставили окно (в 1990 году воры особенно не церемонились). Залезли в квартиру – и остолбенели: старушка лежит. Присмотрелись: сопит ровно. Похлопали над головой в ладоши – не реагирует. Ну, воры и обчистили квартиру, утащив все мало-мальски ценное. И ушли. Приходит отец протодиакон. А тут и старушка проснулась. Идет к нему и рапортует:
– За ваше отсутствие никаких происшествий не случилось…
Отец Анатолий (так звали нашего героя) входит в комнату и застывает. А за плечом его разинув рот стоит старушка. Все выворочено и разбросано…
Всю войну отец Анатолий прошел в звании рядового. Был и ранен, и контужен. После войны решил посвятить свою жизнь служению Богу, тем более что с детства был верующим, обладал прекрасным голосом. Вернулся в Пермь, прислуживал у владыки и через какое-то время был рукоположен и направлен в деревню. На приходе отец диакон совершенно очаровал старушек статностью и приветливостью.
Общительный отец диакон близко сошелся с местным батюшкой, молодым человеком (едва за 20). Батюшка был хрупким, застенчивым и смиренным. Служили они исправно. Диакон грохотал своим голосом, так что дребезжали стекла в старых киотах, батюшка возглашал тенором. Потом батюшка читал по старинной книге проповедь, а бабушки, усевшись на лавки, стоявшие у стен и покрытые ковриками, связанными из лоскутков ткани, вздыхали и крестились:
– Спаси ж тя, Господи.
Иногда в храм заходил местный уполномоченный. Исподлобья все осматривал, втягивая ноздрями воздух, совался за перегородку, в подсобку:
– Кто разрешил чайник греть?
– Дак бабушкам после службы чайку…
– Я вас закрою за несоблюдение пожарной безопасности! – грозил он.
Куда там закроет: все знали, что послабление вере вышло во время войны. Сам товарищ Сталин разрешил открывать церкви и даже открыл в Москве и Ленинграде семинарии. Куда тут уполномоченному закрыть храм.
Бабушки любили батюшку и приносили ему гостинцы. А чем порадовать священника? Вареньем. Вот и носили ему варенье. Одна принесет баночку, другая… Священник варенье не ел, матушка его ела мало, а детей не было. Варенье ставили в кладовку. Складывали да складывали и обнаружили, что места больше нет.
А оно уже и засахарилось. Что делать? Выбрасывать? Жалко. Поделился священник с кем-то своими мыслями, а тот человек говорит:
– Батюшка, а давайте я вам самогонный аппарат достану. Так вы это варенье перегоните в самогонку.
Так и сделали.
Получилось две большие бутыли крепчайшего самогона. Но что варенье никто не ел, так и самогон никто не пьет. Там же, в кладовке, эти бутыли и стояли.
Однажды пришел в гости диакон. После службы он всегда заходил пообедать к батюшке в гости. Помогал матушке накрыть стол да приметил в кладовке какие-то бутыли:
– А это что?
– А это самогонка, – отвечает матушка.
– Как же, так много?.. – опешил диакон.
– Да мы варенье перегнали.
Подумал диакон, пожевал губами – и решительно:
– А можно попробовать?
– Пожалуйста, отец диакон, пробуйте, лишь бы на здоровье.
Отлил диакон себе немного, взял в рот, посмаковал. Просиял:
– Отличная самогонка! Можно я себе накапаю стаканчик?
– Да Бога ради.
Налил себе стакан да перед обедом и выпил. Так и повелось. Идут обедать – диакон сразу нырк в кладовку и наливает себе стаканчик самогонки. И закусывает там щами или чем придется. Поспит часок у батюшки в соседней комнате и домой идет.
В день Преображения Господня людей в церкви было особенно много. Бабушки несли в корзинах фрукты, после освящения щедро отсыпали батюшке крепких садовых яблок, делились медом и ягодами. После службы, когда все требы окончились, батюшка с диаконом взялись нести все домой, а двое старушек – им помогать.
Ну, пришли к батюшке домой, выгрузили фрукты, собрались было уходить и тут смотрят, как диакон нырнул в кладовку и там что-то булькает. Показался со стаканом в руке. Глаза блестят от предвкушения удовольствия.
– Что это, отченька?
– Это? – задумался диакон… – Это святая вода. Завсегда люблю после службы стаканчик святой воды выпить.
– Отец Анатолий, иди сюда, помоги! – кричит батюшка с улицы.
Отец Анатолий выпил, хрустнул яблоком и вышел.
– Что мы там с батюшкой делали, не помню, – рассказывает он, – но слышим вдруг: грохот и крик. Баба, одна из тех, что пришла, заголосила. Мы в дом. Одна старушка лежит как мертвая, другая над ней голосит. Главное, на минуту вышел… Ну, бабы, везде нос свой сунут.
Оказывается, как только отец диакон вышел, старушки тоже решили «святой водички» попить. Налили стакан, да одна его в рот и опрокинула. Как будто расплавленное олово в рот попало. Помутилось в глазах, перехватило дыхание. Еще бы, 70-градусный самогон. Она и упала. А вторая думала, что померла подруга, испугалась и ну кричать.
Привели бабушек в чувство, накормили обедом, наказали молчать, да куда там. Все понимали, что скоро последняя собака в деревне будет знать, что у батюшки огромные бутыли с самогонкой и что из-за них чуть не померла его прихожанка.
Батюшка был очень сердит на диакона. Когда стемнело, он выкатил по очереди эти бутыли, перекатил через дорогу и опрокинул над канавой. Диакон умолял:
– Отец, не переводи, это грех…
Но священник был непреклонен. За первой отправилась вторая бутыль, самогон потек по канаве, над улицами поплыл характерный запах.
А на рассвете на улице раздались крики. Батюшка выглянул в окно. Местные мужики бежали к небольшому озеру. Батюшка поспешил за ними. В озере, лениво шевеля плавниками, у самой поверхности плавала рыба. Когда пытались взять эту рыбу, она даже не сопротивлялась, лишь лениво поворачивалась на другой бок.
– Что с ней? – недоумевали мужики.
Батюшка задумчиво теребил бороду. Он знал, что рыба попросту… пьяная.
…Зимой 47-го гайки начали закручивать. Видимо, в Кремле поняли, что народ слишком расслабился. Опять начались аресты… Однажды, постом, вызвали диакона. Местный чекист, тыкая фронтовику, показал папку:
– Тут достаточно, чтобы тебя засадить надолго. Эх, жалко, расстрел отменили… Но можно поступить иначе. Ты будешь нам рассказывать. О попе вашем, о прихожанах: кто что говорит и т. д.
Подумал диакон – и махнул рукой:
– Ладно! Согласен.
Чекист аж привстал от удивления: вот так удача!
– Чтобы через неделю был отчет.
Диакон наморщил лоб:
– Сейчас службы у нас. Да я вообще не шибко-то писать. Я вот что: две недели буду наблюдать и спрашивать. Потом, после Пасхи, – к вам, и все расскажу.
Чекист подумал:
– Хорошо, пусть две недели. Но смотри мне!
После Пасхи диакон сидел в том же самом кабинете и улыбался:
– Я передумал.
– Как передумал?
– Да так. Не могу я ни про кого ничего докладывать…
Чекист выкатил глаза, впервые встречаясь с такой наглостью:
– Так ты и не собирался?..
– Если честно, то и не собирался.
– Зачем же ты, контра недобитая, голову нам морочил?..
– Так хотел послужить. Такие службы: Страстная, Пасха. Как же церковь без службы оставлять?.. Поголосить-то было надо…
…Бороду и волосы на голове отцу диакону вырвали на допросах. Он держался молодцом, никого не оговорил, получил максимальный срок. После смерти вождя народов вернулся в епархию. Владыка назначил диакона на новое место. А к прежнему батюшке, уже поосанившемуся за эти-то годы протоиерею, диакон приезжал в гости.
Волосы так и не отросли, а впереди была еще большая жизнь.
– Ты, батюшка, – обращался он к моему духовнику, к которому часто заходил чаевничать, – плесни еще на полпальца настоечки: я сейчас такое расскажу…
…
Я никогда в жизни не думал, что свяжу свою жизнь с Церковью. Я был неверующим школьником, пионером и комсомольцем. Был даже секретарем комсомольской организации и шокировал весь педсовет тем, что пригласил в школу, в актовый зал, «настоящего попа». В конце 80-х это уже было можно, но все равно было странно: священника приглашала… комсомольская организация школы. Но к тому времени я уже уверовал.
Я много думал, что явилось причиной того, что я, насмешливо относившийся к Церкви и брезговавший даже переступить порог храма, где «ветхие старухи в клубах кадильного дыма гнусаво тянут псалмы», вдруг уверовал. Я думаю, тому были две причины. Первая – Новый Завет, который я взял в руки.
Мой отец журналист. И вот весной 1988 года перед приближающимся Тысячелетием Крещения Руси ему было дано редакционное задание взять интервью у местного владыки. И епископ подарил отцу карманного формата Евангелие, выпущенное на папиросной бумаге какой-то заграничной миссией. Помню, как папа принес эту книжечку домой и я впервые взял ее в руки. Я начал читать, и как будто в душе открыли какие-то форточки, окна. Я глотал свежий воздух Слова Божия и не мог насытиться. Ничего прекрасней и мудрее я в жизни не читал.
И второе – это беседы с одной верующей пожилой женщиной. Можете себе представить, что эта деревенская женщина в конце XX века НЕ УМЕЛА писать! Но она имела такую большую веру, она рассказывала о таких дивных действиях Божиих, что это просто перевернуло меня.
После прочитанного Нового Завета, после общения с этой женщиной я совершенно точно понял, что прикоснулся к какой-то огромной, неведомой мне реальности. С колотящимся от страха сердцем после этого я переступил порог храма.
С тех пор в храм захаживал. На двадцать минут, на полчаса. Покупал и ставил свечи. А потом уходил. Я все не мог подступиться к настоящей церковной жизни.
В 1989 году мы с моим отцом гуляли по городу. Увидели какой-то митинг, подошли ближе. Это был типичный перестроечный митинг, которые в то время возникали везде. Говорились правильные вещи, звучали такие слова, как «гласность», «демократизация», «возрождение русской культуры». Среди выступавших был священник. Он обратился к собравшимся примерно с такими словами: «Вот мы много и правильно тут говорим о возрождении того, что утеряли за годы советской власти. Но нужно не только говорить, а и делать. И начать можно с малого, с того, что по силам, что на расстоянии вытянутой руки. Вот недавно Церкви передали храм на кладбище в центре города. Вы знаете эти страшные загаженные руины (горожане устроили из развалин храма туалет. – Свящ. К. П.). И теперь мы своими силами пытаемся восстановить храм Божий. Что толку от всей этой нашей говорильни, если мы не попытаемся сделать то, что реально можем сделать. А мы можем засучить рукава и прийти в храм и помочь в его восстановлении».
Эти слова запали мне в душу. Через несколько дней, вернувшись из школы домой, я поехал на кладбище. Я пришел в храм и предложил свою помощь. Так меня приняли в рабочее братство.
С того времени почти каждый день я ехал в храм, чтобы потрудиться. Я надевал настоящую тяжелую телогрейку, сапоги, какие-то брезентовые штаны и трудился вместе с другими рабочими. Это было удивительно: я делал самую грязную работу, к которой в прежней жизни не привык, но воспринималась она как священная. И не только нами, рабочими. Так к нашей строительной работе относились и окружающие (а может быть, и нет, но мне тогда так казалось). Бабушки приносили нам, рабочим, вкусные теплые пирожки и сладкий чай в термосе, прихожане подходили и говорили добрые слова, симпатичные девушки, забежавшие в храм поставить свечку перед зачетом, поглядывали на нас с интересом. И храм в прямом смысле восставал из небытия.
Тогда же я в первый раз исповедался и причастился.
Как-то, когда я уже был священником, меня попросили написать в детский журнал о первой Пасхе в моей жизни.
Журнал этот так и не вышел, а очерк – вот он, сохранился.
Моя первая Пасха
Первую Пасху я встречал в 1989 году.
И, как ни странно, она запомнилась больше других, хотя ничем особенным не выделялась.
В другие годы и в другие Пасхи было много куличей, яиц, вкусной снеди, море подарков, много шума, суеты…
Когда я учился в Духовной Семинарии, мы под Пасхальное утро ходили на старинное кладбище Лавры. Там ставили зажженные свечи на всех могилах и, разбредясь по кладбищу, пели: Христос воскресе из мертвых… И сердце переполнялось совершенно особым чувством: казалось, что с благодарностью нам к этому празднику присоединяются и все погребенные на кладбище.
А другие Пасхи были в Казанском кафедральном соборе в Петербурге. С нами в храме стояла коляска с любимым ребенком. И когда мы подносили младенца к причастию, малышка щурилась от яркого света.
Пасхи Троицкого Измайловского собора, в котором я теперь служу, – на полной самоотдаче.
Но первая моя Пасха была другой.
Я помогал в восстановлении Успенского храма, который находился на старинном пермском кладбище. В свободное от учебы в школе время приходил в храм, надевал телогрейку, испачканные цементом штаны, которые, казалось, могли стоять, огромные солдатские сапоги – и начинал работать. Вернее, я выполнял «послушания» рабочих: привезти воду, замесить раствор, что-то выкопать и т. д.
И вот – Пасха. И меня родители отпускают на ночную службу. Впервые! На всю ночь!
Попил чаю с сухарями. Надел белую выглаженную рубашку. На троллейбусе поехал в храм. Со мной в десять вечера усталые горожане, что спешат домой, и старушки, которые едут туда же, куда и я.
Выхожу. В глубине кладбища сверкают огни – там храм! Вступаю на кладбище. И сразу, ободряя, – береза, на которой белеет табличка-указатель (это я несколько дней назад ее прибил): «Храм Успения Божией Матери». Немного боязно. Настоятель рассказывал, как в прежние времена молодежь специально собиралась в пасхальную ночь у храмов, чтобы побезобразничать, пообижать верующих. Секундный страх прогнал решительным: я с Богом, и Он от всего плохого убережет!
Храм. Знакомые. Здороваюсь сдержанно: целоваться еще нельзя, еще страстные дни. За руку здороваюсь с по-праздничному нарядными рабочими, с достоинством киваю знакомым женщинам-церковницам.
А далее праздничное богослужение, которое запомнилось как пир благодати и радости. Крестный ход, первый в моей жизни, который я воспринял с такой силой, как будто это был на самом деле ход в ночи Мироносиц ко гробу, как будто злые стражники нас могут не впустить ко Христу. А когда священник провозгласил: «Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней Троице…» – у меня мороз пошел по коже.
Сама служба мучительно тесная, такая тесная, что сам себя чувствуешь членом огромного организма – Тела Христова. Качнутся прихожане в одну сторону – и я с ними. Поднять руку, чтобы перекреститься, – роскошь.
Я нюхал красную свечку, которую держал в руках, она пахла по-особому. Сорвал голос, крича: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» Сильно устали ноги.
После богослужения разговлялись. Батюшки – у себя, чем-то священным. Я – с рабочими.
С нами женщины, сотрудницы храма, среди которых одна – очень красивая монахиня лет тридцати. Отец Димитрий, старенький священник, похожий на св. Николая Чудотворца (только у о. Дм. поменьше борода), пришел с ней христосоваться, дал ей яичко и стал целоваться. А она никому не давала себя поцеловать.
Монахиня – строго, отворачиваясь:
– Батюшка, мне нельзя так христосоваться.
Он, настойчиво пытаясь ее поцеловать:
– Матушка, в Пасху целоваться можно даже монахам.
Разговлялись яйцами, пасхой, куличами, тортом и кагором.
Народ в храме спал на полу на каких-то тюфяках, кто-то тихо беседовал о духовных вещах.
Я вышел на улицу. Светлело небо. Чудесно пахло весной, зеленью, сладкими куличами, и пели соловьи. Этот запах и пение птиц звучат во мне, как будто это было вчера.
И еще… звук трамвая на повороте. Это был первый утренний трамвай. На нем я доехал домой. Стал целовать спящих родителей, предлагать им христосоваться. А потом, утомившись, и сам лег спать.