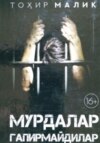Kitobni o'qish: «Благодетель и убийца»
Часть 1
Глава 1
Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
Я не видел лица певца, наполовину скрытого тенью от большой потолочной балки. Вернее, был это совсем не певец – обычный посетитель, который в хмелю отважился развлечь старым романсом себя и свою компанию, сидевшую в дальнем углу помещения. Ее представляли такие, как и он, весёлые мужики. Они громко смеялись, и один из их пару раз присвистнул, за что сразу же получил замечание от пожилой женщины: «Советские граждане, а так похабно себя ведёте!». Что она могла забыть в подобном месте, оставалось для меня загадкой.
Я присмотрелся к ним повнимательнее. Одеты почти все были по штампу, настолько стандартно, что я с трудом узнал бы кого-то в толпе. У того, что хрипло тянул: «Мне немного взгрустнулось…», был полосатый однобортный пиджак, застёгнутый на все пуговицы, явно парадно выходной, но ужасно заношенный. На рукаве был виден кривой шов, скорее всего, сам зашивал, а на локтях ткань протерлась и была заметно светлее. Чёрные широкие штаны и пыльная кепка, съехавшаяся набок. Простой работяга, к тому же не самый аккуратный. Сидевшие за столиком мало от него отличались, за исключением одного здоровяка, того самого, что присвистывал. Рубаха его показалась мне странной и, лишь приглядевшись, я понял, что была это гимнастёрка со споротыми погонами. Когда он встал из-за стола и вышел на перекур, я приметил ещё и солдатские сапоги. Хотя война и закончилась семь лет назад, дефицит одежды никуда не делся, и перешивать форму приходилось многим. Среди своих товарищей он казался серьёзнее всех, держался уверенно и глядел на них покровительственно.
Лица их светились наивным, почти детским счастьем, подогреваемым спиртным. Возможно, такая пятничная вылазка в прокуренный кабак была для каждого глотком воздуха, стимулом снова проснуться в пять утра и батрачить на заводе за два тридцать в сутки.
Наконец, пробежавшись глазами по остальным посетителям, я увидел того, за кем пришёл. Голова его покоилась на столе, рядом стояла недопитая кружка пива и пустая рюмка, из которой резко тянуло спиртом. Видно, он дремал, но стоило мне слегка потормошить его, он замычал, весь сморщился и стал хвататься за голову. То был Георгий Гуськов – мой старый друг и коллега.
– Жора, – ответа не последовало, – Жора, вставай, уже ночь на дворе. Люда будет волноваться.
– М-м-м… сколь… врем..ни?
–Почти полночь.
– Лёва, ты меня… извини… сам пнмешь…
Пьяное тело наконец лениво потянулось, хрустя всем позвоночником, ахнуло и схватилось за поясницу, где давно уже развилась межпозвоночная грыжа. Он потёр большими ладонями красные глаза, щурясь на слишком яркий для него свет. Лишь после этого Жора посмотрел на меня более осмысленно и даже покорно, рассчитывая, что теперь им всецело руководить буду я. Я не стал спрашивать, почему он так набрался, потому что уже знал ответ: жена забеременела четвёртым. Заработная плата была у нас с ним одинаковой, только вот я кормил себя одного, а он один поднимал ещё и троих детей. Работала и Люда, его жена, но достатка семья не испытывала.
Выводя Жору из кабака, напоследок я ещё раз бросил беглый взгляд на помещение. Пока мы плелись ко мне домой, он то и дело вздыхал и чуть ли не плакал, так уж на него действовало спиртное:
– Как же так, Лёвушка? Я ж с ней толком и не виделся… месяц назад только, да думал, обойдётся… как же теперь, а, Лёвушка?
– Ничего, Жора, ничего, – машинально отвечал я, лишь бы не идти в тишине.
С Гуськовым мы жили всего в квартале друг от друга почти на самой окраине Москвы. Практически одновременно несколько лет назад мы получили в собственность по комнате в коммунальной квартире, только у него на пару квадратных метров было больше. Но и того семье Гуськовых было мало – они безуспешно пытались ходатайствовать на получение жилья более просторного.
Я в своих двенадцати квадратах уместил все необходимое: кровать приставил к стене, изголовьем к окну, чтобы занимала поменьше места – на неё и повалился Гоша; сервант из сосны, доставшийся мне ещё от покойной матери, который я почти целиком заставил книгами по медицине, и только на одной полке ютилась вся моя посуда; письменный стол из той же сосны стоял у противоположной от кровати стены, рядом ещё стеллаж с книгами, а в дальнем углу комнаты шкаф, круглый обеденный стол с деревянным стулом и старым раскладным креслом. Из него то и дело вылетали пружины, поэтому гостей я туда не усаживал. Большое окно я совсем недавно закрыл чем-то поприличнее простыни – все не мог сначала накопить, а потом раздобыть занавески из тюли.
Убедившись, что Жора уснул, я вышел в коридор и в темноте сразу напоролся на мокрое белье, растянувшееся на веревке. Пару тряпок упало, и, чертыхнувшись, я кое-как вернул их обратно. Затем подошёл к телефону и набрал Люду. Гуськов оставался у меня не впервой, но от моего звонка, уверен, ей было покойнее. Сразу после этого я вернулся к себе и запер дверь на ключ.
Октябрь подходил концу, и, чем ближе был тот самый день, тем хуже я стал спать. Вот и сегодня я снова видел этот же сон. Детские мои воспоминания, искаженные страхом и подправленные временем, стали все чаще возвращаться в виде мрачных образов. Но в этот раз все предстало передо мной так отчётливо, будто я снова погрузился в ту ночь, когда забирали отца.
И все, как на ладони: вот почти у самого входа в нашу большую комнату с резным потолком стоит моя кровать, где я дремлю, вот в кресле сидит отец, дочитывая красную книгу в твёрдом переплете, мать уже спит. Вот в дверь громко стучат, я тут же дергаюсь, а он, оцепенев, неотрывно смотрит в темноту коридора, затем почти что машинально идёт к шкафу и достаёт с верхней полки кожаный чемодан. Мама отпирает, и в дверь вваливаются двое грузных дядек в форме. У того, что помоложе, взгляд почти что сочувствующий, он спокоен, а мягким голосом он просит собрать все необходимые вещи. Другой же суровый, и стоило мне окликнуть маму, приказал замолчать. А она помогает складывать белье в чемодан и как будто совсем ничего не соображает, мечется из угла в угол. Напоследок отец треплет мне волосы и целует по голове. Стоит двери за ними захлопнуться, как мама утыкается подушку, пытаясь успокоить проходящие по всему телу немые судороги, вызванные рыданием. Мы сидим в абсолютной тишине. Затем она поднимает голову, и в тени одинокого прикроватного светильника ее лицо выглядит очень старым. Когда она поняла, что ее сын неотрывно смотрел на неё все это время, то зачем-то сказала: «Не беспокойся, Лейб, отца забрали в командировку», хотя знала, что даже я в это не поверю. Это было в ночь с четвёртого на пятое ноября 1937 года. Скоро мне должно было исполниться шестнадцать лет. Через полгода я поступил в медицинский университет, и в тот же день наши догадки о том, что отец был расстрелян, окончательно подтвердились.
Открыл я глаза оттого, что храп Жоры напомнил мне разрыв снаряда, а еще стало невыносимо холодно. Сперва даже удивился, когда в темноте разглядел, что передо мной не тот же резной потолок, а потрескавшаяся штукатурка. В такие моменты приходилось напоминать себе, что наша квартира на Пироговке могла оживать теперь только в моих воспоминаниях. И, если бы мне предоставили выбор, вернулся бы я туда? Туда, в беззаботное и наивное детство, где мысли мои могли стеснять лишь границы фантазии, где комнату наполнял нежный цветочный аромат маминых духов, где не было места беспокойству о том, что завтра есть и на что жить. Ответа я не знал.
Была глубокая непроглядная ночь, сейчас светало только после шести часов. Я пошарил в темноте и нащупал выключатель от лампы, которая стояла рядом. Ее тусклого света хватило только на то, чтобы разглядеть время на циферблате будильника: «3:45». Вставать через два с половиной часа. Оказалось, что во сне я скинул одеяло на пол и успел продрогнуть так, что оставалось спасаться только кружкой горячего чая. Стараясь не греметь и громко не топать, я направился на кухню, чтобы вскипятить воду.
Не считая ванной, это была, пожалуй, самая холодная комната. Прямо по стене неприкрытыми шли трубы, по которым с перебоями подавалась горячая вода. Кутаясь в шерстяную кофту, я зажег керосинку. Моя чувствительность к холоду тут же дала о себе знать – от нескольких соприкосновений с посудой и столешницей мои руки заледенели. Пока грелась вода, я неподвижно стоял у плиты, водя ладонями над конфоркой, и прислушивался к тому, как за окном свистел ветер и качал массивные ветви голых деревьев, а где-то вдали раздавался собачий лай. Зима обещала быть холодной. Ровно, как и в тот год.
Чаепитие я кончил уже у себя в комнате, а после сразу уснул.
Глава 2
Мои рабочие будни врача-хирурга протекали вполне рутинно, но каждый из них приносил что-то новое. Приём начинался с восьми тридцати, хотя обычно я приезжал на час раньше. Уже к восьми утра к моему кабинету подтягивались люди, но за дверью голосов совсем не было слышно. Те, кому охота была поболтать в очереди, приходили ближе к обеду, но эти же в столь ранний час могли быть обеспокоены только своей болезнью и ожидать спасения. Вскоре пришла медсестра, чтобы отчитаться о ночном дежурстве.
– У Селиванова под утро температура поднялась, но уже сбили, у Мороза ещё кровит рана – вам следует посмотреть. Сидорчук совсем без аппетита есть, все вас требует.
– Зачем требует?
– Капризничает. Говорит, только с дозволения Льва Александровича в пищу будет употреблять то, что ей дают. Сколько ни упрашивали ее – ни в какую.
– Что же ты будешь делать… остальные?
– Без происшествий, у всех динамика положительная. Думаю, Аносова и Кривощекова можно готовить к выписке. Ещё сегодня в двенадцать у вас диафрагмальная грыжа с Вороновым.
– Спасибо, Таня, я помню. Можешь идти.
Жора являлся только к девяти. Несмотря на неоднократные предупреждения, полноценного выговора ему так и не объявляли. Возможно, потому, что по натуре он был человеком, который всегда со всеми мог договориться. По его виду никогда нельзя было сказать, что на работу он приходил с удовольствием. Работал Гуськов, как и я, хирургом. Он был старше меня чуть больше, чем на пятнадцать лет, и порой эта разница слишком явно демонстрировала то, как утомила его жизнь. К сорока шести годам он давно уже обзавёлся семьей (старшая дочь вот-вот должна была закончить школу и поступить в институт), мелкими долгами, проблемами со здоровьем и грузной усталостью. При всем желании я не смог бы назвать Гуськова добросовестным врачом – поверхностный сбор анамнеза, невнимательность при осмотре, небрежность в операциях не играли в его пользу, и было все это закоренелой привычкой, а не следствием усталости. Но люди продолжали к нему идти, а, значит, без работы Жора не сидел. Необходимость кормить семью вытеснила из его сознания бескорыстное желание помогать, и только пятничный вечер за рюмкой водки помогал ему ненадолго забыться. Порой мне было жаль его.
Вот и сегодня он снова пришёл с виду бесконечно уставший, молча надел халат, уселся за стол и тоскливо подпер подбородок кулаком.
– Что-то ты совсем квёлый.
– А каким мне ещё быть… я эти дни, думаешь, чем занимался?
– Боюсь предположить.
– Я-то… обождите! Зайдите через десять минут! Не видите, что у нас совещание? – гаркнул он, когда в кабинет постучалась пациентка, – Я, Лёва, все думал, как быть теперь. Людка даже будто обрадовалась, мол, ещё один ребёнок, дом полная чаша. А я считаю, все это ерунда. На какие деньги кормить его, она не думает. Вот Фросе скоро поступать, сорванцы мои вечно что-то порвут да разобьют, а тут ещё один! Уже думаю на аборт ее повести.
– Ты горячку не пори. Сам должен знать, как их сейчас делают. Наковыряют ей бабки там такое, что ещё перитонит будет. Неужели готов такому риску подвергнуть?
– Да ты монстра из меня не делай. Что я, нелюдь совсем? Думаешь, мне не жалко? Только вот я мыслю рационально, без этих женских слез. Надо будет растолковать все ещё раз, а то ведь она меня совсем не слушает, специально как будто! Я про серьёзные вещи ей, а она о мелочи какой-то: куда ставить кроватку, где распашонки достать, где крестить.
– Поставь себя на ее место. Думаю, она обеспокоена не меньше тебя, просто так пытается отвлечься.
В дверь снова постучали. Из-за неё показалось робкое пожилое лицо, глазами искавшее Гуськова.
– Георгий Андреевич, я к вам. Можно?
– Проходите, садитесь.
Женщине, которая медленно вошла в кабинет, я не дал бы и шестидесяти лет. Она была хорошо одета и ухожена, шла неуверенно, но прямо, хотя и заметно было, что давалось ей это с трудом. Но из-за белой дымки пудры проглядывал нездоровый желтоватый цвет лица. Хлопчатобумажная блузка с длинным рукавом обнажала только расчесанные докрасна кисти. Казалось, женщина вдоволь измучилась, прежде чем наконец прийти к врачу. На стул она села с облегчением, предплечьем подпирая правый бок.
– Меня терапевт направил, сказала, должен хирург посмотреть. Я спросила, можно ли обойтись без этого, а она, знаете, настояла. Ещё сказала, что анализы плохие. Напугалась я вчера вечером – желудок как прихватил… а, может, и не желудок, кто его знает, – она говорила все время, пока шла по кабинету и отдавала Гуськову свои документы. Он совсем ее не слушал, но машинально кивал, ведь старушка, ища поддержки, не сводила с него глаз.
– Ложитесь на кушетку и приподнимите блузку, – сказал Жора, но та все медлила и смущенно оборачивалась на меня, – уважаемая… как вас там по паспорту… Валентина Егоровна, женщине вашего возраста не стоит смущаться, тем более перед врачом. Не задерживайте приём.
Однако расставить ширму все же пришлось, хоть и сделал он это с заметным неудовольствием. Мне было жаль эту женщину. Напуганная неведением, она, как ребёнок, была готова слепо довериться Гуськову, стерпев все, что могло показаться пугающим и неверным. Оторвавшись от истории болезни, в какой-то момент я поймал на себе ее взгляд и даже растерялся. Затем медленно опустил веки, надеясь так заверить ее, что она в руках специалистов, а не гаражных бракоделов. Задав ещё несколько вопросов, Жора торжественно объявил:
– Что же, Вера Сергеевна, тут у вас холецистит, причём запущенный. Срочно оперироваться. Госпитализироваться вам надо сегодня-завтра, не позже. Иначе ждите беды.
– А вы уверены…? Может, мне лекарств каких-то принять нужно, чтобы без операции…
– Вы к специалисту пришли или к кому? Если я вот так каждому буду разъяснять, что да почему, скольких, думаете, успею вылечить? Госпитализация и без лишних разговоров. Я вам выпишу рекомендации для подготовки к операции.
Не успела она уйти, как он спешно подошёл к окну и открыл форточку. В помещение дунул морозный ветер, а я услышал лязг крышки от зажигалки Гуськова.
– Я тебе сколько раз говорил – хочешь курить, иди на улицу. Не заванивай кабинет. Знаешь, сколько в сутки астматиков здесь бывает? Кашель потом на все отделение стоит.
– И без тебя знаю.
– Георгий Андреевич, – прибежала запыхавшаяся Татьяна, – где же вы ходите? Там Авдеева уже подали, вас только ждут!
– Падла… что ни утро, то дурдом. А напомнить не могла? Через минуту буду.
– Лев Александрович, а вас Сидордук ждёт.
Глава 3
Моя квартира имела четыре жилые комнаты и, по словам самой Евдоксии Ардалионовны Фурман, которая жила здесь вот уже третий десяток, принадлежала она семье каких-то видных людей: не то писателей, не то актеров. Они покинули Россию сразу после октября семнадцатого и, возможно, сейчас томно тосковали по родине где-то на юге Франции, в то время как их дети и слова не произносили по-русски.
Евдоксия Ардалионовна была препротивной высохшей старухой, отчего и одинокой. Сама она говорила, что в этом году ей перевалило за семьдесят, что застала она и царя-батюшку, и Ленина и что уж получше других знает, как жить на этом свете. Каждое утро в семь часов, будь то будний день или выходной, она открывала дверь в свою комнату и громко включала радио, интересуясь прежде всего тем, какими новостями порадует сегодня власть. К этому белому шуму я приспособился быстро и уже давно перестал замечать. Занимала она самую большую комнату, но на правах старожила распоряжалась и укладом жизни других. Никто кроме ее любимого радио не смел шуметь после семи вечера, а еще она грозно блюла, чтобы у каждого неизменно висел портрет Сталина. Сколько крови она мне за него выпила – даже донести грозилась! Кончилось тем, что портрет я оставил, но развернул лицом к стенке, а ей раз и навсегда запретил входить к себе, почему и запирал дверь на ключ.
Через стенку от Фурманши жил мой ровесник Максим Никифорович Поплавский – та ещё хитрая морда. Комнату он снимал все у той же старухи. Из всего, что я о нем знал, правдой было лишь то, что в Москву приехал он издалека (откуда точно, не говорил). По вечерам на кухне он устраивал целые спектакли с рассказами о том, где ему довелось побывать, с какими именитыми людьми встретиться и в какие передряги попасть. Поплавский был дорогим любимцем Евдоксии Ардалионовны, и она одна увлекалась его байками. А после они всегда вместе слушали радио и горячо обсуждали политику, но Поплавский больше лебезил перед ней, чем говорил что-то путное.
В самой же маленькой комнате (видно, в ней когда-то обитала прислуга) жил Марк Анатольевич Юрский. Жил, прямо скажем, на книгах: аккуратными стопками лежали они на полках книжных стеллажей, ютились под кроватью, и даже в шкафу занимали половину места. Я до сих пор удивлялся, как ему удалось сохранить их за время войны. Был он чуть младше Евдоксии Ардалионовны, и, слава Богу, этим кончались их сходства. Мягкий, гибкий характер и простота души делали ему честь, и я сразу потянулся к Юрскому, как к наставнику. Присесть у него было совсем негде, и часто мы допоздна засиживались у меня. Он преподавал философию в МГУна должности профессора, и слушать его было одно удовольствие. После кровати и книг третьей вещью в комнате у него стоял патефон. Когда ни Фурман, ни Поплавского не было дома, он заводил свои любимые романсы, а после тихо напевал их себе под нос.
В долгожданное воскресное утро я встал позже обычного и чуть не пропустил очередь на утренние процедуры. Вид душевая комната имела удручающий: потрескавшаяся темно-зелёная краска, ржавчина и местами вырванная плитка – никто не брался это ремонтировать. Во-первых, на такую роскошь ни у кого не хватило бы денег, а, во-вторых, над «ничейным» пространством никто трястись не собирался. Да и человек быстро привыкает даже к такому.
– Максим Никифорович, голубчик, пропустите меня с кастрюлей… а вы, Марк Анатольевич, убрали бы свой котелок! Да и что вы тут расселись посреди комнаты – ни пройти ни проехать! О, Лев Александрович, вы тут совсем некстати… – было первым, что я услышал, войдя на кухню.
– Эх, привольно мы живем -
Как в гробах покойники:
Мы с женой в комоде спим,
Теща в рукомойнике, – с усмешкой проговорил Юрский.
– А вы не зубоскальте, Марк Анатольевич, не те времена.
– Что же мне ещё делать, если я в своём же доме себе каши не могу сварить? – ответа он не получил, – Лев, я предлагаю позавтракать у вас, сейчас только котелок с плиты сниму.
– Где ж это видано, чтобы советский гражданин отделялся от общества? – нарочно встрял Поплавский.
– Позвольте, милейший, я освобождаю площадь для кулинарных шедевров Евдоксии Ардалионовны, – та ответить не могла, поскольку наполовину вывалила свое дряхлое тело из окна, доставая из авоськи овощи, – а из вас порядочный советский гражданин, как из пластилина пуля.
– Я бы попросил!
– Пойдёмте, Лев.
Радио уже вовсю гудело, и порой мы невольно вслушивались в слова речи Сталина на одном из последних съездов партии: «Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке – это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира…»
Видимо, я невольно состроил недовольную гримасу и Юрский это заметил.
– Хотите, я прикрою дверь?
– Да, пожалуй.
Сперва мы ели в тишине и только тиканье часов заполняло эту паузу. Все это время я пытался угомонить вспыхнувшие эмоции.
– Вы явно хотите побеседовать об этом?
– Возможно, но собеседник из меня, как из первокурсника Шопенгауэр. Не могу я объективно судить, нет. Внутри сейчас все так и клокочет, стоит только хорошенько окунуться в воспоминания – не хочу вываливать это на вас.
– Я понимаю, – и он правда понимал. Юрский был одним из немногих, кому я доверил подробности своей биографии, равно, как и он мне своей, – но в этом и ваша ошибка. Этим «хорошенько окунуться» вы только хуже делаете. Чем чаще, уж простите мне простоту языка, отрывать корку на ране, тем глубже и ярче шрам.
– Я всегда думал, что глубина шрама зависит от остроты ножа.
– С этим не поспоришь. Но, в теории, верный подход сделает след едва заметным.
– Здорово было бы посмотреть на того, кто нашёл этот верный подход.
Юрский отпил кофе и более ничего не говорил.
– Хотел бы я быть похожим на вас, Марк Анатольевич, – я стыдливо упёрся взглядом в тарелку, водя ложкой по каше – не мог заставить себя посмотреть в добрые карие глаза Юрского. Им всегда хотелось что-то рассказать, а они, в свою очередь, внимательно слушали. Перед этим человеком я часто ощущал себя несмышлёным школьником, но чувствовал, что он не будет насмехаться надо мной за это.
– Порой поражаюсь тому, как спокойно вы принимаете то, что происходит вокруг нас. Что это – характер, опыт или что-то другое?
– Мой дорогой, – засмеялся он, – если бы мы так легко могли найти ответы на свои вопросы, мир бы свалился в хаос. Многие люди, чья жизнь основана на самых сложноустроенных и хитросплетенных убеждениях, открывая очевидные истины, просто не могут уложить их в своей голове. Представьте только – вы всю жизнь ходите на руках, пока я не скажу вам, что на ногах ходить гораздо удобнее. Я не смогу ответить вам. Пускай будет все вместе. Да и… не желайте быть похожим на человека, которого нет, не цепляйтесь за отдельные черты. Ваше восприятие меня есть не что иное, как образ, над которым поколдовали органы чувств и сознание. Даже я не знаю, каков на самом деле. Вы сами понимаете… после случившегося мне непросто было прийти к равновесию. Но я всегда говорю себе: «Все пройдёт, и это тоже».
– Прошло?
– Пока нет. Мои шрамы дошли до кости. Но вы ведь не станете спорить, что глупо обижаться на судьбу, на время, на обстоятельства, словом, на то, что не можешь изменить? – я отрицательно помотал головой, – вы ешьте, пока не остыло. Да и я побегу, через полтора часа уже должен в университете быть. Спасибо за хорошую компанию.
– Взаимно.
Напоследок, когда за Юрским закрылась дверь, я услышал басистый голос Поплавского: «А после мне звонит сама Лиля Юрьевна и спрашивает, не изволит ли Максим Никифорович – то есть я – прийти на поминки Маяковского. Я, конечно, изволил. Теперь на короткой ноге и с Брик, правда, она теперь Катанянша, и с Пастернаком, и даже Ахматовой руку целовал!»