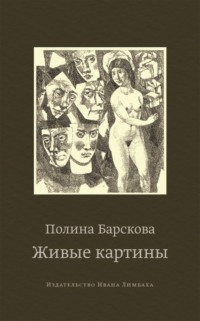«Живые картины (сборник)» kitobidan iqtiboslar

словам – «лирика» и «история». Лирика – не патентованная задушевность. История – не костюмированная драма. Лирика связана с тонкими чувствами и при этом не противоречит их анализу – вспомним Пруста. История соединяет нас антропологической солидарностью с теми, кто когда-то жил и умер. «Живые картины» лиричны и историчны именно в таких измерениях. Кирилл Кобрин

Как все насмешники, подвизавшиеся в золотые годы рифмовать, кукарекать, мяукать и блеять для «Чижа» и «Ежа», Шварц был либертэн — то есть свои и чужие пороки воспринимал аллегорически: отсюда выбор жанра — в конце концов, мы говорим сейчас о сказках и сказочниках, — отсюда и припев: дьявол делал своё дело. Шварца — и нас ему вослед — интересовал аллегорический род поединка человеческой души и дьявола времени, жалкие уловки, на которые шли обитатели того времени в попытках одновременно понравиться ему и спрятаться от него. Вскоре после второго инсульта — Бианки сказал Шварцу: «Хочешь понять, что чувствует человек после удара, надень эти очки». А на столе лежали очки чёрные, через стёкла их мир казался притушенным. Сказочника Бианки в конце объял чёрный свет, сказочник Шварц это заметил и в удручении констатировал.

Шварцевская записная книга — заплачка по недопроявившейся пьесе. Только в разрозненных, сшитых начерно человекосюжетах этой книги блокада восстала как правильное место для души ленинградского интеллигента, прошедшего тридцатые, — иными словами — это ад, единственная долина, где может существовать душа-трус, душа-раб, душа-предатель, душа, которой всё время больно, никогда нигде не небольно, — ленинградские писатели-выживатели на глазах у свидетельствующего Шварца сходят с ума (потом, нехотя, неспешно возвращаются в ум), бесшумно, как листья, падают в обморок, выходя из пыточных зал заседаний, постоянно упражняются в мастерстве поклёпа. Шварц схоронил, проводил и растерял своих титанов, своих возлюбленных врагов (ничто не сравнится с накалом его элегической и эротической ненависти-страсти к Олейникову), остались ему на обозрение Воеводины, Рыссы да Азаровы и прочая протёртая веком мелюзга: эти персонажи успокаиваются, оказавшись в блокаде — в том, что он, прищурившись, называет доброкачественной бедой, той, что губит, не искушая.

Сколько их ещё таких, выживших и не очень, посреди которых пульсировал этот стыдный прелестный чёрный сгусток тайных стихов.
С одной стороны, малость какая: у человека целая жизнь целая жизнь до после кроме этой тетрадочки полка публикаций четыре жены резвая блестящая стайка предателей-учеников (school of fish) дача!
Но стоит также и заметить, что всю жизнь ты знаешь, и смерть соглашается с тобой: ничего, кроме этой тетрадочки, не было.
Она - твой сухой осадок, от тебя осталась только она - твоё прощение.

Прелестью для прощателя является та власть, которою обладает над ним прошлое зияние, беда, темнота. По-русски нет слова survivor - тот, кто выжил, кто вернулся.
Вот я сейчас и пытаюсь придумать слово, создать-передать существо, а главное, процесс-способ сожительства с памятью о пережитом.
Прощатель пытается насувать слов в свою тьму, как бумажных мякишей в мокрый ботинок.
Чем больше в ней, в темноте во мгле, слов, тем слабее её прелесть.
Но слова эти уходят вовнутрь, а не наружу, словами ты кормишь чудовище.
Прощатель-упрощатель.

Выпустить из себя (стихи) значило простить.
Выпустить и простить - как из плена.
Кого прощать-то? Ледяной город? Ледяной век? Ледяного себя в этом веке?
Прощение занимало целую жизнь.
Жизнь превращалась в заколдованный спешкой чемодан: кроме работы прощения, туда уже ничего не помещалось. Прощение как-то неловко преломлялось, изгибалось и становилось чуть ли не томлением по прошедшему.

Архивист перевозит души из одной папки в другую, из такой папки, откуда никто никогда не услышит, в такую, откуда кто-нибудь - ну хоть совсем ненадолго.

Тайна - это то, что ты носишь в себе невидимым, и оно в это самое время производит тебя, превращая тебя в чудовище. Тайна радиоактивна.