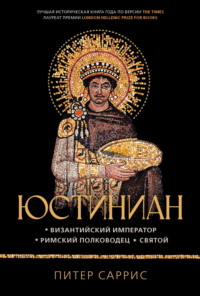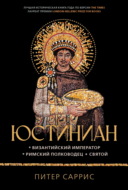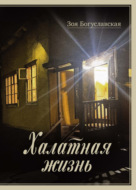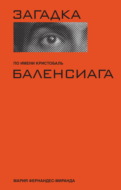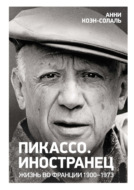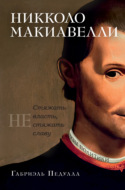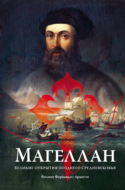Kitobni o'qish: «Юстиниан. Византийский император, римский полководец, святой», sahifa 8
Защита Балкан
К 528 году на Кавказе и в Крыму установилась характерная стратегия: вначале предпринимались согласованные усилия по привлечению правителей соседних народов в дипломатические объятия Константинополя, предпочтительно через принятие ими имперского, или православного, христианства; затем этот дипломатический ход закреплялся военным присутствием во вновь приобретенных сферах влияния империи. Использование христианства для продвижения интересов империи не было совсем уж новой практикой. Император Анастасий, к примеру, обеспечил обращение в христианство франкского короля Хлодвига примерно в 508 году, чтобы вынудить его занять проконстантинопольскую и антиготскую позицию [29]. Однако ни один император не пытался применять эту политику на стольких фронтах одновременно и при этом с таким успехом, ибо в это же время на Западных Балканах предводитель могучего германского сообщества варваров-герулов точно так же явился в Константинополь ради крещения, заключив за время своего пребывания там военный союз. Как запишет Иоанн Малала, «в тот год [528] вождь герулов по имени Греп перешел на сторону римлян и пришел в Византию с собственным войском. Он выразил почтение императору Юстиниану и попросил разрешения стать христианином. Его крестили в церкви Святого Богоявления, и император стал его крестным отцом. Щедро одарив Грепа, Юстиниан отпустил его, и тот вернулся вместе с войском на родину, получив от императора сообщение: „Когда ты мне понадобишься, я тебя извещу“» [30].
Похоже, на тот момент Греп и его сторонники осели в Северной Иллирии – области, которая, конечно же, была хорошо знакома Юстиниану и его семье. В результате союза с императором они получили разрешение поселиться вокруг города Сингидун (современный Белград), помогая таким образом еще больше усилить военное присутствие империи на тамошних территориях [31]. Прочие герулы вступили в действующие войска императора, чтобы сражаться на других фронтах: к примеру, именно они склонили чашу весов в пользу Велизария в битве при Даре.
Юстиниан не только пытался укрепить положение империи на Балканах, с успехом привлекая на свою сторону герулов и другие племена; он также старался обезопасить и усилить римские позиции, следуя по стопам своих непосредственных предшественников и вкладывая большие деньги в военную и оборонительную инфраструктуру региона. Эти инвестиции, вероятно, достигли максимума в период с 534 по 540 год, но их можно видеть и в самые первые годы правления Юстиниана. Недавно основанный город Юстиниана-Прима, к примеру, был заселен еще в 530 году. В качестве запланированного улучшения оборонительной системы Балкан Юстиниан приказывал укреплять провинциальные города, пограничные крепости и основные военные дороги. Он также укреплял города и вдали от границ – на юге до самого Пелопоннеса в Греции, обеспечивая при этом сельское население укрепленными цитаделями, в которых оно могло укрываться в случае нападения врага [32]. Император стремился в целом обеспечить балканские провинции гораздо более глубокой обороной, сведя к минимуму ущерб, который могла нанести любая грабительская атака [33]. В этой стратегии Юстиниан мог отчасти вдохновиться собственным пониманием принципов войны в этом регионе и крайней уязвимости его сельского населения. В конце концов, всевозможные укрепленные поместья и сельские гарнизоны, которые благодаря политике императора быстро распространились на Балканах, были очень похожи на Ведериану – укрепленное поселение, которое его дядя называл своим домом. На их родных землях такая сеть укрепленных поместий помогла сохранить чувство римской идентичности среди местного населения, несмотря на годы периодического владычества варваров [34]. Значит, она может оказаться полезной и в других местах.
На родине Юстиниана основание города Юстиниана-Прима, обладавшего ярко выраженным военным и религиозным характером, усилило оборонную способность региона и улучшило репутацию нового императора в глазах провинциального населения. В прочих местах на Балканах на новых оборонительных сооружениях помещали надписи, в которых подчеркивалась личная роль Юстиниана в их возведении. Слова «Юстиниан, любивший строить» или просто «Юстиниан» были найдены на нескольких подобных надписях или на формах для кирпичей в регионе у Нижнего Дуная и Черного моря (в современной Болгарии). Судя по надписям‚ недалеко от греческого города Коринф местный епископ Викторин тоже очень хотел внести свою лепту. К примеру, одно из зданий украшал текст, гласивший: «Свет от Света, истинный Бог от истинного Бога, защити императора Юстиниана и его благочестивого слугу Викторина, а также обитателей Греции, живущих согласно Божьим заповедям». Вероятно, формы для кирпичей с именем императора, восхвалявшие его строительные проекты, массово производили в Константинополе и доставляли в провинции. Юстиниан явно намеревался донести до своих подданных мысль, что он лично занят их безопасностью и что доверенная ему Господом империя будет и дальше укрепляться; он надеялся, что таким образом добьется от них и поддержки, и молитв. В случае с епископом Викторином из Коринфа эта политика явно весьма преуспела. Еще одна надпись, которую связывают с этим епископом, гласит: «Святая Мария, Матерь Божья, защити империю христолюбивого Юстиниана… вместе с обитателями Коринфа» [35].
Ослабленный Запад
Юстиниан умел видеть в людях талант. Эта его способность ярче всего проявлялась в сфере законодательства и управления, но нашла весьма важное применение и в военной стратегии. Очевидно, именно он разглядел потенциал Велизария (хотя тот и станет объектом расследования вследствие поражения при Каллинике в 531 году). Подобным же образом римская военная мощь на Балканах усилилась в результате того, что Юстиниан завербовал вождя гепидов по имени Мунд – он обладал реальной политической властью в регионе, грозной репутацией и собственным большим войском. Юстиниан быстро назначил Мунда командующим императорской армией на западе Балкан. Гепиды были одним из варварских германских племен, попавших под господство гуннов в V веке; после распада империи Аттилы они поселились в западной части Балкан, отобрав у римлян город Сирмий (современная Сремска-Митровица в Сербии). В 488 году готский король Теодорих, ведя свои войска с Балкан в Италию, захватил Сирмий и убил вождя гепидов – дядю Мунда. Несмотря на смерть дяди, Мунд отправился служить Теодориху в Италии, став важным военачальником. Его решение предоставить свои услуги Юстиниану было крупным успехом, а в 529–530 годах он сыграл важную роль в сдерживании нападений на римские территории – не только со стороны гуннов и бывших гуннских подданных, известных как булгары, но и со стороны собственных соплеменников-гепидов. Вероятно, Мунд был важен и во время последующих переговоров о новом пакте между римлянами и гепидами, которые в 530 году выльются в неожиданное и ничем не спровоцированное нападение на Сирмий с целью изгнать оттуда готский гарнизон [36]. Однако полезность Мунда для Юстиниана не закончится с заключением этого союза, и решимость императора завербовать Мунда говорит о том, что у него были и другие цели за пределами Балкан.
Решение мобилизовать недавно приобретенных союзников в лице гепидов в борьбе против Сирмия было, возможно, первым и самым явным признаком того, что военный фокус и интересы Юстиниана начинали сдвигаться на запад. Самой важной чертой Сирмия было то, что он стоял в ключевой точке сети римских дорог, которые вели от Наиса и Сингидуна в Италию. Ни одна армия не могла пройти по суше с территории Восточной Римской империи на Апеннинский полуостров, если она не контролировала Сирмий или если Сирмий не дал ей на это разрешения; альтернативой была Салона, которую тоже удерживали готы [37]. Следовательно, нападение римлян при поддержке гепидов неизбежно вызвало большую тревогу у верховного командования готов, по-прежнему находившегося в старой столице империи – Равенне. Политическая обстановка там становилась все более нестабильной. В 526 году после долгого и славного правления умер король готов Теодорих. Поскольку он не оставил после себя наследника мужского пола, корона в Италии перешла к его внуку Аталариху, тогда еще мальчику – на момент смерти деда ему было всего восемь лет. В результате фактическая власть в королевстве перешла к неустойчивому и подверженному влиянию разных партий совету регентов, главой которого была мать Аталариха и дочь Теодориха Амаласунта.
Это, несомненно, была выдающаяся женщина. Итальянский придворный Кассиодор особенно отмечал ее лингвистические таланты: она свободно говорила по-гречески, а также на латыни и готском языке [38]. Однако представители готской аристократии смотрели на нее с большим недоверием, поскольку знали, что, будучи женщиной, она не способна деятельно возглавить готскую армию. Они также с подозрением относились к образованию, которое она давала сыну, считая его слишком романизированным [39].
Возможно, из-за отсутствия эффективного военного руководства новое правление не сумело внушить соседям-варварам тот страх и трепет, при помощи которых их сдерживал Теодорих. По этой причине территории в Южной Галлии, где Теодорих ранее распространил свою власть, пришлось уступить франкам [40]. В самой Италии появлялись признаки все большего беззакония на местном уровне. Готские властители и военачальники на местах пользовались отсутствием в Равенне сильной фигуры, воплощавшей королевскую власть, чтобы незаконно посягать или даже отбирать поместья, принадлежавшие местным землевладельцам, что усиливало напряженность между режимом и представителями римской землевладельческой элиты [41]. Словом, у Юстиниана были все причины почувствовать уязвимость готского правления в Италии и задуматься о политическом или даже военном вмешательстве. Предпринятая попытка изгнать гарнизон из Сирмия имела смысл в контексте того, что Юстиниан начинал готовить почву именно для таких действий.
Есть явные признаки того, что многие из окружения Юстиниана, составлявшие его основной штат советников и помощников до и после его восшествия на престол, были идеологически предрасположены к осуществлению подобного вмешательства в случае возникновения такой возможности. В конце V века многим облеченным властью лицам в Константинополе было удобно убеждать себя в том, что могли испытывать многие представители западной сенаторской элиты в Италии в то время: что принудительный уход в отставку последнего жившего в Италии императора Ромула в 476 году не имел особого значения [42]. При детальном рассмотрении основная сущность империи на западе сохранилась, включая политическую, административную и культурную инфраструктуру Римской империи. Римский сенат, городские советы, римское право и римское образование остались нетронутыми; Италии не хватало лишь императора. Другие же придерживались более радикальной концепции. К примеру, Марцеллин в своей хронике высказывал мнение, что свержение Ромула в 476 году означало «гибель Западной империи римлян». Марцеллин был иллирийцем, а среди иллирийцев антиварварские настроения могли быть особенно сильны [43]. Он также служил личным секретарем (cancellarius) Юстиниана до того, как тот стал императором, так что его взгляд на события в Италии и на западе мог довольно точно отражать взгляды Юстиниана и его окружения. Для Марцеллина и тех, кто мыслил схоже, Римская империя на западе больше не существовала, и долгом императора было ее восстановить.
Если ситуация в Италии была такова, что прямое вмешательство Константинополя казалось все более возможным, то в Африке оно казалось все более необходимым. В 523 году, когда сторонник Юстиниана Хильдерих взошел на вандальский трон, он запустил важную дипломатическую переориентацию: вандалы отвернулись от Теодориха в Равенне (с которым они прежде были союзниками) и повернулись к Константинополю. В результате положение имперской, или православной, церкви в Африке тоже значительно улучшилось: преследования, которые инициировали арианские власти, прекратились (хотя есть серьезные основания полагать, что современные и по большей части православные источники всегда преувеличивали их масштаб). Хильдерих, однако, не был эффективным правителем в военном отношении, и его войска потерпели несколько серьезных поражений от берберов вдоль границ его королевства. В мире, где военное мастерство считалось главной составляющей управления и основной функцией государя, это было серьезной проблемой. Хильдерих уже был непопулярен среди вандальской аристократии из-за масштабной перестройки политики королевства, и в 530 году его сверг с трона и посадил в тюрьму его дальний родственник Гелимер [44]. Потеря столь значимого союзника была прискорбным событием, но если бы новый режим возобновил преследование православного священства в регионе, то Юстиниан, как весьма религиозный правитель, чувствовал бы себя обязанным на это отреагировать.
Любое отклонение в сторону более агрессивной политики в Италии или в Африке в большой степени сопровождалось постоянными и весьма затратными попытками Юстиниана добиться расположения папского престола. Он занимался этим еще до своего восшествия на престол и теперь продолжал это делать с большим пылом. В течение нескольких первых месяцев своего правления Юстиниан издал официальное исповедание веры, в котором подчеркивалась его решимость поддерживать и укреплять обновленный церковный союз между Римом и Константинополем, которого добился Юстин, и сообщал о своем важнейшем долге следовать «традиции и веры святой католической и апостольской церкви Господа». В 533 году Юстиниан лично напишет новому папе Иоанну II, сообщая в многословном и подробном богословском описании, как, по выражению императора, «мы поспешили сделать всех священников на востоке подданными Вашего Святейшества и объединить их этим». Дошедший до нас текст этого письма показывает, что император даже лично подписал его. «Пусть Бог, – писал он, – сохранит вас на долгие годы, святой и благочестивый отец» [45]. Но прежде чем император смог воспользоваться изменениями во власти, происходившими в варварских королевствах Африки и Италии, или каким-то образом отреагировать на них, он должен был заняться более неотложными делами в своем государстве.
5. Сборник законов
Взмах кнута
В первые годы своего правления Юстиниан предпринял череду смелых и напористых действий по укреплению и усилению военного и дипломатического положения империи. Благодаря этому, как писал Прокопий, император мог утверждать, что он «упрочил римские владения, которые повсюду были уязвимыми для атак варваров» [1]. Эти усилия опирались на старания его дяди и предшественника Юстина, в чью политическую повестку Юстиниан, вероятно, внес свой вклад – сначала как военачальник, затем как цезарь и в конце концов как соправитель. Однако при Юстиниане это уже было нечто большее, чем преемственность политики: темп и решимость, с которой эта политика проводилась, значительно усилились, и нигде это не было столь явно заметно, как в вопросах внутреннего управления и законодательства.
Вопреки тому, каким его хотели бы изобразить другие, Юстин никогда не допускал небрежности в вопросах законодательства: количество дошедших до наших дней законов, изданных за время его правления, сравнимо с объемами законотворчества при Анастасии, которого он сменил на троне [2]. Юстин также был способен на серьезное и тщательно продуманное государственное вмешательство, если в этом возникала необходимость. К примеру, в 525 году, когда большая часть города Антиохия была уничтожена разрушительным землетрясением, император приказал выделить более трети миллиона solidi на восстановление города. Это равнялось примерно половине всех денег, которые правительство ежегодно собирало в виде налогов в Египте – самом богатом и экономически успешном регионе римского мира [3]. Однако, предоставленный сам себе, Юстин явно не был склонен к значительным нововведениям: как выразился Прокопий, император «не преуспел в причинении своим подданным вреда, но и пользы не принес» [4]. В том, что касается законодательства, он предпочитал не будить лиха.
Скорость издания законов и их тон резко изменились после того, как Юстиниан был назначен соправителем, причем настолько, что примерно треть всех законов, которые дошли до нас со времен правления Юстина, была издана в эти пять месяцев [5]. Юстиниан провел почти девять лет жизни, наблюдая, как его приемный отец относительно неспешно управляет Римским государством, и явно очень хотел ускорить ход событий. Он был мужчиной средних лет, который спешил и был полон решимости наконец отличиться. И действительно, переход от чтения законов Юстина к тем, что были изданы под именем обоих соправителей, похож на внезапное пробуждение от дремоты, когда кто-то с криком хватает вас за плечи. И как только Юстиниан принялся кричать, остановить его было нелегко. Всего за месяц, прошедший после того, как он стал единственным императором (июнь 528 года), он издал больше дошедших до нас законов, чем его дядя за все восемь с половиной лет единоличного правления; Юстин издал около 30 законов с 518 по 527 год, Юстиниан же за первые девять лет своего правления издаст более 400 [6]. Во всех этих законах мы слышим все тот же задиристый и настойчивый тон, уже знакомый нам по письмам Юстиниана к Гормизду; этот тон станет мгновенно узнаваемой чертой во многих следующих его законах.
Первая волна законотворчества Юстиниана касалась полного спектра проблем, долгое время беспокоивших римских императоров: технические детали римского права в области заключения брака, наследования, товарооборота и займов, владения собственностью и регулирования юридических процедур в суде – вот лишь некоторые из них. Существуют также косвенные указания на то, что Юстиниан и Феодора активно занимались тем, что можно считать личным обогащением и вознаграждением фаворитов. Тон, в котором написаны эти законы, вероятно, злил критиков нового режима. К примеру, в апреле 529 года вышел указ, по которому все дары и передача собственности между императором и императрицей должны были автоматически считаться правомерными независимо от прежних ограничений. В декабре 531 года в этом направлении были приняты дополнительные меры, смягчавшие правила, по которым императорская чета делала подарки избранным лицам. Этот закон открыто называет Феодору «наша светлейшая августа, наша супруга» и критикует тех, кто «не признает императорского величества» или «разницы между личным богатством и императорским величием». «Ибо почему, – несколько высокомерно вопрошает Юстиниан, – не должны те, кто своим намерением и делом денно и нощно трудятся ради людей всей земли, иметь привилегий, достойных их судьбы?» [7] Этот закон наводит на мысль о том, что Феодора уже играла важную роль в делах империи.
Однако изначально Юстиниан был преимущественно сосредоточен на религии. Один из первых точно датируемых законов, сохранившихся после его правления, запрещал епископам иметь детей или внуков и регулировал управление приютами, лазаретами, богадельнями и сиротскими домами, находившимися в ведении церкви. Он также принимал жесткие меры против взяточничества за получение церковных должностей и выражал недовольство священниками, которые платят другим за исполнение своих обязанностей, в том числе и за проведение церковных служб. Юстиниан верил в имперскую церковь, но не питал никаких иллюзий относительно морального облика многих из ее служителей. Шестью годами позже, в 534 году, он будет недоволен епископами, которые играют в кости, делают ставки на скачках, посещают театральные и музыкальные представления и кулачные бои, когда на самом деле «им надлежит посвящать себя постам, бдениям, изучению божественного писания и молитвам за нас всех» [8].
Но даже при этом религиозный гнев Юстиниана был преимущественно направлен на язычников, еретиков, евреев и палестинских самаритян – всем им запрещалось занимать государственные должности в Римском государстве [9]. Враждебность императора по отношению к самаритянам вскоре усилится в ответ на восстание 529 года, однако каждая из этих групп заметила куда более грозный тон в направленной против них имперской риторике и гораздо более суровые наказания, которые старалось налагать на них правительство. Более ранние законы были‚ по сути‚ отменены и заменены набором куда более жестоких мер, направленных на вытеснение этих неправославных общин на задворки римского общества. В 527 году в законе, изданном совместно с Юстином, Юстиниан запретил еретикам проводить «собрания, сектантские сборища или синоды; праздновать посвящение в сан или крещение… владеть или использовать поместья». Этот запрет ему пришлось повторить в 530 году, столкнувшись с массовым уклонением от соблюдения закона, в том числе и в Константинополе. В результате Юстиниан приказал, чтобы все «так называемые патриархи, сподвижники, епископы, пресвитеры, дьяконы и прочие священники», связанные с еретиками, были изгнаны из города, «дабы простые люди не слушали их нелепые россказни и не погубили свою душу из-за веры в их нечестивые учения» [10]. Подразумевается, что прежние императоры в целом устанавливали законы против подобных групп, но фактически позволяли их священникам и жрецам относительно спокойно действовать даже в столице. Юстиниан же намеревался применить это законодательство на практике.
Это в особенности касалось язычников (этим термином описывали приверженцев дохристианских религий Греции и Рима). С конца IV века императоры принимали все более суровые законы в попытках запретить публичные акты поклонения и прочую деятельность, связанную с язычеством, например астрологию. Однако в империи оставались большие сообщества язычников в таких местах, как Баальбек в Ливане, где в великолепном языческом храме продолжали собираться толпы верующих, и в некоторых частях Малой Азии, в том числе в горных областях Ликии, где христианство почти не оказало влияния на местное население. Поразительно малое количество археологических признаков строительства церквей в Греции наводит на мысль, что и там христианство распространялось значительно медленнее, чем хотелось бы властям [11]. Приверженность дохристианским религиозным традициям и верованиям также сохранилась среди представителей городской имперской элиты и даже во влиятельных семьях в самом Константинополе. Вероятно, такие семьи применяли стратегию тактичного молчания на религиозные темы, при необходимости подчиняясь религиозным правилам на публике и держа свои сокровенные мысли при себе [12]. Сохранились и тесно связанные между собой сообщества язычников-интеллектуалов, особенно в главных центрах философии, таких как Александрия и Афины.
В важном законе, изданном, вероятно, в 529 году, Юстиниан объявил незаконным не только проведение языческих ритуалов или обрядов, но и само язычество [13]. Те, кого уличали в том, что они притворно или номинально совершили обращение из «безумства нечестивых язычников» (по словам Юстиниана) в христианство (главным образом «ради сохранения государственной службы, чина или собственности»), должны были «подвергнуться высшей мере наказания» – в законодательстве Юстиниана это обычно означало смертную казнь. «Те, кого еще не сочли достойным крещения, – заявлял император, – должны сообщить о себе… и отправиться вместе с женами и детьми и всеми домочадцами в святые церкви, чтобы научиться истинной христианской вере». Тех, кто не обратился в христианство, будут отправлять в изгнание. Те, кто проводил языческие ритуалы, могли быть казнены [14]. Язычникам также открыто запретили преподавать – это отражало тревогу по поводу того, что образовательные учреждения использовались для тайного сохранения и распространения дохристианских религиозных традиций и образа мыслей [15]. Это было самое жесткое антиязыческое законодательство, когда-либо принятое христианским императором.
На этом этапе главной заботой Юстиниана были язычники из высшего слоя или правящих кругов, их присутствие в политической элите рассматривалось как морально развращающее. Однако применение этих законов требовало содействия со стороны местных городских чиновников: управляющих провинциями, городских юристов, известных как defensores civitatum («защитники городов»)‚ и представителей церкви; всех их поощряли действовать в ответ на обвинения, выдвинутые доносчиками [16]. В распоряжении церкви была целая армия юристов, defensores ecclesiae («защитников церкви»), которых уже использовали в расследовании обвинений в ереси и которых теперь направили на борьбу против подозреваемых в тайном язычестве. Всегда существовала возможность, о которой прекрасно знал Юстиниан: богатые язычники могли просто подкупить государственных чиновников и прочих официальных лиц (даже епископов), чтобы те не обращали на них внимания и позволили им жить своей жизнью; а в тех частях империи, где были сильны антихалкидонские настроения, многие представители церкви‚ скорее всего‚ совершенно не были склонны действовать по указке Юстиниана и инициировать масштабные религиозные преследования [17]. К примеру, трудности, с которыми власти империи столкнулись при навязывании религиозной политики в преимущественно антихалкидонском Египте, возможно, дали языческим философам Александрии необычайно высокий уровень защиты. Согласно хроникам, в конце V века крайне антихалкидонский патриарх Александрии Петр Монг пришел к соглашению с главой тамошней философской школы, и его преемники чувствовали себя обязанными это соглашение соблюдать [18].
Однако новые законы Юстиниана действительно подразумевали, что в тех регионах, где симпатии чиновников и епископов более полно соответствовали его собственным, эти должностные лица не только имели полную свободу действий, но и явным образом поощрялись к тому, чтобы преследовать высокопоставленных или состоятельных язычников, которых они прежде считали потенциально слишком влиятельными или могущественными и не смели трогать. Применение этих законов в Афинах было достаточно жестким, чтобы вынудить ведущего языческого философа покинуть город в компании соратников и учеников («он был недоволен, – пишет близкий к тому времени источник, – преобладавшим среди римлян верованием в высшее существо»). Они направились в Персию, где, по их сведениям, власти больше ценили достоинства греческой философской традиции [19]. Позже философы решат возвратиться на римскую территорию, но лишь после того, как новый персидский шах Хосров во время переговоров с Юстинианом убедил того позволить им вернуться и не причинять им вреда [20].
Юстиниан расширил рамки своих чисток, включив в них любого, чей образ жизни, по его мнению, наносил ущерб общественной морали. Примерно в это же время он решил выступить против тех, кого по большей части игнорировали поучительные законы предыдущих христианских императоров‚ – мужчин, имевших сексуальные отношения с другими мужчинами. В тот год, если верить летописи Иоанна Малалы, «некоторых епископов из разных провинций обвинили в аморальной жизни в вопросах плоти и в мужеложстве». Малала упоминает конкретных людей, ставших мишенью преследований: «Исайя, епископ Родоса, бывший префект стражи в Константинополе, а также епископ из Диосполиса во Фракии по имени Александр». «Согласно священному приказу, – продолжает он, – их привезли в Константинополь, где их допросил и обвинил Виктор, городской префект, который подверг их наказанию». Затем Малала рассказывает, как префект «жестоко пытал Исайю, и изгнал его, и отрезал гениталии Александру‚ и возил его по городу на носилках. Император немедленно издал указ, предписывавший отрезать гениталии всем уличенным в мужеложстве. В то время многие гомосексуалы были арестованы и умерли от ран, после того как лишились гениталий. С тех пор среди тех, кто был поражен мужеложской похотью, поселился страх» [21]. Прокопий, чей рассказ подтверждает свидетельство Малалы, считал преследование подобных людей излишней жестокостью со стороны Юстиниана [22]. Таким образом, «внедряющее христианство» законодательство Юстиниана во многом отличалось от законодательств его предшественников – не только числом законов и вопросов, которых они касались, но и жестокостью, с которой они применялись.
Bepul matn qismi tugad.