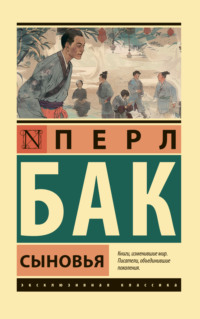Kitobni o'qish: «Сыновья»
Pearl S. Buck
SONS
© The Pearl S. Buck Family Trust, 1932
© Перевод. Н. Дарузес, наследники, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
I
Ван Лун умирал. Он умирал в своем маленьком и темном старом доме среди полей, в комнате, где он спал еще юношей, на той самой кровати, где провел брачную ночь. Эта комната была меньше любой из кухонь в большом городском доме, тоже принадлежавшем ему, где жили теперь его сыновья и внуки. Но смерти нельзя избежать, и он был доволен, что умирает здесь, на своей земле, в старом доме своих предков, на кровати с синим ситцевым пологом, в комнате, где стоят грубый некрашеный стол и скамейки.
Ван Лун знал, что пришло его время, и, глядя на сыновей, стоявших возле его постели, понимал, что они ждут его смерти и что час его настал. Они позвали лучших врачей из города, и те пришли с иглами и лекарственными травами, долго щупали его пульс и смотрели язык, а потом собрали свои лекарства и, уходя, сказали:
– Он умирает от старости, никто не может избежать предназначенной ему смерти.
Ван Лун слышал, как шептались оба его сына, которые должны были оставаться при нем в этом старом доме до самой его смерти, – они думали, что отец забылся сном, но он слышал, как один торжественно сказал другому:
– Нужно послать на Юг за третьим сыном, нашим младшим братом.
И средний сын отвечал:
– Да, нужно послать немедля; кто знает, где он скитается под командой своего генерала.
И услышав это, Ван Лун понял, что они готовятся к его похоронам.
Рядом с кроватью стоял гроб, который сыновья купили и поставили здесь ему в утешение. Гроб был большой, выдолбленный из цельного ствола железного дерева; он загораживал всю комнату, и те, кто входил и выходил, должны были жаться к стенке, обходя его кругом. Гроб стоил около шестисот серебряных монет, но даже средний сын не жалел о таком расходе, хотя не любил выпускать деньги из рук и редко тратил столько же, сколько получал. Нет, сыновьям не жаль было серебра, потому что Ван Лун радовался красивому гробу и время от времени, когда чувствовал себя в силах, протягивал ослабевшую желтую руку и ощупывал полированное черное дерево. Внутри этого гроба был второй гроб, выструганный до гладкости желтого атласа, – один входил в другой, как душа человека входит в тело. Такому гробу всякий был бы рад.
Несмотря на все это, Ван Луну было не так легко умирать, как его дряхлому отцу. Правда, душа его не раз была готова отправиться в путь, но каждый раз его еще крепкое тело возмущалось, что душа покидает его, и тогда между телом и душой начиналась борьба. Ван Лун пугался этого раздора. Душа его всегда была слабее тела; в свое время он был человек крепкий и здоровый, нелегко ему было расставаться со своим телом, чувствуя, что душа ускользает от него; он пугался и кричал хриплым, прерывающимся голосом, без слов, как кричат дети.
Как только он вскрикивал, его молодая наложница Цветок Груши, сидевшая возле него и день и ночь, начинала гладить его дряхлую руку своей нежной рукой, и оба сына бросались к нему и, утешая его, рассказывали о том, какие они ему устроят похороны. Снова и снова они повторяли рассказ о том, что собирались для него сделать. Старший сын, крупный, одетый в шелка мужчина, наклонялся над маленьким, высохшим телом умирающего старика и кричал ему на ухо:
– Процессия растянется больше чем на милю, и все мы пойдем за твоим гробом, и твои жены, как подобает, будут плакать, провожая тебя, и твои сыновья и внуки, в белых траурных одеждах из посконного холста, и соседи-крестьяне, и все твои арендаторы пойдут за твоим гробом! И носилки для твоей души понесут впереди, а на них поставят твой портрет, который мы заказали живописцу, а за носилками понесут твой красивый большой гроб, и ты будешь лежать в нем, словно император, в новой одежде, которая уже готова и дожидается тебя; и уже взяты напрокат шитые золотом красные покрывала, – ими покроют твой гроб, когда понесут его по городским улицам, все напоказ!
Так он кричал, пока у него не перехватывало дыхание и лицо не наливалось кровью, потому что он был человек тучный, а когда он выпрямлялся, переводя дух, рассказ продолжал средний сын Ван Луна. Это был хитрый маленький человек с желтым лицом, и говорил он в нос, пронзительным тонким голосом:
– Придут и священники, которые с пением будут провожать твою душу в рай, придут и наемные плакальщики и носильщики в желтых с красным одеждах и понесут все, что может понадобиться тебе, когда ты станешь тенью. Мы заказали два дома из тростника и бумаги, они стоят пока в большом зале; один дом такой, как этот, а другой – как наш городской дом; в нем есть всякая домашняя утварь, слуги и рабы, носилки и лошадь и все, что может тебе понадобиться. Они так хорошо сделаны из разноцветной бумаги, что я готов поклясться: не будет тени богаче твоей, когда мы сожжем эти дома на могиле и отправим их вслед за тобой, – и все эти вещи понесут за гробом, напоказ всему городу. Мы молимся только, чтобы для похорон выдался ясный день!
Старик обрадовался и, задыхаясь, шепнул:
– Пожалуй, на похороны придет весь город…
– Еще бы, разумеется, весь! – громко воскликнул старший сын и сделал широкий жест своей большой и мягкой белой рукой.
– По обеим сторонам улицы соберутся толпы народа, смотреть на похороны, потому что таких похорон не бывало давно, нет – какое там! – не бывало с тех самых пор, как большой дом Хуанов пришел в упадок!
Ван Лун облегченно вздохнул и так утешился, что на этот раз забыл о смерти и тут же уснул легким и чутким сном.
Но даже и это утешение не могло длиться вечно, и настал час на рассвете шестого дня, когда предсмертные муки старика пришли к концу. Оба сына устали дожидаться этого часа, потому что с юных лет отвыкли от лишений и не жили в этом неудобном и тесном доме: утомленные долгими муками отца, они легли спать на маленьком внутреннем дворе, который был выстроен их отцом много лет тому назад, в те дни, когда он был во цвете лет и взял свою первую наложницу Лотос. В начале ночи, уходя отдыхать, они велели Цветку Груши позвать их, если у отца вдруг начнется агония. На постели, которая когда-то казалась Ван Луну такой красивой и где он так страстно предавался любви, теперь улегся его старший сын, жалуясь, что кровать жестка и шатается от ветхости и что в комнате темно и душно, несмотря на весеннюю пору. Но улегшись, он уснул крепким сном, и прерывистый громкий храп вырывался из его жирного горла. А средний сын лег на коротком бамбуковом ложе у стены и уснул легким сном, тихо, как спят кошки.
Но Цветок Груши не спала совсем. Она просидела всю ночь, по своему обыкновению тихо и неподвижно, на маленьком бамбуковом стуле, таком низком, что когда она сидела возле кровати, лицо ее было близко к лицу старика, и держала его иссохшую, дряхлую руку в своих нежных ладонях. По возрасту она годилась в дочери Ван Луну и все же не казалась молодой, потому что у нее было терпеливое выражение лица и все, что она делала, она делала размеренно и как нельзя более терпеливо, что несвойственно молодости. Так она сидела возле старика, который был добр к ней, словно отец, добрее всех других, кого она знала, – и не плакала. Не отрываясь, час за часом смотрела она на лицо умирающего, когда он спал тихим сном – тихим и почти таким же глубоким, как смерть.
Неожиданно, в тот ранний час перед рассветом, когда тьма становится всего чернее, Ван Лун открыл глаза и почувствовал такую слабость, словно душа уже покинула его тело. Он скосил немного глаза и увидел, что Цветок Груши сидит возле него. Он был так слаб, что испугался этой слабости, и сказал прерывающимся шепотом, с трудом переводя дыхание:
– Дитя, это смерть?
Она успокаивала его, повторяя снова и снова, своим обыкновенным голосом:
– Нет, нет, господин, тебе лучше, ты не умираешь!
– Ты… так думаешь? – прошептал он снова, успокоенный ее ровным, как всегда, голосом, и остановил потускневший взгляд на ее лице.
Тогда Цветок Груши поняла, что должно произойти, сердце ее забилось сильно и быстро, она встала и, склонившись над ним, сказала все тем же мягким и ровным голосом:
– Разве я когда-нибудь обманывала тебя, господин? Смотри, я держу твою руку, и она теплая и сильная, тебе с каждой минутой становится лучше! Тебе хорошо, господин! Тебе нечего бояться, – не бойся же, тебе лучше, гораздо лучше!
Она успокаивала его, повторяя снова и снова, что ему лучше, и крепко сжимала его руку своими теплыми руками, и он лежал, улыбаясь ей, а глаза его становились все мутнее и неподвижнее, губы холодели, и слух напрягался, ловя звуки ее ровного голоса. Когда она увидела, что наступила его последняя минута, она наклонилась ближе к нему и сказала ясно и громко:
– Тебе лучше, гораздо лучше! Это не смерть, господин мой, нет, это не смерть!
Так она утешала умирающего, и, отзываясь на ее голос, сердце его вздрогнуло в последний раз – и остановилось. Но смерть его не была спокойной. Нет, хотя он умер утешенным, но в ту минуту, когда его душа расставалась с телом, оно взметнулось, словно в припадке ярости, руки и ноги раскинулись с такой силой, что костлявая дряхлая рука взлетела вверх и ударила наклонившуюся к нему Цветок Груши. Рука ударила ее по лицу, и так больно, что она закрылась рукой и прошептала:
– В первый раз ты ударил меня, господин!
Но он не ответил. Тогда она опустила глаза и увидела, что он лежит весь разметавшись, и в то время как она смотрела на него, он испустил последний прерывистый вздох и затих. Она выпрямила его дряхлые руки и ноги, дотрагиваясь до них легко и осторожно, и поправила одеяло, покрывавшее его. Тонкими пальцами она закрыла остановившиеся глаза, которые больше не могли ее видеть, и с минуту смотрела на улыбку, не сходившую с его лица с тех пор, как она сказала ему, что он не умрет.
Она сделала все, что нужно, и понимала, что теперь должна пойти и позвать сыновей. Но она снова села на низкий стул. Она понимала, что должна пойти и позвать сыновей. Но она взяла руку, которая ее ударила, прижалась к ней головой и, пользуясь тем, что она одна в комнате, беззвучно заплакала скупыми слезами. Сердце у нее было странное, печальное по самой своей природе, и плачем она не могла облегчить его, потому что слезы не приносили ей успокоения. Так она просидела недолго, потом поднялась и пошла будить обоих братьев, говоря им:
– Вам незачем спешить, он уже умер!
Но они откликнулись на ее зов и поспешно вышли к ней, – старший в шелковой нижней одежде, которая смялась на нем во время сна, со сбившимися волосами; оба они, не мешкая, отправились к отцу. Он лежал так, как уложила его Цветок Груши, и оба сына смотрели на него, словно до сих пор никогда его не видели, и теперь он внушал им страх. Потом старший сын спросил шопотом, словно в комнате был кто-то чужой:
– Легко он умирал или трудно?
И Цветок Груши ответила спокойно, как всегда:
– Он умер, сам не зная, что умирает.
Тогда второй сын сказал:
– Он словно спит и не похож на мертвого.
Некоторое время оба сына смотрели на умершего отца с каким-то неясным и смутным страхом, оттого что он так беззащитно лежал перед ними, и Цветок Груши, угадав этот страх, кротко сказала:
– Для него еще многое нужно сделать.
Тогда они оба очнулись и были рады, что им снова напомнили о жизни; старший торопливо разгладил смятую одежду и, проведя рукой по лицу, хрипло сказал:
– Верно, верно: нам нужно позаботиться о похоронах, – и они заторопились прочь, довольные, что уходят из дома, где лежит их умерший отец.
II
Незадолго до смерти Ван Лун дал своим сыновьям наказ, чтобы гроб с его телом оставили в старом доме до тех пор, пока его не зароют в собственной земле. Но когда пришло время готовиться к похоронам, сыновья подумали, что очень трудно будет ходить так далеко из городского дома, и, вспомнив, что до погребения должно пройти сорок девять дней, решили, что не стоит слушаться отца, раз его уже нет в живых. И правда, во многих отношениях это было для них неудобно: священники из городского храма жаловались, что на отпевание нужно ходить так далеко, и даже люди, которые пришли обмыть и одеть тело Ван Луна, облачить его в шелковые погребальные одежды, положить в гроб и запечатать крышку гроба, требовали двойной платы и просили так много, что средний сын пришел в ужас.
Тогда братья переглянулись, стоя над гробом старика, и обоим пришла в голову одна и та же мысль: «Мертвый ничего больше не скажет». Они позвали арендаторов и велели перенести Ван Луна в городской дом, на те дворы, где он жил, а Цветок Груши, хотя и возражала против этого, не могла уговорить их. Когда она поняла, что слова ее не достигают цели, она сказала спокойно:
– Я думала, что мы с бедной дурочкой не вернемся больше в городской дом, но если господин наш возвращается, то и мы должны вернуться вместе с ним, – и она взяла с собой дурочку, старшую дочь Ван Луна, уже немолодую женщину, которая и в старости осталась все тем же неразумным ребенком, каким была всю свою жизнь, и пошла вместе с ней по проселочной дороге за гробом Ван Луна, а дурочка шла и смеялась оттого, что день был весенний, ясный и теплый и солнце светило ярко.
Так Цветок Груши снова вернулась во двор, где она жила при жизни Ван Луна: на этот двор он привел ее много лет назад, в тот день, когда, несмотря на старость, кровь его струилась быстро и легко, и он чувствовал себя одиноким в большом доме. Теперь во дворе было тихо, со всех дверей большого дома сорвали красные бумажные квадраты в знак того, что смерть вошла в дом, и на большие ворота с улицы наклеили белую бумагу. Цветок Груши и день и ночь проводила возле покойного.
Однажды, когда она сидела возле гроба Ван Луна, к калитке дворика подошла служанка. – Лотос, первая наложница Ван Луна, прислала ее с известием, что придет поклониться своему покойному господину. Цветок Груши обязана была ответить ей вежливо, что она и сделала, хотя ненавидела Лотос, свою старую госпожу, и, поднявшись с места, стала дожидаться ее, передвигая взад и вперед свечу, горевшую возле гроба.
В первый раз Цветку Груши пришлось свидеться с Лотосом, в первый раз с того дня, когда Лотос рассердилась на Ван Луна, узнав, что он взял на свой двор девушку, которая с детства была ее рабыней, и приказала, чтобы Цветок Груши не показывалась ей больше на глаза. Она до сих пор так ревновала и сердилась, что притворялась, будто не знает, жива или нет Цветок Груши. По правде сказать, Лотос была любопытна, и теперь, когда Ван Лун умер, она оказала Кукушке – своей служанке:
– Что ж, если старик умер, нам с ней не из-за чего больше ссориться, – пойду посмотрю, на что она стала похожа.
Выбрав тот ранний час, когда священников еще не было у гроба, Лотос, опираясь на рабынь и сгорая от любопытства, вперевалку вышла со своего двора.
Она вошла в ту комнату, где Цветок Груши молилась, стоя у гроба, и приказала одной из рабынь зажечь перед гробом свечи и благовония, которые принесла с собой ради приличия. И пока рабыня это делала, Лотос не сводила глаз с Цветка Груши и жадно разглядывала – не изменилось ли ее лицо, не постарела ли она. Да, хотя Лотос надела траурные одежды и обулась в белые башмаки, – лицо ее не было печально, и она крикнула Цветку Груши:
– Ну, ты все та же бледная малютка, какой была прежде, и нисколько не изменилась! Не знаю, что он в тебе нашел? – И она утешалась тем, что Цветок Груши мала ростом и бесцветна и красота ее не бросается в глаза.
А Цветок Груши стояла возле гроба с поникшей головой и молчала, но такая ненависть наполнила ее сердце, что она испугалась сама себя и устыдилась при мысли, что она может быть такой злобной и так ненавидеть свою старую госпожу. Но дряхлый и рассеянный ум Лотоса не мог сосредоточиться даже на ненависти, и, насмотревшись досыта на Цветок Груши, она взглянула на гроб и пробормотала:
– Я готова поклясться, что его сыновья заплатили за это целую кучу серебра!
Она тяжело поднялась на ноги, подошла поближе к гробу и пощупала дерево, чтобы узнать ему цену.
Но Цветок Груши не могла вынести этого грубого прикосновения к тому, что она так нежно оберегала, и вскричала неожиданно и резко:
– Не тронь его! – и, стиснув маленькие руки на груди, закусила нижнюю губу.
Лотос засмеялась в ответ и крикнула:
– Как, ты все еще не унялась? – И презрительно смеясь, она села и стала смотреть, как горят, потрескивая, свечи; но скоро ей надоело и это, она встала, собираясь уходить. Повсюду заглядывая из любопытства, она увидела бедную дурочку, сидевшую в полосе солнечного света, и воскликнула:
– Как! Она все еще жива?
Тогда Цветок Груши вышла и стала рядом с дурочкой, сердце ее было до того полно ненависти, что она едва сдерживалась, а когда Лотос ушла, Цветок Груши взяла тряпку и долго вытирала гроб Вана Луна в том месте, до которого дотронулась Лотос, а потом дала дурочке сладкое печенье; та взяла его, радуясь неожиданному удовольствию, и ела, вскрикивая от восторга. А Цветок Груши долго смотрела на нее с грустью и наконец сказала, вздыхая:
– Только ты и осталась у меня от того, кто был добр ко мне и видел во мне не только рабыню.
Но дурочка только жевала печенье – она была глухонемая и не понимала, что ей говорят.
Так проходили для Цветка Груши дни перед похоронами; во дворах дни эти протекали в тишине, кроме тех часов, когда пели священники, потому что даже сыновья Ван Луна не приближались к гробу, разве только для выполнения какого-нибудь обряда. В большом доме все были встревожены и боялись тех земных духов, которые есть у каждого покойника, а Ван Лун в свое время был крепкий и здоровый человек, и нечего было надеяться, что семь земных духов скоро его оставят. Так и случилось – дом, казалось, был полон неведомых звуков, и служанки жаловались, что по ночам в постели их обдает холодный ветер и шевелит им волосы, и кто-то злобно скребется под окном, и почему-то горшки выскальзывали из рук у кухарки, а рабыни роняли чашки, прислуживая за столом.
Слушая такую болтовню невежественных служанок, сыновья и их жены притворно улыбались, но и они тоже беспокоились, и когда Лотос услышала эти рассказы, она заметила:
– Он всегда был своенравный старик.
Но Кукушка сказала:
– Пусть покойник делает что хочет, госпожа: не говори о нем худо, пока его не зароют в землю.
Одна Цветок Груши не боялась покойника и оставалась наедине с Ван Луном, так же как и при его жизни. Только завидев священников в желтых одеждах, она вставала и уходила в свою комнату и там сидела, прислушиваясь к их заунывному пению и мерному рокоту барабанов.
Один за другим освобождались семь земных духов умершего, и каждые семь дней главный священник говорил сыновьям Ван Луна: «Еще один дух оставил его». И каждый раз сыновья давали ему в награду серебро.
Так прошло семь раз по семи дней, и настал день похорон.
Весь город знал, какой день выбрал гадатель для похорон такого знатного человека, как Ван Лун, и в этот день в разгаре весны, когда по всему видно было, что лето уже близко, матери торопили за завтраком детей, чтобы не замешкаться и не пропустить всего, что можно было увидеть, и крестьяне в поле бросали пахоту, а продавцы в лавках и ученики ремесленников сговаривались, где выбрать место получше, чтобы увидеть проходящую мимо похоронную процессию. По всей округе знали Ван Луна, и каждому было известно, что прежде он был беден и обрабатывал землю, как все другие, а потом разбогател, стал основателем рода и оставил своим сыновьям богатство.
В этот день дом Ван Луна был полон шума и суеты, потому что нелегко отправить со двора такую большую процессию в полном порядке, и у старшего сына было столько дела, что он совсем сбился с ног, так как был глава дома и ему приходилось смотреть за всем: за множеством народа, за тем, чтобы каждый надел траур сообразно своему положению и чтобы наняты были носилки для женщин и детей. Как ни был он расстроен, он все же гордился своей ролью и тем, что люди то и дело бегали к нему и спрашивали, что делать в том или другом случае. Он волновался до того, что пот катился по лицу, словно в разгаре лета; в это время он случайно взглянул на спокойно стоявшего среднего брата, и это спокойствие так рассердило Вана Старшего, что он воскликнул:
– Ты все хлопоты предоставил мне, а сам не можешь даже присмотреть за тем, чтобы твоя жена и дети оделись как следует и вели себя прилично!
Ван Средний ответил вкрадчиво, но с тайной насмешкой:
– Зачем мне что-либо делать, если ты только тогда и доволен, когда все делаешь сам! Мы с женой хорошо знаем, как трудно угодить тебе и твоей супруге, а мы только и хотим угодить тебе!
Так, даже на похоронах Ван Луна, его сыновья ссорились между собой, но это было отчасти из-за того, что оба они растерялись, так как младшего брата все еще не было, и каждый винил в этом другого: старший сын винил среднего в том, что он дал посланному мало денег на случай, если бы ему пришлось в своих поисках заехать далеко, а средний сын винил старшего в том, что он задержал посланного на день или два.
Только один человек во всем доме был спокоен в этот день, и это была Цветок Груши. В своих траурных одеждах из белого посконного холста, которые, как подобало, немногим отличались от тех, какие надела Лотос, она спокойно сидела, охраняя Ван Луна. Она оделась заранее, одела и дурочку в траур, хотя бедняжка не понимала, зачем это делается, и беспрестанно смеялась, – непривычная одежда беспокоила ее, и она старалась сорвать ее с себя. Но Цветок Груши дала ей печенья и красный лоскуток, которым та стала играть; так Цветок Груши успокоила ее.
Что касается Лотоса, то никогда она так не суетилась, как в этот день: она стала теперь такой грузной, что не могла влезть в носилки, которые ей предлагали, и, пытаясь сесть то в одни, то в другие, кричала, что ни одни не годятся, – неизвестно, почему нынче стали делать такие маленькие и узкие носилки, – плакала и выходила из себя, боясь, что ей не удастся участвовать в похоронах такого знатного человека, каким был ее покойный муж. Когда она увидела, что дурочку одели в траур, то сорвала на ней свой гнев и пожаловалась Вану Старшему:
– Как, и она тоже будет на похоронах?
И, недовольная этим, говорила, что в такой торжественный день дурочку следовало бы оставить дома.
Но Цветок Груши сказала спокойно и твердо:
– Нет, господин сказал, чтобы я никогда не покидала бедную дурочку, – так он завещал мне перед смертью. Я могу ее успокоить, она слушается меня, привыкла ко мне, и мы никому не помешаем.
Тогда Ван Старший махнул на это рукой, он и без того разрывался на части, – столько было дела, столько народа ждало начала похорон; и заметив его растерянность, носильщики не упустили случая и потребовали больше денег, чем следовало; люди, которые должны были нести гроб, жаловались, что он слишком тяжел и что до семейного кладбища слишком далеко, а арендаторы и городские зеваки заполнили все дворы и стояли без дела, глазея и дожидаясь, когда двинется процессия. Ко всему этому прибавилось и еще одно: жена Вана Старшего беспрестанно попрекала его и жаловалась, что все делается не так, как нужно, и среди такой сумятицы, обливаясь потом, бегал Ван Старший, как уже давно не приходилось ему бегать, и хотя он кричал до хрипоты, никто не обращал на него внимания.
Неизвестно, похоронили бы Ван Луна в этот день или нет, но вышло очень кстати, что с Юга неожиданно приехал Ван Младший. Он вошел в самую последнюю минуту, и все бросились смотреть, какой он стал, потому что он ушел из дома десять лет тому назад, и никто не видал его с того самого дня, когда Ван Лун взял к себе во двор Цветок Груши. Да, в тот день Ван Младший ушел вне себя от ярости и с тех пор не возвращался. Он ушел из дома своенравным и хмурым юношей высокого роста, с вечно сдвинутыми густыми бровями, и, уходя, ненавидел отца. Теперь он вернулся взрослым мужчиной; ростом он стал выше обоих братьев и так изменился, что если бы не черные, все так же нахмуренные брови и не сжатый гневно рот, никто его не узнал бы.
Он вошел в ворота большими шагами, одетый в военную форму, но это не была одежда простого солдата. Куртка и штаны были из хорошего темного сукна, на куртке блестели позолоченные пуговицы, а на кожаном поясе висел палаш. За ним шли четыре солдата с винтовками на плечах, все видные собою люди, кроме одного с заячьей губой, но и тот тоже был здоров и крепок телом не хуже других.
Когда они вошли в большие ворота, – вместо суматохи и шума настала тишина. Все обернулись, стараясь рассмотреть Вана Младшего, и замолчали, потому что он казался человеком суровым и привыкшим повелевать. Он прошел твердыми большими шагами сквозь толпу арендаторов, священников и зевак, которые теснились, стараясь его получше разглядеть, и громко спросил:
– Где мои братья?
Кто-то побежал сказать обоим братьям, что младший брат уже здесь, и они вышли навстречу, не зная, как принимать его: с уважением, как почетного гостя, или как младшего брата и беглеца. Но когда они увидели его в этой одежде и четырех солдат позади, неподвижно дожидавшихся его распоряжений, они сразу стали учтивы, – так учтивы, как были бы с посторонним. Они кланялись и тяжело вздыхали, удрученные скорбью. Тогда Ван Младший, как и подобало, низко поклонился своим братьям, оглянулся и спросил:
– Где мой отец?
Тогда братья повели его во внутренний двор, где Ван Лун лежал в гробу под красным, шитым золотом покрывалом, и Ван Младший приказал своим солдатам остаться во дворе и один вошел в комнату. Услышав стук кожаных башмаков по каменным плитам, Цветок Груши быстро взглянула на вошедшего, поспешно повернулась лицом к стене и все время простояла отвернувшись.
Но Ван Младший не подал и виду, что заметил ее или узнал, кто она такая. Он поклонился гробу и потребовал траурные одежды, которые были для него приготовлены, хотя, когда он надел их, они оказались короткими, потому что братья не думали, что он такого высокого роста. Тем не менее он облачился в них, зажег две новые свечи, купленные им, и велел подать свежие кушания, чтобы принести их в жертву перед гробом отца.
Когда все было готово, он трижды поклонился отцу до земли и воскликнул, как подобало: «Отец мой!» Но Цветок Груши упорно отворачивалась к стене и ни разу не посмотрела, что он делает.
Выполнив обряд, Ван Младший встал и сказал по своей привычке отрывисто и резко:
– Нужно начинать, если все готово!
И тогда – странное дело! – там, где было столько сумятицы и шума, где люди бегали взад и вперед и без толку кричали друг на друга, теперь были тишина и готовность повиноваться, ибо в самом присутствии Вана Младшего и его солдат была сила, и хотя носильщики снова начали жаловаться, но уже не грубили, как Вану Старшему, и голоса их звучали мягко и умоляюще, а речи были разумны.
Но и тут Ван Младший сдвинул свои брови и так посмотрел на носильщиков, что голоса их замерли, и когда он оказал: «Делайте свое дело и знайте, что в этом доме с вами поступят справедливо!» – они замолчали и пошли к носилкам, словно у солдат с ружьями была какая-то волшебная власть.
Каждый стал на свое место, и наконец большой гроб вынесли во двор, обвязали веревками, продели под веревки шесты, гибкие, как молодые деревья, и носильщики подставили плечи под эти шесты. Были там и носилки для духа Ван Луна, и на них положили: трубку, которую он курил в течение многих лет, одежду, которую он носил, и портрет, написанный нанятым во время болезни Ван Луна живописцем, потому что до тех пор с него не писали портрета. Правда, портрет не был похож на Ван Луна, а изображал какого-то мудрого старца, но художник сделал все, что мог: намалевал густые усы и брови и бесчисленные морщины, какие бывают у стариков.
Процессия двинулась в путь, и тут женщины подняли плач и стон, и громче всех рыдала Лотос. Она растрепала волосы и, держа в руках новый белый платок, прикладывала его то к одному, то к другому глазу и, громко всхлипывая, кричала:
– Ах, нет больше моей опоры, нет моего господина!
А вдоль улиц густой толпой теснился народ, стараясь разглядеть, как в последний раз понесут Ван Луна, и, видя Лотос, все одобрительно шептали:
– Она достойная женщина и оплакивает хорошего человека!
А некоторые удивлялись, что такая грузная и толстая женщина плачет так усердно и громко, и говорили: «Какой же он был богач, если раскормил ее до таких размеров!» И все завидовали богатству Ван Луна.
Что касается невесток Ван Луна, то каждая из них плакала сообразно своему нраву. Жена Вана Старшего плакала с достоинством и не больше, чем должно, время от времени поднося платок к глазам, – да ей и не подобало плакать так много, как плакала Лотос. Наложница ее мужа, хорошенькая, полная женщина, взятая им в дом не больше года тому назад, следила, когда заплачет ее госпожа, и плакала вместе с ней. А жена Вана Среднего, крестьянка, забывала, что нужно плакать, оттого что в первый раз ее несли по городским улицам носильщики на плечах, глядела по сторонам на сотни мужчин, женщин и детей, теснившихся у стен и толпившихся в дворах домов, и ей вовсе не хотелось плакать, а когда она спохватывалась и закрывала глаза рукой, то смотрела украдкой сквозь пальцы и снова забывала о том, что нужно плакать.
Еще в старое время было сказано, что всех плачущих женщин можно разделить на три рода. Есть такие, которые возвышают голос и льют слезы, и про них можно сказать, что они рыдают; другие громко жалуются, но не проливают слез, и про них можно сказать, что они вопят, и есть такие, у которых слезы льются беззвучно, и это можно назвать плачем. Среди всех женщин, следовавших за гробом Ван Луна, среди его жен и жен его сыновей, и рабынь, и служанок, и наемных плакальщиц была только одна, которая плакала по-настоящему, и это была Цветок Груши. Она сидела в носилках, опустив занавеси, чтобы никто ее не видел, и плакала горько и беззвучно. Даже когда кончились торжественные похороны и Ван Луна опустили в могилу и засыпали землей, когда тростниковые дома и бумажные слуги превратились в пепел, а зажженные благовония дотлели и сыновья Ван Луна проделали установленные поклоны, а плакальщики проплакали, сколько полагается, и получили свою плату, когда все кончилось и земля высоким холмом поднялась над свежей могилой и уже никто не плакал, потому что все кончилось и плакать больше было незачем, – даже и тогда Цветок Груши продолжала молча лить слезы.
Возвращаться в городской дом она не хотела. Она вернулась в старый дом, и когда Ван Старший стал настаивать, чтобы и она жила вместе со всей семьей в городском доме, Цветок Груши покачала головой и ответила: