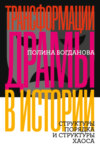Kitobni o'qish: «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е»
Предисловие
Перед тем как приступить к написанию книги, автор выработал две главные цели своего исследования: а) взглянуть на развитие советской драматургии с точки зрения человека начала XXI века, когда канон советского театра более не властен над нынешней театральной реальностью, и б) поддержать идею непрерывности развития современной пьесы в России. Две эти цели, сформировавшие отношение к предмету исследования, требуют расшифровки.
История России вместе с историей культуры России движется скачками, импульсами; периоды не развивают, а сменяют друг друга. Культуре приходилось в прямом смысле слова обнуляться, зачеркивая прошлое. Раскол, размежевание и неизбежное обнуление после смещения времен – в порядке вещей для российской жизни. Яростная десоветизация после распада СССР встает в этом смысле в один ряд с точно такими же обновленческими процессами других эпох, в которых раскол означал быстрое забывание «отжившего». И действительно, та атакующая лавина западной культуры (как массовой, так и элитарной), которая обрушилась на нас после крушения железного занавеса, оттеснила даже лучшие феномены советской культуры на периферию всех процессов или превратила их в объект соц-артовских насмешек, пародирования. Сейчас наступило то время, когда необходимо потратить некоторое усилие на реабилитацию советского искусства, на художественную селекцию и – самое важное – очищение от идеологии, которая сопровождала художественные процессы все семьдесят пять лет советской власти. Сегодня, когда для новых поколений зрителей советский быт является уже музейным, когда появилась физическая возможность вывести героев Розова и Арбузова из рамок быта, подвергнуть их пространственно-временной интерпретации, необходимо посмотреть на лучшие пьесы из наследия советского театра глазами человека иной исторической эпохи. Что в них пережило время, а что оказалось похороненным; как применить те эмоции и то знание сегодня, в обстоятельствах нового театра. Но вместе с тем важен для исследователя и социологический аспект: драматургия, как никакой иной жанр, выявляет характеристики эпохи – через тип конфликта, героя и язык персонажей. Чем был этот удивительный феномен – советский человек – и каким он предстает в пьесах, в которых зафиксирована драма памяти?
Театральный зритель сегодня пришел к той точке, когда советская жизнь 1950-х годов или быт военной поры стали феноменами, известными обществу исключительно по пространству искусства. Сегодня, чтобы измерить подлинность того или иного спектакля про жизнь 1940–1950-х, большей части зрителя приходится обращаться не к собственной памяти, а уже к культурной. Поэтому реабилитационные процессы очень нужны современному театру, перед которым сегодня самым острым образом стоит проблема обновления, раскрепощения, деканонизации репертуара, поиска неожиданных репертуарных решений. И тут явление советской пьесы, с которой сняты идеологические и бытовые ограничения, должно быть явно востребовано – хотя бы для проникновения в эту историческую память, каким образом она раз и навсегда запечатлелась в пьесах о современниках тех лет.
В частности, есть две микрозадачи: во-первых, обнаружить через пьесу реконструкцию религиозного сознания в атеистическом обществе и, во-вторых, увидеть, как авторы советской поры могли почувствовать мировые тренды в искусстве и философии и – даже невзирая на изоляцию, сами того не зная – умудрились вписаться в контекст западной культуры.
Вторая цель – показать неразрывность развития русскоязычной пьесы – позволила автору соединить в одной книге советскую драматургию 1950–1980-х годов с феноменом новой пьесы 1990–2010-х. Тот же политический раскол и последовавшее за ним обнуление художественной жизни словно бы невидимым лезвием отрезали советскую культуру от постсоветской. В одночасье испарились институции, занимавшиеся развитием и распространением современной пьесы, сменились режиссерские поколения, сместились интересы театральной публики и создателей театра. Поменялся сам зритель: есть ощущение, что аудитории 1980-х, 1990-х и 2000–2010-х – это три разные, не пересекающиеся страты. Русский театр очень тяжело пережил 1990-е: когда социальные катаклизмы лишили его экономической базы, он отошел от своих гражданских позиций, в результате чего угас интерес интеллектуального зрителя к театру. Последние советские драматурги в 1990-х почти перестают работать для сцены. В середине десятилетия пришло первое осознание проблемы: современная драматургия стала необязательным элементом театра, в ней не нуждаются. Современный герой тогда покинул современную сцену, и у новой драматургии не осталось места для приложения своих усилий. Пьесы тем не менее писались – в основном стихийно, но в отсутствие старых и новых (интернет еще не стал массовым) технологий распространения драматургии не было связи между миром литературы и миром театра. До сих пор мы расплачиваемся за эту ситуацию тем, что современные прозаики просто не осознают, что театр – это прекрасный рынок для молодой литературы, а театр не создает мотивации для них, не видит в них партнера, пьесы прозаикам не заказывает. Возвращение большой литературы в театр – дело ближайшего будущего.
С середины 1990-х при содействии драматургов, попавших в позорное безвременье, – Елены Греминой, Михаила Угарова и других – работают очень важные для театра перелома веков фестивали «Любимовка» и затем «Новая драма» – движение молодой драматургии, которое ставит своей целью консолидацию и создание мотиваций для обновления драматургической жизни страны. С начала 2000-х ситуация резко меняется: театры начинают замечать современную пьесу, ситуация выравнивается, мостик между сценой и драматургами выстраивается.
Но проблема провала, пропасти, разрыва между драматургами 1980-х и 2000-х все равно остается актуальной: не было рукопожатий между поколениями Петрушевской и Вырыпаева (в отличие, например, от цеха режиссеров или театральной критики). Кроме того, параллельно крушился, ломался театральный канон (а вернее, он раскрепощался и расширялся до бесформенности: сегодня мы подошли к отсутствию канонического представления о театре вообще). Театр (в котором весьма отчетливой стала, скажем, ветвь постдраматической или документальной эстетики) стал требовать совершенно иной драматургии – уж точно далекой от канона «хорошо сделанной пьесы». Пропасть между драматургическими поколениями была, кроме всего прочего, и чисто географической. Феномен «новой драмы» – это провинциальный феномен по преимуществу. Многие драматурги этой волны признавались, что пьесы начали писать с нулевым или резко отрицательным опытом театральной «насмотренности». Часто пьеса создавалась в «ожоге» от провинциального театра, где, как ни посмотри, театр редко демонстрирует стабильно хороший уровень и уж тем более разнообразие театральных эстетик. В этом смысле мы действительно в начале 2000-х получили драматургов-варваров со стихийным образованием (для кого-то «неоварварство» – клеймо на этом драматургическом поколении, для кого-то – благо: авангардная культура во все времена обновлялась исключительно за счет любителей). Их отличала скорее греза о театре будущего, нежели знание потребностей и лексикона современного театра. Культурные кумиры этого драматургического «неоварварства» – не Вампилов и Володин, как бы хотелось думать. Скорее уж рок-музыка или европейский артхаус.
Но автор исследования исходит из позиции, что даже эти процессы не мешают наметить пусть пунктирный, но единый путь развития драматургической мысли целых поколений. Традиция – не вещь, которая передается как соль и перец за обеденным столом, она может прорастать в человеке культуры исподволь, как прорастает в нас тень предков, даже если мы не встречались с ними лично. В пьесе Иосифа Бродского «Мрамор» (1982) есть важное признание: «…поэт там начинает, где предшественник кончил. Это как лестница; только начинаешь не с первой ступеньки, а с последней. И следующую сам себе сколачиваешь…»
И поэтому одна из потаенных целей этой книги – понять, как духовное наследие «великой четверки» (Розов, Арбузов, Володин, Вампилов) – через во многом пародийных драматургов Петрушевскую и Сорокина – отразилось на тех, кто сегодня отвечает за драматургические силы страны. Какие невидимые нити сшивают поколения, не видевшие друг друга.
Автор также желает предуведомить, что очерки о драматургах зачастую лишены биографических данных, сведений о важнейших театральных постановках, равным образом как и ссылок на критику, другие исследования (а их количество – мизерно), а также на театральные реалии тех лет. Это сделано сознательно с технологическими целями: автор хотел бы сосредоточиться только на самом предмете – анализе драмы через медленное чтение текста наедине с автором.
Автор исследования, взявшийся за труд описать драматургический опыт трех четвертей века, отчетливо осознает, какое количество пьес и имен он оставляет за бортом, не включает в данное, и так слишком разросшееся издание. Селекция предметов для исследования – субъективная и несправедливая, но это не значит, что эти имена и явления незаслуженно забыты: автор обязуется обратить на них внимание в своих дальнейших публикациях.
Автор выражает огромную благодарность студентам многих курсов РГГУ, ГИТИСа и Школы-студии МХАТ, которым он читал лекции о драматургах, прежде чем текст книги приобрел данную форму, и в живом диалоге с которыми сформировались многие постулаты этого исследования.
Автор выражает колоссальное признание Анне Степановой, Татьяне Тихоновец и Анне Ананской за чтение рукописи и внесение существенных корректив в текст книги.
Виктор Розов. «Только радость, только прямота!»
Разговор о послевоенной пьесе правильнее всего начать с Виктора Розова (1913–2004). Хронологически это неверно: драматургическая жизнь Алексея Арбузова успешно началась до Розова, – зато верно тематически: «Вечно живые» Розова повернули разговор о войне из области прямолинейной идеологии и победных интонаций упрощенного искусства конца 1930-х и 1940-х в область сложных решений и споров. Розов тем самым не только начал дискуссию о нравственных потерях войны, но и заговорил о войне как о поворотном пункте советской истории, с которого начинается некий моральный отсчет. Пьеса «Вечно живые», поставленная «Современником», открывает эру нового советского театра, новой искренности в нем, новой нравственной ноты. И новой интонации: о войне заговорили принципиально иным языком. Розов разработал его еще во фронтовом госпитале в 1943–м, а оттепель дала возможность этому языку прозвучать.
Основной темой Виктора Розова стала послевоенная молодежь, вступающая в «неравный бой» как с недоверием к себе от людей военного поколения, так и с их прямолинейностью, привычкой делить мир на плохое и хорошее, на молодое, неопытное, – и старое, проверенное, умудренное опытом. С Розова начинается история сложного, драматично и конфликтно устроенного человека – человека нового времени, словно вобравшего в себя историческую травму, поглотившего ее. Его герои учились под покровительством и предводительством сильных отцов, победивших фашизм. И вот теперь, в 1950-е они становятся самостоятельным поколением, они готовы принимать ответственность за свою жизнь – часто через поступки парадоксальные, неоднозначные с точки зрения банального морализма. В пьесах Виктора Розова картина мира бежит моральной однозначности: хулиганство может не быть деструктивным, а рафинированное мировоззрение интеллигента может не быть синонимом добродетели. Розов, этот хромой русский воин, шагнувший в месиво войны и еле выживший, сумел показать, как торжествует живая жизнь над законом и регламентом, как после смертельной схватки двух тоталитарных государств начинает цениться самое важное: витальность, пульс времени, способность быть живым, прорастать сквозь толщу мещанства. Вот что говорит об этом сам драматург в книге воспоминаний:
Я мог неторопливо и с аппетитом есть манную кашу, а рядом на койке (речь идет о фронтовом госпитале. – П.Р.) закрывали простыней умершего соседа. Под простыней обрисовывались его нос, живот, кончики ног. А я ел вкусную сладкую манную кашу. С аппетитом. Опять скажете: черствость, эгоизм, одеревенение естественных чувств? Нет, не эгоизм, не черствость, не одеревенение. Это сила жизни. …Как ни старалась война убить все живое, жизнь лезла во все щели, везде1.
И в своих первых пьесах Розов напишет именно об этой послевоенной жажде жизни – во всех ее проявлениях, дурных и отрадных.
Герои Виктора Розова этого периода получили в истории культуры наименование «розовские мальчики». Это не столько аналог феномена «молодых рассерженных» в Великобритании и США 1950-х, сколько более приятное для национального менталитета напоминание о «русских мальчиках» Достоевского – о той молодежи, которая чувство правды и справедливости, рассуждения о судьбах Родины и мировой душе, решение «последних вопросов» ставила выше инстинкта самосохранения и выживания. С «розовскими мальчиками» приходит зарождение новой морали в послевоенном русском обществе. Морали, характеризующейся отходом от прямолинейности, дуального мировоззрения войны, когда совершенно ясно, где враг и что с ним делать здесь и сейчас. По логике войны Вероника из «Вечно живых» – враг и предатель; да и Олег из пьесы «В поисках радости», с точки зрения человека, выжившего в войну и желающего пожить вдоволь, – всего лишь вредитель, мальчишка, в дурости своей пародирующий и снижающий подвиг отца.
У пьесы «В поисках радости» (1956) – причудливое название. Если радость нужно искать, завоевывать, значит, ее пока не существует. Для страны, победившей нацизм, утверждение более чем странное, чреватое излишним драматизмом. В этой пьесе, пожалуй, все ищут свою радость. Все маниакально заняты ее поисками, словно бы радость эта – спасение для каждого. Мир, где радость доселе была дефицитом, сегодня беременен радостью – человек изголодался по счастью. В фильме Анатолия Эфроса и Георгия Натансона «Шумный день» (1960), снятом по этой пьесе, мы видим просторную московскую квартиру, залитую солнцем и радостью нового дня. Пусть шумный день означает и серию семейных конфликтов, но шумная радость, надежда на полноценное освоение жизни – это тот фетиш, который хочется заполучить. Вопрос только в качестве этой радости. Качество, которое каждый из героев понимает по-своему. Для кого-то это радость материальная, позитивистская, радость накопления и потребления (очень понятная в 1950-е!); для кого-то это радость лирическая, бытийственная, радость материнства («дом – полная чаша»); для кого-то это радость без зависимостей, радость прорезавшегося голоса молодости. Движение пьесы можно понимать по-разному, и одна из трактовок такова: главный герой пьесы Олег от детского лепетания, смешных воззрений, нелепых речевых оборотов и поступков движется к осмысленной и дерзкой деятельности, к точности выражения, когда голос Олега-поэта и голос Олега-гражданина совпадают. Кульминационное событие в пьесе (рубка мебели) происходит в конце первого акта, однако Розову понадобился второй акт, где основной конфликт уже погашен. Здесь происходят еще два важных события – более глубоких, более осмысленных, чем хулиганский горячечный выпад с отцовской саблей. Во-первых, герой отказывается от лицемерных, предательских, чересчур «пионерских» отношений с двумя глупыми девчушками-одноклассницами (одна из них предает Олега, рассыпавшегося перед ней в лучших чувствах, другая пытается предать его лирические откровения публичному осуждению). Он становится по-настоящему взрослым – презрев инстинкт во имя чувства собственного достоинства. Новая мораль Розова предписывает не доверять тому, что сминает, уродует чувственный, интимный мир – единственно верный маркер правды отношений.
Второе событие – это «обращение» Лапшина-младшего под воздействием нравственной силы Олега. Геннадий, возвращая сворованные деньги отцу, становится в этот момент самостоятельной личностью. И здесь вырастает личность Олега: он оказался влиятельным и авторитетным, его сила – уже не в импульсивном подростковом поступке, но в его словах, в его искренности, которая может «исправлять судьбы нечестный вариант». Сила открытого слова и поступка, когда Олег взывает к идеалу, оказывается более влиятельной, чем сила репрессивной муштры «отцов». Пробужденная чувственность, открытость торжествуют. А вместе с ними торжествует и надежда на этих новых людей, которым пока еще не доверяют.
Анализ общества, предложенный Виктором Розовым, по сути, ведь очень радикальный, едва ли не цинично-биологический. Говоря о своих «мальчиках» и их прорезавшемся оттепельном голосе, драматург параллельно ведет разговор о поколении «стариков», которые оказываются не мудры, репрессивны и нетерпимы. Ярче всего этот конфликт стариков и детей формируется в пьесе «Неравный бой» (1960), где героям приходится, прилагая недюжинные нравственные усилия, буквально доказывать право молодости на собственный голос, собственное мировоззрение. Старики-монстры предательски выведывают любовные тайны молодых (для любви используется вульгарное слово «котовать», в то время как первые чувства тонки и нежны – «Я целовал твою тетрадку», говорит герой пьесы Слава); они влезают в их жизнь, калечат душу, озлобляют, диктуют и навязывают свой опыт; называют их «поколением с червоточиной», «паршивыми детьми» и «ворами». Война сделала победителей меркантильными и себялюбивыми; война заставила их приспосабливаться, научила стратегиям выживания. И эта инерция распространяется на мирное время: идея комфорта и личного благоустройства захватила сознание старшего поколения, которое, тем не менее, в глазах молодых все равно выглядит авторитетным. Теперь они хотят пожить на полную катушку и диктовать свой успешный опыт молодым в надежде на то, что им будут внимать. Однако молодые, вдохновленные примером отцов, видят, как мельчают их целеустремления в быте, и при этом не находят места для собственного героизма. Долг отдать нечем. Старшее поколение одновременно подает пример того, как надо и как не надо. Скажем, Роман Тимофеевич, главный критик молодежи в пьесе «Неравный бой», допускает грубую шутку: он говорит перепуганной женщине, что только что «война объявлена», словно не вынес никаких выводов из своего военного прошлого и может быть циничным даже на этот счет.
В фигуре Лапшина-старшего из пьесы «В поисках радости» эта идея «холостого хода» стариков-отцов достигает апогея: мы видим завравшегося циника, который прикрывает свое презрение к молодым и нрав рвача мифическим «опытом» и «умудренностью»: «Я в твои годы пахал, коней пас, косил… Больно умные вы растете! Ученые! Только ум у вас не в ту сторону лезет. Вопросы они там задают! Знаем, что это за вопросы! Рассуждать много стали – рот разевать!» Драма поколений выражается прежде всего в физической невозможности передать другому житейскую мудрость и личностное мировоззрение: они приобретаются только опытным путем, через персональный метод проб и ошибок. Поучения «стариков» надоели: они бессмысленны и сами по себе, и как контрапункт к их далекому от совершенства поведению. «Глупо тыкать в нос молодым людям свою выносливость, она была не добродетелью, а необходимостью»2. Виктор Розов, разумеется, прячет эту тему за игрой и пародией. Например, в пьесе «В день свадьбы» (1964) Майя Мухина транслирует ее глупо, по-детски: «Да разве они молодежь понимают!.. Они всё свои принципы в нос тычут!.. Всё понять не могут, что их век кончился, другой идет. …Старики повымрут, наши порядки будут, увидишь». Настоящий драматург умеет показать несколько сторон одной и той же проблемы.
Важная деталь пьесы «В поисках радости» – события происходят в большой, почти полноценной семье Савиных, расположившейся в многокомнатной квартире с богатыми традициями гостеприимства, совместных скромных обедов, взаимопомощи. Эта явно московская семья с легендарным прошлым, эти пышность и шумность проживания (четверо детей!) свидетельствуют о разрастании Москвы как столицы, как центра, если угодно, мира. Пространство, «выеденное» войной, постепенно заполняется звуками, суетой, кучностью. Розов фиксирует это: люди испытывают радость от полноценности бытия, от простора бытия, которого долгое время не хватало. И в то же время он фиксирует то уникальное состояние Москвы, когда от тесноты еще можно испытывать радость. Город вновь заполняется людьми – и «своими», и приезжими, которые тоже оказываются «своими» в этом семейном кругу. Вакантные места нужно быстро успеть заполнить. Москва еще резиновая, пышнеет, но уже начинает лопаться от перенаселения. «Совсем мы с Геннадием в Москве с толку сбились – водоворот! Столица мира!» – свидетельствует Лапшин-старший, наблюдательный и навязчивый провинциал. Тот же эффект радостного, бурного заполнения Москвы есть и в конце «Вечно живых» в реплике Федора Ивановича: «А Москва, как раньше, кипит, ругается! В трамвае-то как стиснули, а? Я чуть не задохнулся от радости». 1944 год, и в этом ощущении возрождающейся жизни есть уже предчувствие победы.
Но это самозаполнение Москвы (молодостью, новыми поколениями, приезжими) кто-то понимает чисто материально, прагматически – как захламление, замусоривание, забытовление. Жена одного из сыновей Савиных, Леночка, маниакально, сражаясь в магазинных очередях, закупает мебель для новой квартиры, но пока квартиру не дали, мебель расставляется в старом доме. Розов физически, сценически показывает, как пространство для просторной, вольной послевоенной жизни сужается, тает под гнетом «пузатых буфетов». Вещи выдавливают людей, а эти новые люди, только начавшие жить, так хотят простоты и свободы, бурного человеческого общения, а не забытовления своей жизни. Любопытно, что эта борьба с мещанством возникает у Розова уже в самом начале движения за материальное накопление. Смешно и сравнивать вещизм 1950-х с вещизмом 2010-х. Героев поколения Леночки и Федора, которые пережили войну, все-таки понять можно – и Розов-писатель своих героев не осуждает; они мещане лишь только перед лицом молодого Олега, тягот войны не ощутившего.
Тяга к героике пробуждается в «розовских мальчиках» в качестве «зова предков». Геройство возведено в культ, вменяется в обязанность, а места для применения героических способностей – нет. Характерен напряженный диалог мужа Леночки Федора и его матери; Клавдия Васильевна обвиняет сына в самом страшном грехе: «Ты становишься маленьким… мещанином». Федор парирует: «Но и ты… не героиня». Вот радикализм 1950-х: человек может быть либо героем, либо мещанином; третьего не дано. Более того: ты должен быть героем, чтобы не стать мещанином. Здесь, в этой точке официальная советская идеология, подкрепленная массовой культурой, соединяется с личностным волеизъявлением советской молодежи. Олег очень хочет стать героем, и сабля погибшего отца, висящая на ковре, – постоянно напоминает ему об этом долге, остается нравственным камертоном его жизни. Если ты не герой, жизнь бессмысленна. В самом начале пьесы Олег выражает свой героизм совершенно по-детски: «В четвертом классе мне одна нравилась, Женька Капустина… Хотел ее имя ножом на руке вырезать, да не получилось – больно», – но дальше он будет находить все больше поводов выразить его по-взрослому.
Весь первый акт мы наблюдаем, как растет обида Олега Савина: реальность никак не соответствует его идеалистически честному взгляду на мироустройство. Героическое миросозерцание не может не сочетаться с перфекционизмом, взыванием всех и вся к идеалу – живому и чувственному. Оскорбленная, кипучая молодость испытывает стыд за взрослых, оскорбляющих высокие чувства. Лапшин демонстрирует изрядное хамство и ханжество – Олег вскипает и ссорится с ним. Разговоры с Леночкой выявляют и ее вещизм, и ее хабалистую, алчную натуру. Леночкино отношение к предметному миру выражается по принципу «жалко – не жалко». Презрение к современной литературе («Нет седьмого тома Джека Лондона!.. Мы же просили не трогать! Подписное издание! Уж брали бы что-нибудь из современных – не жалко!») – тоже часть мании комфорта и уюта; подписные издания – это чуть ли не мебель и атрибут культа неприкосновенной классики. (Та же сцена повторяется и в поздней пьесе Розова «Гнездо глухаря».)
Финальным мотивом для священной войны с мебелью, конечно, становятся рыбки Олега, выброшенные Леночкой за окно и сожранные кошкой. В крике Олега «Они же живые! …Ты моих рыб!.. Ты!!! Из-за этого барахла!..» – все та же тема приоритета живой жизни перед любой мертвечиной, любой моралью, любой формой «вежливости» и «комфорта». Героизм Олега – в имитации подвига отца, погибшего в бою за правду и жизнь, в зове предков, который – через саблю – внезапно пробуждается в молодом герое. Истинная мотивация поступка Олега – стыд перед отцом за нескладную, мещанскую жизнь «успокоившегося», остывшего в уюте поколения, забывшего об идее жизни как борьбы – прежде всего с самим собой. Скажем, сегодня так становится стыдно первому поколению, прожившему вне советской идеологии, при чтении стихов поэтов, погибших в гражданской или отечественной войне: ярко живших и рано умерших, талантливо писавших в обстоятельствах партийной идеологии, которая теперь совершенно потеряла вкус и цвет.
Более глубокий и более «розовский» мотив поступка Олега дает нам сам драматург под финал: «Входит дядя Вася, в руках у него маленький детский стульчик». Предмет, явленный зрителю, красноречив и трогателен: после серии духовных побед Олега мир дома словно обнуляется, возвращается к истокам – вместо пузатых буфетов явился крошечный стульчик ребенка. Предмет, в котором концентрируется ценностный мир новенького, только что сделанного человека с его сказочным, немеркантильным сознанием. Олег отвоевал право на торжество справедливости и победу добра (силы, неукоснительно действующей в сказке) в реальном мире. Заставить мир вернуться в мифологическое пространство, пространство лирики, а не быта, – поступок, безусловно, поэта, будущего поэта, каким пытается показать нам Олега Розов. Мотив возврата в детское, идеалистическое состояние сознания как прикосновение к чистоте, к первоисточнику у Розова приобретает, пожалуй, религиозное, почти христианское значение.
Темой детства как религии, как святости, как неприкосновенного запаса идеализма для взрослого наполнена инсценировка Виктора Розова «Мальчики» (1971), сделанная по побочной линии из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Начинается все с исповеди Снегирева-старшего: ему нужно титаническим усилием вновь завоевать доверие маленького сына Коли, ставшего свидетелем унижения отца и вступившего за него в неравный бой. А завершается пьеса похоронами Коли, который совершил главный труд своей жизни – добился реабилитации Снегирева. Алеша Карамазов произносит речь у камня, смысл которой (без невозможной в розовское время христианской этики) в том, что детство, где только и возможны горячий идеализм, обостренное чувство правды и справедливости, где закладываются через сказочное сознание основы добра и зла, должно стать для всех свидетелей нравственным камертоном их будущей жизни. Детство, мечтания и убеждения детства, по Розову, – это совсем не то, что нужно забыть, став взрослым; напротив, это то, что нужно всегда помнить, к чему нужно возвращаться как к нравственному совершенству и мерилу правды и лжи. Таким образом, у Виктора Розова, писателя атеистического времени, детскость становится своеобразным замещением идеи Бога. Быть и оставаться ребенком во взрослом состоянии – значит быть близким замыслу, провидению. Детство – это безрелигиозная нравственность (ср., например, такое суждение критиков-современников: «мы видим в пьесах Розова изложенные простыми словами заповеди коммунистической морали»3). Важно отметить, что в инсценировках («Брат Алеша», «Обыкновенная история») Виктор Розов добивался, как ни странно, торжества своих собственных тем – устами героев Достоевского и Гончарова говорил сам драматург, владеющий искусством монтажа, выделения акцентов.
Тема «розовских мальчиков» любопытно преломляется в пьесе-путешествии «В дороге» (1962), имеющей рваную, кинематографическую композицию. Молодой парень Вова бежит из семьи от пошлости и бахвальства «стариков», от нормативности мира взрослых, от бесконечных поучений и лицемерия, двуличности. Вова пытается в одиночестве и честном героическом труде обрести свое счастье, понимание жизни. Он невоздержан в речи, хамит, где надо и где не надо; тут Розов уже на уровне языка фиксирует аномальность подростка: его речь коротка, резка, жестка, Вова не знает «мягкостей» и обиняков. Дерзкий, ершистый мальчишка медленно, но верно завоевывает уважение у окружающих его людей: в асоциальности Вовы – сила, задор, заряд идеализма, способность не мириться с неправильным миром. Он испытывает мир на прочность, но только подтверждает свои представления о несоответствии слов и дела у тех, кто его поучает. У взрослых нет внятных аргументов для Вовы, важен только его собственный опыт. Как и далекий современник «розовских мальчиков» Холден Колфилд из романа Сэлинджера, Вова решает соотноситься только со своим житейским путем, только на своих ошибках учиться. Мир видит в подростке исключительно объект для воспитания и манипулирования; диктует ему свой опыт, которым нельзя воспользоваться, и нормативы, в которые нельзя уложиться; требует вернуть долг, который вернуть невозможно. Бунтующий против дедовщины мальчик не может смириться с лицемерием и ложью взрослого мира, но всякий раз сталкивается с травмами войны, которая и сформировала суровое, патерналистское, властное поведение взрослых. Военное и послевоенное поколения в неравном бою отстаивают свое понимание свободы. Две вещи удерживают Вову, закрепляют его в отчаянном движении по стране и внутрь себя: любовь и труд. Завод, который меняет мировоззрение Вовы в соответствии с требованиями времени, предпочитавшего поэзии рабочую прозу. И внезапно возникшая любовь к девушке Симе, находящейся на грани жизни и смерти. Вова успокаивается в теории малых дел, которую молодому бунтарю проповедует мудрый отец Симы дядя Вася: «О мировой справедливости хорошо тогда мечтать, когда ты за эту мировую справедливость на своем, пусть маленьком, участке каждый день камни обтесываешь». В пьесе «В дороге» есть одна тонкая деталь, сближающая Вову с Олегом из «В поисках радости»: окончательно молодым и рассерженным, рвущим с обществом аутсайдером Вову делает случай – уходя из очередного дома, где его поучают, Вова роняет чемоданчик. И то, что посторонние неприятные люди увидели его исподнее, его интимные секреты, ранит молодую и благородную душу острее, резче любых слов. Распахивать душу в этом мире нельзя – сожрут с потрохами. Тот же мотив отвращения, омерзения, когда кто-то чужой касается интимного пространства, характерен и для Олега, чье любовное стихотворение обнародовали школьницы, и для Вероники, которая видит письмо Бориса в руках Нюрки. Это, по Розову, – признак «горячего сердца», оскорбленной, ранимой души.