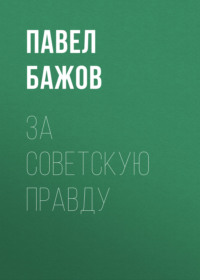Kitobni o'qish: «За Советскую Правду», sahifa 2
«Самое спокойное место»
На площади, в стороне от вокзала, учатся солдаты. По улицам их тоже немало. Часто проходят офицеры.
– Вам куда? – спрашивает извозчик.
– Да где подешевле. На постоялый какой-нибудь.
– К Киличеву свезу. У них купцы останавливаются, – решает извозчик и поворачивает на улицу к Оми. Низенький дом на пять окон, просторный двор. В кухне за чаем парятся пятеро крестьян. Две пустых бутылки показывают, что языки развязались основательно.
– Ты думаешь в том сила, чтоб до краю давить? Нет, брат, с пупа сорвешь.
При входе постороннего – настораживаются, переходят на пустой разговор:
– Ладно, не ершись! Выпьем вот остатнее, и запрягать пора.
– Развоевались у бутылки-то!
Старуха хозяйка в коричневом платке выглядывает от печки на кашель Кирибаева.
Увидев городского человека с дорожным мешком, она бросает предупреждающий взгляд в сторону сидящих за столом и поспешно открывает дверку направо от входа.
– В горенку проходите. Там спокойнее будет. Кирибаев спрашивает о цене. Старуха с приговорками, что теперь все дорого, назначает рубль за сутки.
– Два самовара ставлю. Которым и обед стряпаю. Тут уж сколько пожалуют. По рублю тоже больше платят.
После железнодорожной линии это кажется до смешного мало. В голове мелькает мысль: «Пожалуй, здесь на месяц хватит прожить».
Хозяйка уходит ставить самовар. Плотно закрывает двери.
В комнате тепло. В простенках столики, накрытые вязаными скатертями. Около печи узкий, обитый клеенкой диван. Божества навешано через число. Из угла иконы повылезли в стороны и перешли в картины, тоже с божественным отливом: «Житейское море» «Афон-гора» и т. п.
Кирибаев разделся, стащил с ног валенки, Даже острые приступы кашля не могут заглушить животной радости тепла и освобождения от тяжелой одежды.
В кухне толкутся. Видимо, собираются к отъезду. Слышатся отдельные выкрики, обрывки фраз.
Хозяйка приносит тарелку с хлебом, молоко, два блюда с помакухой.2
Хочется есть, но надо держать фасон – дожидаться самовара.
Ждать кажется долго. Проглотил один кусок, по-волчьи, не разжевывая. Только разманило.
Старуха притащила самовар.
– У вас, поди, свой чай будет? Сами-то мы кирпичный пьем. И того скоро не будет.
– Ничего, бабушка, какой есть. Я ведь налегке, провизии не вожу с собой.
– А вы откуда будете?
Затевается обычный разговор. Кирибаеву он нужен, чтобы определить положение.
Рассказывает, что ехал по кооперативным делам в Иркутск, да вот простудился и хочет отдохнуть и полечиться.
Старуха сочувственно кивает головой.
– У нас здесь подешевле. В Барабинске вон дорожизь, сказывают. Только вот беспокоят сильно. Каждый вечер обход. Чуть что, – сейчас забирают.
– Кого забирают?
– Да кто их знает. На той неделе вон у меня Сулова Иван Максимыча увели. Бумажку из волости потерял. Ну, и взяли. Мужик-то известный. За двадцать верст живет, мельницу содержит. Три дня просидел. Председатель приезжал из волости. Тогда уж выпустили. Мне за лошадьми ходить – дело несвышное, да и годы не те. А сноха-то у меня не туда смотрит. Все ей гули-погули. Даром, что муж тоже сидит…
Старуха переходит на шепот:
– Сына у меня, Александра, тоже взяли. Сидит теперь. Не пущают к ему. Он, говорят, контрразведка. Нельзя.
Шепот прерывается всхлипываниями.
– Второй уж месяц. А какой он контрразведка, коли чуть жив. Пришел из Германской, газами его отравили. Кашляет, что твое же дело. Постоянно. И харчок с кровью. Прямо сказать, – не жилец, а его в тюрьму…
– Строго, однако, у вас.
– Просто беда. Замаяли чисто. Вот вечером придут – сам увидишь.
Спохватилась, не сказала ли лишку.
– У вас бумаги-то есть?
– Это уж не беспокойся, бабушка. С линии приехал. Без бумаги там не проедешь.
Сильно хлопнула входная дверь. Старуха поспешно вышла.
Началась перебранка. Хриплый женский голос выкрикивал на слова старухи:
– Ежели он сидит, так мне всю жизнь плакать?
– Много их, большевиков-то, слез не хватит.
– Кого стыдиться? Не украла – своим торгую. Людям глянется.
Совсем, видно, оголтелая баба.
В полчаса
Против постоялого – большой каменный дом. Видимо, какого-нибудь купца. Над воротами вывеска, которую раньше не заметил: «Каинская уездная земская управа».
Из ворот выходят крестьяне. Небольшими группами, человек по пять-шесть. Одна группа задержалась в воротах. Раскуривают.
Кирибаев переходит дорогу.
– Что много народу плывет?
– Собрания тут была.
– Насчет чего?
– Да обо всем. О школах сейчас шумаркались.
– Денег, поди, нет?
– Это нашли бы. Учителя нет. Половина школ без дела.
– Ребята баклуши бьют, а им хоть бы что! – оживленно откликается один крестьянин.
– Выбирали, так что сулили! У нас школы первым делом. Нарошно двух учителей посадили в управу.
– Не выходит, значит, у них дело? – замечает одетый хуже других высокий мужик.
– Про кого это говоришь? – злобно набрасывается на него старик, не проронивший до этого ни одного слова.
– На ту, видно, сторону гнешь!
– Никуда не гну. Говорю, не выходит дело, и вся.
– Ребят-то у тебя раньше учили? Лучше, по-твоему, было при той власти?
– Да не к тому я. Чего присыкаешься. К слову пришлось.
Старик поворачивает вправо от ворот и бурчит:
– Как чирей на язык – слова-то у них! Посадить вот сукина сына.
– Садили которые! Поди, донеси! Похвалят на старости лет. Медаль дадут. Мне вон дали… за японску. Потом, обращаясь к другим, прибавляет:
– По бокам надпись: «Вознесет тебя господь в свое время». Ловко?
– Чистохвалы, известно, – неохотно соглашается один. Остальные молчат.
Кирибаев жадно прислушивается.
Делает выводы:
«Есть, значит, свои по деревням. Туда надо. Нельзя ли учителем заделаться?»
В коридоре управы поймал председателя. Бойкий, подвижной человек кооперативно-учительского вида. Небрежно слушает кирибаевский рассказ о причинах остановки.
Вертит в руках «документ» Кирибаева и быстро заключает:
– Пустяки. Видно, что интеллигентный человек. Идите в отдел. Там выберите место.
– Куда это?
– Через квартал. К собору. Там Кузьмина спросите. Записку вот передайте.
В отделе чувашин-секретарь Кузьмич Кузьмин обрадовался новому учителю.
– Вам куда желательно?
– Много разве мест?
– В сорока трех школах совсем нет учителей. Да и в остальные пополнения надо.
– Где бы посмотреть?
– Список у нас есть. Карту вон взгляните.
Кузьмин указывает на карту уезда, которая резко делится на две полосы: зеленую и светло-коричневую – лес и степь.
Красными кружками отмечены на карте школы. Только два-три кружка с двойной обводкой. Это школы повышенного типа.
Кирибаев тянется к крайнему пятнышку в северо-восточной стороне зеленой полосы.
Прочитывает вслух надпись: Бергуль.
Секретарь еще больше оживился.
– В Бергуль можно. Там уже давно ждут учителя. Школа там новая.
– И лес там? – спрашивает Кирибаев.
– Лесу там! о-о! Коренной урман. Ремы. Постройки на подбор.
– Далеко отсюда?
– Ну, верст сто с лишним.3
– Так вот на Бергуле и остановимся.
– Пишите заявление.
Услужливо предлагает бумагу, перо. Даже стул придвинул.
«Сошлись, значит», – ухмыляется про себя Кирибаев и пишет: «Представляя при сем удостоверение… э… прошу…»
Секретарь берет написанное, заносит в книгу, пишет что-то на особом листе и уходит.
– Вы подождите, я скоро, – бросает он при выходе. Кирибаев слоняется по комнате и от безделья рассматривает какие-то диаграммы.
Минут через пятнадцать Кузьмин возвращается и весело говорит:
– Ну, теперь вы – бергульский учитель. Получите удостоверение. Когда поедете?
– Да мне хоть сейчас, ждать нечего, – отвечает Кирибаев, свертывая бумажку, где значится, что такой-то «есть действительно учитель Бергульской школы Биазинской волости, Каинского уезда». Есть печать и три подписи. На этот раз не фальшивые.
– Прогонную сейчас достанем, – говорит Кузьмин и дает распоряжение делопроизводителю сходить куда-то.
Мальчуган-делопут быстро уходит и минут через пять приносит прошнурованную книжечку листов на тридцать «на право взимания двух обывательских лошадей».
Кузьмин деловито объясняет, где земская станция и где взять школьные пособия для Бергульской школы.
Десять фунтов культуры
На складе – в холодном пустом коридоре нижнего этажа – веселый высокий парень в полушубке выдает Кирибаеву школьное имущество.
Стопа бумаги, коробка перьев, двадцать четыре карандаша и столько же букварей «по Вахтерову». Тощая брошюрка в два десятка страниц, на скверной бумаге. Сюда же кладется приказ генерала Баранова о «новом правописании» и штук сорок переплетенных книжечек – «начатки закона божия».
– Этого у нас много, – говорит парень. – Прибавить можно. Бумагу одобряют.
К этому добавляет еще десятка два картин с голыми Адам-Евами, один задачник, две книжки Басова-Верхоянцева «Конек-скакунок» и начинает завертывать все в большой лист синей бумаги.
Кирибаев пробует протестовать:
– Да ведь тут одно божество. Куда я с ним?
– А вы его разбавьте «Коньком-скакунком», – отшучивается парень.
– Ручек хоть дайте. Книг для чтения.4
Заведующий складом, не переставая улыбаться, говорит:
– Книжки еще не составлены, а ручек вовсе не даем. Не к чему! Насадят ребята зорьку пера на прутик, вот и ручка. Распишитесь-ка лучше да уезжайте до вечера, – прибавляет он, придвигая ведомость.
Лицо парня на минуту становится серьезным. Кирибаев расписывается, берет маленький синий тючок и, взвешивая на руке, говорит:
– Немного же культуры повезу.
– Сколько имеем. Всем одинаково даем. Вот корабли прийдут, так возом привезем. А может, и ближе найдется. Ждите.
Кирибаеву хочется слышать в шутках парня скрытый смысл, и он спрашивает:
– А скоро?
– Не раньше как урман оденется, – отвечает парень и подает руку.
В коридор входят какие-то женщины, и Кирибаев отправляется разыскивать станцию.
Там в две минуты.
– Ладно, к трем подадим. Только не задерживайте. Нас, небось, штрафуют, а как пассажир тянет, – ему ничего.
«Это, видно, у них на военную ногу поставлено», – думает Кирибаев, возвращаясь на постоялый.
Старуха одна. Ходит с заплаканными глазами.
На вопрос: «Нет ли пообедать?» – уныло отвечает:
«Жареные окуни только».
– Давай, бабушка, поедим.
Хорош ведь жареный окунь, когда правильный документ в кармане и прогонная книжка есть. Даже постоянные приступы кашля не так беспокоят.
«Найдем своих. Везде они есть», – думает Кирибаев, вспоминая обрывки разговоров, рукопожатие веселого парня и загадочную фразу: «Как урман оденется».