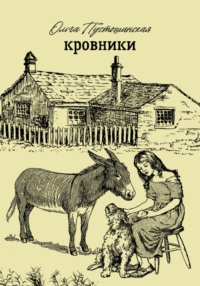Kitobni o'qish: «Кровники»
Пролог
1890 год
Запряжённая в сани Карька бежала резво и весело, радуясь морозцу, солнцу и снегу. Михаил видел её гладкий круп с пышным хвостом, дугу и тёмную голову с острыми ушами в дымке пара, а впереди – далеко растянувшийся обоз. Снег поскрипывал под полозьями, солнце слепило глаза, а вокруг простиралась белая равнина от края до края.
Ехали в Бузулук на зимнюю ярмарку, сено продать, солому, зерно и купить кое-чего для хозяйства. Путь не близкий – семьдесят вёрст. Михаил привалился к стожку, пахнущему разнотравьем, и спрятал нос в широкий воротник тулупа. Мороз, однако!
Ещё накануне жена Ульяна записала на клочке бумаги всё, что требовалось купить. Возведя глаза к потолку, она шевелила губами и шептала: «Ситцу четыре аршина… гусарики Параньке на весну… вдруг после не получится поехать… сахару…» Потом мусолила карандаш и царапала каракули на бумажном лоскутке.
– Параня, а тебе чего купить на ярмарке? – спросил Михаил и посмотрел на единственную дочь, сидящую у окна с каким-то рукоделием.
Дочка задумалась на минутку, отвела от лица светлую прядку волос:
– Конфетки, какие ты прошлый раз привозил.
– Это какие?
– Жёлтенькие, в бумажках. Ты сказывал, из магазина Коншиных, помнишь, тять?
– Будут тебе конфетки.
При мысли о Паране у Михаила сморщились в улыбке губы. Умница-разумница растёт!
Снежная пыль летела в лицо, застревала в усах.
– Но, Карька, давай милая! До темноты поспеть надо!
К вечеру обоз приехал в Бузулук. Михаил распряг лошадь и завёл её в конюшню постоялого двора, а сам пошёл с мужиками-соседями отогреваться сбитнем и палящим чаем.
Переночевали, а утром ни свет ни заря поднялись – и на ярмарочную площадь, заняли места в сенном ряду. Михаил поставил Карьку рядом с Ефимовым Воронком, тихо рассмеялся: «Коль мы с тобой соседушки, то и здесь рядышком постоим!»
Через какой-то час-другой на площади стало людно и весело. Где-то пела невидимая гармонь, звенели бубенцы на шапках скоморохов, гудели дудки.
«На Петровскую ярмарку Параньку с собой возьму, – подумал Михаил, – лестно девчонке будет. Всё про карусели спрашивает, интересно ей».
Зимой на ярмарке ставили высоченные горки, залитые водой, а летом – карусель с почти взаправдашними лошадками под шатром, над которым развевался узкий флажок.
Мороз не давал стоять на месте, Михаил притопывал валенками, хлопал руками в рукавицах. К обеду он продал всё сено, немного сбавив цену, и весьма довольный отправился побродить по торговым рядам и лавкам.
Ярмарка шумела. У прилавков и саней с товарами толпились люди: смотрели, щупали, приценивались и торговались. В глазах рябило от тюков пёстрого ситца, сукна, нарядных шалей и платков. Слышалась русская речь, отрывистая татарская, казахская, киргизская…
Михаил прошёл к месту, где торговали зерном и мукой, купил у татарина с юркими чёрными глазами пуд пшеничной муки – побаловаться белыми пирогами к Рождеству, отнёс в сани. В скобяной лавке выбрал несколько скоб на двери. В обувном магазине купца Соколова приценился к красным ботиночкам на каблучках – гусарикам, вытащил из кармана мерку из верёвочки и сказал приказчику:
– Тот такие мне, мил человек. Для дочки.
Приказчик в серой жилетке, из кармана которой полукругом свисала серебряная цепочка от часов, улыбнулся и выложил на прилавок несколько пар ботинок. Михаил пощупал кожу, постучал согнутым пальцем по подошве и выбрал самые лучшие гусарики, красного цвета.
– Высший сорт! – заверил приказчик и уложил обувь в коробку. – У Ксенофонта Евгеньевича второго сорта не бывает.
Михаил расплатился и вышел на морозную улицу, приблизился к длинному двухэтажному зданию, где на первом этаже находилась мучная лавка, магазины и аптека со змеёй и чашей на вывеске. Ишь, какая гадина!
Михаил открыл дверь кондитерской. Здесь толпился народ, глазея на витрины, и запах стоял такой, что хозяину Гильдебрандту следовало за вход по копейке с носа брать. Пахло миндалём и мёдом, пряным и сладким, сдобной выпечкой и шоколадом. В витринах были красиво разложены пирожные с кремом по три копейки за штуку, вафли решёточкой, торты, плюшки, слойки, миндальное печенье, французские булки… Торговля шла бойко: на ярмарке народ всегда при деньгах.
У Коншиных Михаил купил конфет, которые Параня заказывала, сахару и нанизанные на верёвочку баранки. Толпа вынесла его к магазину Киселёвых с высокими окнами, украшенными лепниной. Чего только там не было! Михаил очутился в зале с огромными столами с застекленным верхом – витринами – с образцами конфет всевозможных сортов, лежали разноцветные шоколадные плитки в слюде с картинками. Здесь же отвешивали пряники и орехи, чай, кофе, какао и пряности.
Во втором отделе всё сверкало и блестело: стояли на полках пузатые медные, никелированные и серебряные самовары, хрупкая чайная и столовая посуда из фарфора и фаянса. Из таких только господам чаи распивать!
В третьем отделе продавалось столовое серебро, солонки, лампадки; крестики золотые и серебряные, кольца, брошки, медальоны… Рядом стояли иконы в серебряных ризах и из фольги.
Михаил прошёл дальше и попал в хозяйственный отдел. За прилавком громоздились ведра, цинковые корыта, краска, обои в больших рулонах. А мебель-то какая! Деревянные столы, стулья венские с гнутыми спинками, кровати, комоды, буфеты резные со стеклом, запирающимися на маленький ключик. Были и музыкальные инструменты: балалайки, гитары, мандолины, гармони. Богатый магазин!
Михаил вышел на улицу, в гомонящую толпу. В весёлой кутерьме мелькали румяные лица, белые, смуглые со щёлочками чёрных глаз, бородатые.
Хороша ярмарка, а летом ещё лучше. На Петровскую пригоняли скот: табуны киргизских лошадей, уральских, сибирских; коров, овец, свиней и длинношеих медлительных верблюдов, которые смотрели на всех свысока, презрительно оттопырив губу.
Михаил услышал бой барабана и поспешил на этот звук. На небольшом пятачке, окружённом людьми, стоял поводырь с бурым медведем на цепи. Рядом приплясывал, выделывал коленца ряженый козой мальчик, а долговязый нескладный парень в кургузой курточке колотил в барабан.
– А ну-ка, Михайло Иваныч, покажи, как солдат с ружом ходит! – выкрикнул поводырь и подал медведю кривую палку.
Мишка взял «ружо», взвалил на плечо и стал ходить туда-сюда на задних лапах, как часовой.
Смех прокатился по людской толпе.
– А теперь, Михайло Иваныч, покажи, как жена любимого мужа приголубливает!
Медведь опустил тяжёлые лапы на плечи мужика-поводыря, потянулся мордой и стал облизывать ему нос, рот и щёки.
– Ай, молодец, жёнушка! Крепче, крепче целуй! – послышались весёлые возгласы.
– Да он губы мёдом намазал!
– Дак и ты намажь! – хохотнула крепенькая кругленькая бабёнка в нарядной шали. – Твоя Анфиска сладенькое любит!
В конце представления мишка прошёл на задних лапах по кругу с шапкой. Зазвенели копейки, пятаки и гривенники. Михаил закинул мешок на плечо и пошёл поглазеть, как девки с визгом и смехом с горки катаются…
Через три дня собрались домой, в Ефимовку. Ярмарка закончилась, сено и зерно распроданы, подарки жёнам и детишкам куплены – можно ехать. С утра погода начала портиться: ветер с сухим шелестом гнал по дороге позёмку, вздымал и кружил в воздухе снежинки.
Тронулись. Сосед Ефим впереди, Карька – в хвосте обоза. Проехали пятнадцать вёрст, и Михаилу показалось, что вьюжить стало сильнее.
«Доедем… – подумал он, – Карька – умная лошадь». Повозился, спрятал лицо в воротник тулупа, пахнущего овчиной, пригрелся и незаметно для себя задремал.
Когда Михаил открыл глаза, то не увидел ни дороги, ни идущего впереди обоза. Дул ледяной ветер, разыгралась настоящая метель, и лошадь едва переставляла ноги, увязала в снегу. Отстал!
– Но-о, Карюшка! Догоняй наших, милая! – закричал возница.
Ветер выл и свистел, трепал былинки сухого ковыля, торчащего из-под сугробов, пригибал к земле редкие кусты, швырял в лицо и за воротник снежную крупу, но Михаил не чувствовал холода. Соскочил с саней, взял лошадь под уздцы и повёл. Напрасно он смотрел под ноги: метель замела все следы: не видно отпечатков конских копыт, полос от саней. Да не сбились ли они с пути? Сколько бы Михаил ни напрягал зрение, видел впереди лишь туманную пелену снежинок.
– Ефи-и-им! Семё-о-он!
Ветер забил дыхание, закружил крик и унёс в высоту. Михаил вытер мокрое лицо рукавицей и пробормотал, тяжело дыша: «Врёшь… выберусь…» Он потерял счёт времени, и когда стало совсем темно, понял, что наступил поздний вечер.
Михаил очень устал и озяб, но об отдыхе и не помышлял, позволил себе лишь недолгую остановку, чтобы дать отдышаться Карьке, зачерпнул пригоршню снега и отправил в рот. Потом забрался в сани и тронул лошадь.
Дорогу замело, и Михаил пробирался наугад. Ветер бил порывами, гудел и свистел, но и через этот свист был слышен шорох несущегося снега. Вокруг не было видно ни одного приметного кустика или деревца, ни единой зацепочки. Михаил долго ехал, понукая Карьку, и вдруг ясно понял, что сбился с пути, и это не дорога, а голая степь. Укрыться бы где-нибудь в тихом месте и переждать клятую пургу, а утром посветлу выбираться. Хоть бы казахская юрта попалась…
Он выбрал место, где как будто мело не так сильно, и остановился.
– Ничего, Карька, выберемся… – прошептал возница, поглаживая тяжело дышавшую лошадь, – я не могу помереть вот так…
***
Вечером вернулся в село обоз, и только тогда заметили, что Михаила нет. Заплутать зимой в степи – это верная гибель, поэтому бы как ни устал Ефим, развернул Воронка и поехал обратно, а с ним ещё несколько мужиков.
Ульяна всю ночь не сомкнула глаз, стояла у окна и смотрела на беснующуюся метель.
– Ох, Господи… спаси и сохрани!
– Мам… – вдруг раздался с печи шёпот Прасковьи.
– Не спишь, Пашенька?
– Не сплю… Я молюсь, чтобы боженька тятю к дому вывел. Ты, мам, лампадку зажги, она тятеньке путь укажет.
Ульяна послушала дочку и затеплила лампадку возле иконы Христа Спасителя.
И утром не вернулся Михаил. Метель не утихла, а стала ещё сильнее, намела во дворе сугробы до окон. Всё валилось у Ульяны из рук, ничего не ладилось. Выгребала золу – рассыпала, чашку ненароком со стола смахнула; принялась ржаные пирожки стряпать и замерла у печи с пустой сковородкой, постаревшая, с тёмным лицом, не похожая на себя.
Вдруг забрехал цепной пёс Волчок. Подпрыгнуло сердце у Ульяны, бросилась она к окну. К её огорчению и слезам, на крыльце стоял не Михаила, а сосед Семён в запорошённой снегом душегрейке.
– Не вернулся Мишка? – спросил он, хотя уже понял по суровому лицу Ульяны, что хороших известий нет.
Она покачала головой. Семён топтался у порога, снег растаял на его валенках.
– А то я подумал: вдруг проскочил, а мы не заметили. Ты не сумлевайся, найдём Мишку. Чай, не иголка… Вечером приедет, вот увидишь.
Но и вечером не вернулся Михаил.
В трубе завывал ветер, нагонял тоску. Ульяна не отходила от окна, изнемогая от страха за мужа. Она глянула на печь, где притихла Параня, набросила на голову длинную шаль и вышла за ворота. Постояла, вглядываясь в туманную темноту: не покажется ли Карька?
«Эвон как метёт, а в степи-то что творится! – подумала Ульяна, и сердце защемило. – Разве к Арине сходить?.. Сказывают, карты раскидывает хорошо». Она сомневалась недолго, запахнула шаль и, отворачиваясь от ветра, заторопилась к дому гадалки.
Тётка Арина всё поняла, едва взглянула на припозднившуюся гостью, вздохнула:
– Значит, не вернулся Михаил… Заходи. Я уж спать собиралась, да смотрю: Мурка у порога гостей намывает – знать, придёт кто-то.
Ульяна привалилась к стене и залилась слезами:
– Погадай, Аринушка. Что с ним, живой ли? Вернётся ли?
Арина поправила на груди пышную кофту, в вырезе которой сверкнула нитка жёлтых бус, достала из ящика колоду карт. Старые засаленные карты шлёпались на столешницу, и Ульяна почувствовала, как стынут от страха руки и ноги. Гадалка долго молча смотрела на седовласого короля в золотой короне, на даму с жёлтым цветком в тонкой руке.
– Живой твой муж.
– Слава Богу!
– Живой, но сил у него нет, – продолжила Арина. – Домой вернётся, увидишь его… только, милая моя, умрёт Михаил скоро, смерть его рядом ходит. По судьбе так выпало, а судьбу не обманешь.
Ульяна остановившимся взглядом смотрела, как гадалка смешала карты, перетасовала и убрала в ящик стола.
– Ты неправду сказала… – трудно проговорила Ульяна, – обманываешь.
Она поднялась и, пошатываясь, побрела к двери.
***
Метель наконец стихла. Карьке давно хотелось есть, она почувствовала запах сена в санях и тоненько заржала. Хозяин не отозвался и не подошёл, он по-прежнему лежал в санях молча и не шевелясь.
Карька вытянула шею. Откуда-то издалека, за много вёрст ветер донёс до чутких ноздрей запах конюшни. Карька насторожилась, уши встали торчком. Она нерешительно потопталась, а затем пошла через сугробы на этот едва уловимый запах, увлекая за собой сани. С каждой верстой он становился всё отчётливее, и вот Карька выбралась на дорогу, увидела следы копыт, кучки конского навоза и две полосы – недавно здесь проехали сани. Кобыла побежала резвее, туда, где её дом и конюшня, а в конюшне еда, питьё и долгожданный отдых.
Недалеко от берега реки показалась Ефимовка – большое село, почти пятьсот дворов. Карька пробежала мимо деревянной церкви с колокольней, мимо Поповки, повернула на знакомую улицу и остановилась у ворот своего дома.
В окне мелькнула тень, потом хлопнула дверь, и на крыльцо выскочила простоволосая хозяйка, а следом Параня в валенках на босу ногу.
– Миша! Мишенька!
Ульяна бросилась к саням, затормошила лежащего на соломенной подстилке мужа, заголосила. В лице у Михаила не было ни кровинки.
– Живой тятька, живой! – закричала Параня. – Он глазами моргнул!
Они вытащили из саней замёрзшего Михаила и занесли в жарко натопленную кухню, положили на широкую скамью.
– Сейчас, миленький, сейчас… – плакала и шептала Ульяна, – сейчас мы тебя согреем…
Она расстегнула на муже тулуп, стащила валенки и с причитаниями принялась растирать белые руки и ноги.
У Михаила задрожали ресницы, он открыл глаза и слабо застонал.
– Мишенька! Очнулся, слава тебе… Что?.. Чего ты хочешь?
Михаил вдруг тяжело, с хрипами задышал, как будто ему перестало хватать воздуха, на лбу появились капли пота. Он силился что-то сказать и не мог, только тянул руки к дочери. Та схватила и стиснула дрожащие отцовские пальцы.
– Тятенька, не умирай! Тятька!
Через несколько минут Михаил умер от сердечного приступа.
Похоронили его на сельском кладбище, поставили скромный деревянный крест на могиле. Жалели: хороший мужик был Мишка Исаев!
После смерти отца Прасковья поняла, что в ней появилась сила, которой раньше не было. Может быть потому, что за руку тятьку держала, когда тот умирал. Она не мучилась догадками: пришло – значит так должно быть. Всё принимать надо, что Богом дадено. Лечить стала молитвами, отливать растопленным воском, разбираться во всех знаках, как будто кто-то годами её этому учил.
Отсрочка
Народу в трамвай набилось до отказа, как всегда в вечернее время. Некоторые счастливчики сидели на деревянных скамейках и ехали с комфортом, хотя и относительным: пол ходил ходуном, пассажиры цеплялись за ручки на ремнях, наступали сидящим на ноги и норовили свалиться им на колени.
Трамвай в Ромске появился всего-то несколько лет назад, в сорок восьмом, а ведь линию начали строить ещё до войны – помешала проклятая. Привезли из Куйбышева несколько коричневых деревянных вагонов, отремонтировали, и затренькали трамвайные звонки на городских улицах.
Внутрь вагона Кольке пробраться на этот раз не удалось. Он висел на высокой ступеньке, держась за поручень, благо двери не мешали. У трамвая они были чисто символическими: узкими, фанерными, закрывающимися вручную. Впрочем, когда они закрывались-то? Ну разве зимой в морозы, в полупустом вагоне. При движении распахивались хлипкие створки, кружилась снежная пыль на задней площадке. Часто нерадивые пассажиры выходили не на остановке, а где им надо, некоторые и запрыгивали на ходу. Не двери, а одна видимость.
А вот подножки у трамваев были большими. Детвора и многие взрослые катались на ступеньках, не обращая внимания на ругань кондукторш. Девушки нарочно ездили на подножках – форсили. Ветер бил в лицо, трепал волосы, красиво развевал подол платья. Шик!
– Проспект Сталина! – крикнула кондукторша.
Колька дождался остановки и спрыгнул с подножки. Пересёк дорогу и зашёл в Файкин магазин за конфетами для самой младшей сестрёнки Наташки. Файкин – потому что там работала знакомая продавщица Фая.
– Здрасте, тётя Фая! По сто граммов подушечек и барбарисок.
Продавщица принялась не спеша взвешивать конфеты. Она и всегда-то работала неторопливо, а если в магазин заглядывал Коля, движения Фаи становились ещё медленнее.
– Братишкам и сестрёнкам гостинцы, да? – спросила она, задерживая взгляд на улыбчивом Колькином лице. И по глазам было видно, что сбросить бы Фае лет двадцать, ух, закрутила бы!
– Не напасёшься на такую ораву! – рассмеялся Коля. – Это Наташке. Половину спрячу, а половину отдам. Хитрюга маленькая, сама в пиджак лезет, знает, что там конфетки.
Колька заплатил, убрал кулёчки в карман и вышел на улицу. Его большой пятиэтажный дом находился всего в шаге от остановки. Коля повернул за угол, покосился на детскую площадку с песочницей, качелями и турником – не гуляет ли бабушкой с Наташкой? – и прошёл к своему подъезду.
– Здравствуй, Коля.
Ну вот, опять Полина. Странно это: живёт в соседнем доме, а на скамейке сидит почему-то у чужого подъезда. Слишком часто последнее время стал видеть её Николай. Он поздоровался и заметил, как порозовело бледное Полино лицо, даже веснушки пропали.
Колька поднялся на второй этаж, вошёл в общий коридор коммуналки. В их квартире две комнаты. Одну из них, бабушкину, и комнатой-то назвать можно с натяжкой: она маленькая и без окна. Помещается там кровать, пара стульев и тумбочка с электроплиткой. К бабушке часто приходят незнакомые женщины, она запирается с ними, и из-за закрытой двери долетает слабый запах расплавленного воска и лёгкий шепоток.
Коля разулся, чтобы не топтать чистый пол, заглянул в комнату.
– Николаша… – поднялась навстречу бабушка, и её доброе лицо под белым платком засветилось улыбкой. – Ужинать будешь?
– Нет, после… Наши где, на стройке?
– А то где же.
Стройкой называли участок земли, выделенный от завода. Отец – мастер на все руки, дом сам строит, дети помогают. Четыре просторных комнаты, кухня, веранда, баня… Семья большая: отец с матерью, бабушка да детей пятеро. А могло быть восемь – трое Колиных братьев умерли во младенчестве.
Подбежала Наташка, трёхлетняя сестрёнка, последыш.
– А что я принёс Татке? – заулыбался Колька. – Ну-ка, ну-ка поищи!
Наташка взвизгнула и полезла в Колькин карман.
– Балуешь ты её, Николаша, куда ей сэстолько, – покачала головой бабушка, а внучке строго сказала: – Одну возьми, после супа съешь. Остальные в буфет уберу, по конфетке выдавать буду.
Николай ушёл за занавеску, которая перегораживала комнату на две неравные части, переоделся и повесил в шкаф коричневый костюм в полоску. Снял со стены чёрные боксёрские перчатки со шнуровкой. Натянул их, полюбовался кожаными кулаками и несколько раз ударил в стену.
– Бабуль, я на тренировку!
– Иди, Николаша, иди, – ласково отозвалась та, – может, знаменитым будешь, по радио о тебе скажут. Мол, Трифонов Николай выиграл вазу.
– Кубок, бабуль.
– Кубок? Ну пускай будет кубок…
Колька повесил перчатки через плечо и вышел в подъезд. Он любил носить их именно так, чуточку рисуясь: пусть все видят. Бокс – это серьёзно.
Полина всё ещё сидела на скамейке, положив рядом аккуратно свёрнутый плащ.
«Ждёт кого-то, что ли?» – рассеянно подумал Колька и молча прошёл мимо. Поля была, как говорили женщины в их коммуналке, девкой-вековухой, незамужней и бездетной, что и неудивительно по их мнению: бог не дал Полине красоты. Соседка Муся возражала, что дело вовсе не в красоте, она видела тёток ничуть не симпатичнее, но с мужьями и детьми. Не за кого замуж выходить-то, ровесники с войны не вернулись.
Был бы Колька повнимательнее, он бы заметил, что Поля наряжена в лучшую одежду, какую в будни не носят: белую блузку с круглым воротничком и чёрный сарафан, на ногах чулки и туфли на каблучках. Лицо густо напудрено, чтобы скрыть веснушки, губы накрашены.
– Коля!
– Что?
– Ты в «Серп и молот» идёшь?
– Ну да. На тренировку. – Он дёрнул плечом.
Поля хотела что-то сказать, но голос осип и не слушался. Колька, высокий и ладный, отвернулся и в ту же секунду забыл о ней, пошёл по дороге быстрым шагом.
Поля вздохнула: Николай очень ей нравился, да только на фонарный столб у дороги он обращал больше внимания, чем на неё. На столб, пожалуй, чаще смотрел. Коля, несомненно, красавец: двадцать два года, высок, в плечах широк, в серо-голубых глазах смешинки пляшут. Каждую ночь эти глаза Полине снились. Во снах он смотрел только на неё, а не на молоденьких девчонок, которые вились вокруг пчёлками. Вот опять какая-то вертихвостка подскочила. Улыбается, чуть ли не на шею вешается.
Едва не заплакала Поля от досады. Ну почему она такая нерешительная? Ведь сегодня весь день на работе обдумывала разговор под стрекотание швейных машинок. Прибежала домой, нарядилась, накрасилась и заняла пост на лавке. Хотела напроситься в «Серп и молот», посмотреть, как Колька боксирует. И не смогла!
Полина не красавица, она сама знала об этом: тощая фигура, большой нос картошкой, который не спрячешь под слоем пудры, маленькие глаза. Подружки замужем, по второму-третьему ребёнку нянчат, а она и не дружила ни с кем всерьёз. Мать успокаивала, что счастье и на печи найдёт, но что-то не больно торопится оно, это счастье! Сидеть на печке и ждать принца – гиблое дело, до старости не дождёшься.
Поля поднялась и побрела к своему подъезду, едва переставляя ноги. Матери дома не было, к счастью. Полина упала ничком на аккуратно заправленную кровать и разрыдалась, выла по-бабьи, с причитаниями, не заботясь, что могли услышать соседи. Потом затихла мало-помалу, успокоилась.
На выходных Поля неожиданно собралась в деревню, где родилась и выросла. Сказала матери, что хочет навестить старую тётку, увидеться с соседями.
– Что так вдруг? – удивилась мать. – Обожди недельку, на праздник поедешь.
– Нет, на Первомай не могу, на демонстрацию хочу пойти. На попутке доеду, не волнуйся, я не маленькая.
Полина сбегала в сберкассу и Файкин магазин за гостинцами: пряниками, конфетами, колбаской. Сложила свёртки в сумку и уехала на автовокзал.
***
В автобусе Полю тошнило от тряски и запаха бензина, она морщилась, комкала влажными руками платочек. За окном мелькали поля с редкими голыми деревьями и чудом уцелевшими грязными островками снега.
Поля почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и незаметно скосила глаза: впереди справа сидел незнакомый парень в потёртом пиджачке и кепке с пуговкой. Она успела разглядеть тёмный чуб и весёлые карие глаза.
«А он ничего… Плюнуть бы на задаваку Кольку и познакомиться с этим парнем, ведь не просто так он смотрит!» – подумала Полина, но тут же строптиво тряхнула головой. Нет, она любит Николая и не собирается отказываться от него. Девушка уставилась в окно, как будто там был не унылый пейзаж, а невесть что интересное, и незнакомец отвёл глаза.
Автобус остановился возле зелёного навеса с наклеенными внутри листочками объявлений. «Продам дом», «Продам корову», «Куплю сепаратор»… Ну вот и приехала.
Полина перешла шоссе и спустилась к бараку-общежитию, белеющему свежей извёсткой. Там во время уборочной жили девушки, которых присылали работать на элеватор. В бараке было весело: там толклись местные парни, слышался смех и треньканье гитары. Матери это не нравилось, она хмурилась и стучала пальцем по столу: «Полька, смотри у меня! К бараку ни ногой!»
По берегу речушки бродили чьи-то гуси с метками синей краски на белоснежных крыльях (чтобы хозяйки не путали), птицы повернули длинные шеи в Полину сторону, загоготали. Она с опаской прошла мимо и быстро зашагала к дому тётки Зинаиды, от души надеясь не встретить по пути никого из знакомых.
Тётка возилась в огородике: укрывала грядки старыми оконными рамами, чтобы быстрее взошла редиска. Увидела гостью, всплеснула перепачканными в земле руками.
– Полинка! – И тут же заволновалась: – В гости приехала, иль случилось чего?
– Нет, тётечка, ничего не случилось, просто проведать приехала.
– Как мамка?
– Мамка? Хорошо. Прихварывает только, а так всё хорошо.
– Ну идём в дом, идём… Ты никак замуж собралась? – спросила Зинаида, топая галошами. – Небось на свадьбу приглашать приехала.
Поля ненатурально рассмеялась:
– Нет пока, но скоро приглашу.
– Приеду, если пригласишь. Я люблю на свадьбах гулять!
В доме было тепло от топившейся печки (тётка объяснила, что сыро, приходится подтапливать), пахло парным молоком и кислым тестом. Поля выложила на стол гостинцы и, слушая тёткино воркование, подумала, что к бабке Воронихе лучше заглянуть вечерком, когда стемнеет. Совсем ни к чему Зинаиде знать, к кому пошла племянница.
Тётку разморило после двух стопок самогона и обильной еды. Она почувствовала усталость, начала зевать и улеглась спать, едва старые часы успели пробить девять раз.
Полинка послушала басовитый храп, тихонько рассмеялась и выскользнула из дома, прихватив сумку.
Воронихе полагалось жить в одиночестве на краю леса, в какой-нибудь избушке на курьих ножках: бабка была из колдуний. Но жила она в самом обыкновенном доме, и не одна, а со старым, тугим на ухо мужем.
В окнах горел – хозяева не спали. Полина нерешительно потопталась на крыльце и потянула ручку разбухшей двери. Та со скрипом поддалась.
– Баба Настя, вы дома? – спросила Поля.
– Дома, дома…
Старуха Ворониха сидела за столом и скоблила ножом закопчённую сковородку. Бабка мельком взглянула на девушку и, не прекращая занятия, кивком указала на высокий табурет. Поля присела на краешек, и вся её решительность куда-то пропала. Бежать, бежать, пока не поздно! Но от страха ноги стали чужими и слабенькими.
– Вы помните меня? Я здесь жила… давно, – сглотнув тягучую слюну, сказала Полина.
– Может, и жила, – равнодушно согласилась Ворониха, – а сейчас чего вернулась?
– По делу. Я слышала, что вы можете сделать так, чтобы… мне один парень нравится, а он…
– Не любит тебя, – кивнула бабка, и провалившийся её рот сложился в недобрую улыбку. – А от меня что тебе надобно?
– Я знаю, вы можете сделать, чтобы и он полюбил, – упавшим голосом сказала Поля.
– Я много чего могу. – Ворониха наконец убрала сковородку и уставилась на гостью немигающим тяжёлым взглядом из-под набрякших век. – Ох, много… Если ты сюда заявилась, то всё решила. Вещь его нужна, а за труды – триста рублей.
Сумма ошеломила Полину. Её зарплата – получка, как говорили на фабрике, всего тысяча. Триста рублей – очень дорого, но что поделать, отступать поздно. Знала ведь, что Ворониха много берет, потому и бегала в сберкассу.
Непослушными руками Полина расстегнула замочек сумки, достала Колину старую рубашку, которую, обмирая от страха, украла накануне с бельевой верёвки; покопалась в кошельке и положила на стол деньги.
Ворониха смахнула купюры в подол фартука, как смахивают мусор.
– Сделайте так, чтобы Коля только со мной был, – подняла глаза Полина.
– Сделаю, сделаю. Только твой будет. А ежели не твой, то ничей. Снять приворот абы кто не сможет, таку бабку ещё поискать надобно. Не одну пару подмёток истрепать, покуда найдёшь. – И старуха засмеялась. – Давай рубаху-то… Можешь смотреть, а страшно – так глазыньки закрой или отвернись.
Поля испугалась ещё больше и зажмурилась.
***
Наступило утро Первого мая.
Полина проснулась рано, нажала кнопку будильника, чтобы не тревожить мать: она всю ночь плохо спала, ворочалась и кряхтела.
Солнечные лучи пробирались через щель в занавесках, золотили пол и стены их единственной, скромно обставленной чистенькой комнаты. Поля набросила байковый халатик, влезла в тапки и вышла в общий коридор.
Соседи уже не спали: за дверями ходили, разговаривали, двигали стульями и звенели посудой. Поля подумала: «Тоже собираются на демонстрацию». Она любила Первомай, любила с портретом Сталина и с криком «ура» пройти в колонне мимо трибуны. Потом во дворе обычно устраивали застолье вскладчину, пели и танцевали под гармонь или патефон.
Полина согрела чайник на примусе, выпила чашку сладкого чая и съела кусок хлеба с маслом. Посмотрела на часы: пора собираться.
Мать успела проснуться, сидела на кровати и причёсывала волосы полукруглым перламутровым гребешком.
– Ты куда в такую рань соскочила? – спросила она.
– На демонстрацию… забыла, что ли?
– Заспала, подумала, что апрель нынче.
Поля выбрала голубое платье, почти единственное, в котором себе нравилась, напудрилась, подвела чёрным школьным карандашом брови и тронула помадой губы. Взяла с вешалки плащ на случай холодного ветра.
Такое синее небо и такой сладкий воздух, как чай с мятой и сахаром, бывает только весной. Полина вдохнула полной грудью, задрала голову и посмотрела на берёзу, где посвистывал скворец возле скворечника: ти-ти-ти-фьюить-фьюить! Улыбнулась: ишь, как заливается!
– Поля, подожди! – окликнула Муся, подружка из соседнего дома. – Пойдём вместе!
Всё движение от Проспекта Сталина было перекрыто. Народ оживлённой толпой шёл к «Серпу и Молоту» – Дому культуры, возле которого были установлены трибуны. Полина всё оглядывалась, высматривала Кольку, но так и не заметила его. И спросила у Муси, собирались ли на демонстрацию её соседи Трифоновы.
– Конечно, а как же! Ещё вперёд меня ушли с дядей Никитой.
– И Коля?
– И Коля. А что?
– Ничего, – с показным равнодушием пожала плечами Поля.
Муся вдруг стала необычайно проницательной.
– А-а-а, поняла, почему ты спрашиваешь. Коля тебе нравится, он всем нравится. Но лучше о нём не думай, ничего хорошего не выйдет, только настрадаешься, – вдруг ляпнула она.
– Почему это? – покраснела Поля. – Считаешь, что я ему не пара, что я уродина?
– Нет, ты очень милая, – заторопилась Муся, – но мать и бабка не разрешат ему жениться на тебе.
– Он взрослый, сам будет решать.
Муся замолчала, что-то обдумывая, потом сказала:
– У него ведь бабушка знахарка… ты знаешь? Вдруг что-то случится? Наколдует ещё…
– На каждую силу найдётся другая сила, – усмехнулась Поля, сузив глаза.
– Это ты о чём?
– Ни о чём, просто так сказала. Пойдём в колонну, вон наши строятся!
***
Во дворе накрывали вскладчину столы. Они стояли на детской площадке вплотную друг к другу, как на свадьбе, сверкали на скатерти бутылки с водкой и вином, кувшины с брагой и компотом из сушёных яблок. Принаряженные по случаю праздника соседки расставляли миски с холодцом, варёной картошкой и варениками, тарелки с селёдкой, посыпанной укропом и колечками лука; ливерную колбасу, бочковые огурцы, помидоры и капусту, засоленную половинками кочанов. Нарезали пироги с разными начинками, среди которых обязательно был пирог с вареньем – для детей.