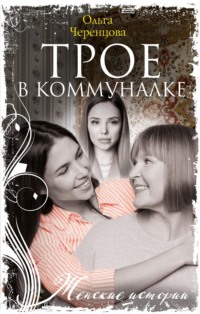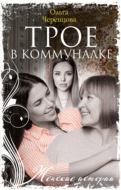Kitobni o'qish: «Трое в коммуналке»
© Черенцова О. Л., 2023
© «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2023
* * *
У окна сидела девушка с обритой по бокам головой и черным хохолком на макушке. Худощавая, с заостренным носом, с длинной шеей и пучком волос, она походила на цаплю. Есть у меня привычка сравнивать людей с животными и птицами. Попивая что-то оранжевое из бокала – то ли сок, то ли коктейль, девушка-цапля посматривала в мою сторону. Наблюдает за мной?
Моя подруга Нора посмеивается, что я фантазерка и сама за всеми наблюдаю. Доля правды в ее словах есть. Я ловец: везде выискиваю персонажей для своих картин и рисунков. Мысленно фотографирую «натурщиков» на улице, в супермаркетах, в метро – везде, если вижу необычную внешность. Телефон для этого мне не нужен, зрительная память у меня хорошая, да и вряд ли кому-то понравится, что его снимает незнакомый человек.
Нестандартные внешности мне особенно интересны. Привлекательные или нет, не имеет значения. Важно, чтобы они выделялись, как эта девушка с хохолком. Я вытащила из сумки блокнот и фломастер – набросаю украдкой эскиз к ее портрету, подчеркну ее схожесть с цаплей. Это скрасит очередное бесполезное ожидание – сижу в кафе целый час и уговариваю себя, что не стоит волноваться: Стас просто запаздывает, задерживается на работе, застрял в пробке или что-то еще. Найду тысячу причин, чтобы его оправдать, хотя прекрасно знаю, в чем дело. Опять я попалась.
Перерисовать бы фломастером последние два года! Не придется больше всем врать, переживать, зря на что-то надеяться. К тому же врать нет смысла – моя мать вроде ястреба: все засекает и явно догадывается, что со мной происходит. Сказать бы ей правду: «Влипла я и ничего не могу с собой поделать», но признаться не хватает смелости. Мать меня не поймет, не утешит. Для нее это будет лишний повод меня раскритиковать и припомнить мне все мои грехи. Признание только углубит трещину в наших отношениях. Если уж исповедоваться, так лучше перед бабушкой. Она старой закалки, в прошлом учительница и, несмотря на дикую категоричность и упрямство, сопереживать умеет.
Прокручивая в сотый раз в голове, признаться или нет, я безотрывно смотрела на телефон, пытаясь оживить его своим взглядом. Он, само собой, молчал. Всегда молчит, когда умоляешь его зазвенеть. «Стас попал в пробку», – убедила я себя. Самообман – это типа болеутоляющего средства. Принял «таблетку» и видишь все в радужных красках. Перестает «таблетка» действовать, и возвращается боль. Самой удивительно: сознаю это, но продолжаю лечить себя иллюзиями. А ведь созрела, чтобы все обрубить и свободной шагнуть в новую жизнь. Однажды я так и сделала, но недолго продержалась – поверила лживым обещаниям Стаса.
В эту минуту я поймала нацеленный на меня взгляд девушки-цапли. Выходит, мы обе наблюдаем друг за другом. Не такая уж я фантазерка, как считает Нора. С какой стати эта девица-подросток (больше девятнадцати ей не дашь) откровенно меня разглядывает? Не буду делать эскиз, она еще заметит, а, вернувшись домой, сяду за мольберт, пока свежи в памяти все детали. Новый холст назову «Люди-птицы» и помещу девушку на заросшее озеро или на болотистое место, где обитают цапли. Тростник там живой – пробираешься сквозь его гущу, стебли тянутся к тебе, цепляются за руки, обкручивают их, могут не отпустить. Так и останется она навечно в зарослях на моей картине.
– Еще кофе? – подошел официант. Субтильный, с вытянутым лицом и прозрачными, почти как без зрачков глазами. Вылитый персонаж работ Модильяни.
– Да, пожалуйста, – кивнула я, передумав уходить. Посижу еще немного в воздушном замке, надеясь, что Стас все-таки придет, затем поеду домой, где ждет меня начатый рисунок. Завершу его сегодня. Даже в самом мерзком настроении я не перестаю трудиться. Мои работы меня поддерживают. У нас взаимный обмен: я вдыхаю в них жизнь, а они – в меня. Когда накатывает мрачное настроение, смотрю на них, и легче становится. «Может, ты с ними еще и советуешься? Ну ты и сочинительница!» – смеется надо мной Нора.
– Ваш кофе, – вернулся белоглазый официант. За те несколько минут, что он отсутствовал, его зрачки совсем растворились. Он наклонился, ставя передо мной чашку, и зрачки вернулись назад.
Частично Нора права – у меня зрение художника-сюрреалиста. Такой я родилась и такой бы осталась, если бы выбрала другую профессию. Я целиком со всеми своими клеточками, косточками, сосудиками состою из слова «художник-сюрреалист». А Нора – стопроцентный реалист и считает, что фантазия – опасная штука: начинаешь верить в собственные сказки. А что касается искусства, говорит она, талантливое произведение можно создать без всякого вымысла, сама жизнь предлагает заманчивые сюжеты, и приводит в пример классиков: они не изощрялись, правдиво и блестяще отображали действительность. «Сюрреализм отжил свое», – заявляет она. «Не отжил, а принял другую форму», – возражаю я. Мы обе художницы, но наши вкусы, мнения и предпочтения противоположны. Удивительно, что мы сумели подружиться. Консерватизм сближает Нору с моей бабушкой, несмотря на разницу в возрасте в сорок пять лет.
В одном подруга ошибается – реальность от выдумки я отличаю, с ума не сошла. Но кое в чем я с ней согласна: воображение – хитрая вещь. Поосторожнее надо с ним, оно может исказить воспоминания и даже заставить поверить в выдуманное. Все начнет переплетаться, и сам запутаешься, что было на самом деле, а что нет.
Посидев еще полчаса, я обозвала себя в очередной раз дурой и, расплатившись, двинулась к выходу. Проходя мимо девицы-цапли, я украдкой глянула на нее напоследок, чтобы закрепить в памяти ее внешность. Она обернулась и посмотрела на меня с вызовом. В ее взгляде читалась неприязнь, словно мы знакомы и враждуем. Не сталкивались мы с ней где-то раньше? Девица меня насторожила. «Брось накручивать!» – одернула я себя. Опять я мысленно не выпускаю из руки фломастер и рисую. Однако девица эта крепко засела у меня в голове. Моя привычка автоматически фиксировать лица и детали бывает обременительной, хотя в работе она незаменима. Из деталей вырастает целое построение. Выдернешь из него всего одну точку – и весь замысел развалится. Любой, даже незаметный, штрих – это гвоздик в построении. Случайности – те же гвоздики, поэтому в случайности я не очень верю. За злобным взглядом девушки-цапли что-то скрывалось.
Я вышла на улицу, а там пахнет летом и воздух звенит. На небе – пусто, все облака свалились вниз и, рассыпавшись, превратились в тополиный пух. Пушинки летали по Москве, слеплялись в комки, катились по земле и, падая на деревья, перекрашивали листья в белый цвет. Домой не поеду, вначале прогуляюсь, подтяну настроение и войду в квартиру в бодром духе – пусть напускном, зато мама с бабушкой ничего не почуют. Обманывать их с каждым днем становилось труднее. Я знала, что в конце концов я себя выдам. Врать надо искусно: помнить все мелочи, не путаться в показаниях, возводить целое «здание». Здание я могу создать только на холстах и на бумаге, а врать профессионально не умею. Вру, как любитель. Значит, попадусь.
– Где тебя носило? Трубку не берешь, – строго вопросила бабушка, как только я переступила порог.
– Извини, ездила по делам, а в телефоне забыла звук включить.
Вряд ли она поверила. Я то и дело якобы забываю про звук.
Ее вопросы «Куда ходила, с кем, почему не позвонила?» меня достают, а втолковывать ей, что мне не пять лет, а двадцать шесть – бесполезно. Иногда удается ее в чем-то переубедить, но с трудом: даже если она не права, будет упираться и не сразу это признает. Со стороны можно решить, что она вроде памятника – с места не сдвинуть, и мало кто знает, что сердце у нее доброе. Человек она принципиальный и неравнодушный. Близких людей никогда не оставит в беде, несмотря на разногласия, скандалы и разные мировоззрения. Семья у нее на первом месте. А у моей матери (ее дочери) на первом месте – карьера. Она настолько сконцентрирована на своей актерской жизни, что все остальное отошло на задний план, и семья так вообще плетется где-то в хвосте. Запутанный у матери характер: она мгновенно засекает, если мы с бабушкой чем-то подавлены, спросит для приличия, все ли о’кей, но не приласкает, не обнимет, не поддержит. Скупа на чувства, хотя мастерски умеет передавать все их оттенки на сцене. Задать бы ей в лоб вопрос: «Почему ты к нам холодна?» Раньше она была мягче и отзывчивей, а когда я подросла, резко изменилась и отстранила меня, как сделала в пору своей юности и с бабушкой. Давно собираюсь спросить, чем мы ее не устраиваем, но так и не спрашиваю.
Бытует мнение, что у детей знаменитостей счастливая судьба, все у них с колыбели складывается удачно, все двери для них открыты, беззаботное у них существование. Далеко не так: живешь в тени своих известных родителей, вечно тебя с ними сравнивают и не в твою пользу, да и не всегда знаменитости возятся со своими детьми, им не до них. Когда думаю об этом, всплывают расплывчатые воспоминания о том, что я когда-то это уже переживала: знаменитая мать, тяжелые с ней отношения, даже нечестность с ее стороны. Или это обрывки снов? Взять бы их в руки, как фотографии, рассмотреть внимательно, а то они мелькают, намекают на что-то и пропадают. Единственное, что я четко в них вижу, – это маму: такую же отстраненную, как и в жизни.
Как только я прихожу домой, наваливаются невысказанные вопросы к матери. Вся квартира ими пропитана, точно я исписала ими стены. Не задаю их, потому что боюсь услышать не те ответы, о каких мечтаю. Слова замерзают внутри меня, и я не могу разобраться, отчего я до сих пор жду ее любви. Ждала в десять лет, в четырнадцать лет, в семнадцать, в двадцать. Стукнет пятьдесят, как ей сейчас, тоже, наверное, буду ждать. Что это: недолюбленность, инфантилизм или неуверенность в себе? Копайся не копайся, моя боль не исчезнет, а тут еще добавилась новая – Стас. И я достала из сумки телефон с надеждой, что увижу сообщение. Получается, я не лучше матери – у меня тоже путаница в чувствах. Собиралась объявить Стасу в кафе, что с меня хватит, ухожу от него, а при этом с дрожью в сердце ждала его и расстроилась оттого, что он не пришел и даже не посчитал нужным написать и извиниться. И сообщения каждую минуту проверяю. Самой противно от собственного безволия. А ведь в других случаях я далеко не безвольная.
– Не успела войти, как сразу за мобильник. Вся жизнь в этих мобильниках! – с ходу завелась бабушка и в сотый раз проворчала, что не существовало раньше никаких гаджетов, и народ жил не тужил, спокойно обходился без них, а теперь эти смартфоны, планшеты и прочие головоломки заменяют живое общение. Прогресс и все новое она не принимает, осваивает его с трудом и, хотя научилась пользоваться планшетом и с удовольствием смотрит сериалы, все равно ворчит, что в ее время было лучше. По прошлому она скучает, идеализирует его и, редактируя, перекраивает свою память. Думаю, эта перекройка вызвана ностальгией по молодости. Тогда, как она говорит, у нее была насыщенная жизнь, а сейчас, вздыхает она (часто стала вздыхать), ничего не осталось, кроме воспоминаний. Она их бережет и живет в них.
– Времена изменились, – тоже в сотый раз ответила я. Заезженный диалог на одну и ту же тему.
– Изменились не в лучшую сторону, – подчеркнула она и спросила: – Ты в порядке? Неважно выглядишь.
– В порядке, – заставила я себя безмятежно улыбнуться.
– Опять с ним встречалась? – строго спросила она.
Я вздрогнула: неужели вычислила?
– Кого ты имеешь в виду?
– Сама знаешь кого. Негодяя. Кого ж еще?
Я успокоилась – про Стаса она ничего пока не знает.
– Сегодня я к нему не ходила, позавчера у него была и завтра пойду, – произнесла я, хотя не следовало все выкладывать, предвидя ее реакцию. – Я же просила не называть его негодяем.
– А кто он? Святой? Негодяй и есть негодяй. Зачем ты так часто к нему ходишь?
– Мне одно непонятно, ты же сама хотела, чтобы мы с ним встретились, адрес его дала, а при этом поносишь его на чем свет стоит.
– Ладно, ладно, – отмахнулась она. – Сейчас покормлю тебя. Небось с утра крошки в рот не брала.
– Мама дома?
– Дома, у себя, – буркнула бабушка и с сарказмом добавила: – Надо же, выпал день без репетиций и ресторанов!
– Давай позовем ее, – громко сказала я, чтобы мать услышала.
Стучаться к ней – бесполезно. Она выходит, только если ей что-то нужно. Наша квартира своего рода коммуналка: живем как соседи, каждая сидит в своей комнате. Две соседки (мы с бабушкой) дружим, а третья – мать – держится от нас на расстоянии.
– Чего ее звать, она нас и так слышит. Брезгует нашим обществом, – отчеканила бабушка.
Взгляд на семью у матери ненормальный, как назвали бы его учителя в моей школе, если бы знали, но я, разумеется, не посвящала их в наши дела. Если для бабушки семья – это самое дорогое, что есть у человека, то с точки зрения мамы – это кандалы на ногах творческой личности. Как это она с такими представлениями умудрилась выйти замуж и меня родить! В браке она недолго побывала, развелась с моим отцом довольно быстро. Что между ними произошло, она до сих пор отказывается говорить. Зато бабушка меня просветила, а следом за ней – отец. Если бы я призналась матери (еще один от нее секрет!), что я тайно с ним вижусь, мы бы окончательно разругались. Один раз я таки решилась, но едва я заикнулась: «Хотела бы спросить тебя о моем папе…» – как мать перебила: «Не желаю слушать!» Его имя – табу в нашем доме.
С отцом я познакомилась не так давно – до этого долгое время колебалась. Раз он от меня отказался, когда я была крохой, я ему не нужна, зачем мне навязываться, но в итоге передумала. Родной же человек. «Какой он, к черту, родной, – не одобрила Нора мое решение его найти. – Он вообще тобой не интересуется. Где он, спрашивается? На кой тебе сдался дрянной папаша? Забей!» В этом она солидарна с моей бабушкой, которая называет его подлецом и негодяем. Других эпитетов для него не имелось. Так я и росла, зная, что где-то обитает негодяй-отец, с которым мне лучше не иметь никаких дел, а где именно обитает, бабушка обманывала, что понятия не имеет. В нашей семье не одна я вру.
«Почему негодяй? Что он такого ужасного сделал?» – приставала я к ней с одним и тем же вопросом.
«Спроси у Натальи», – не желала она объяснять.
Что за семейка у нас: скрытничаем, замыкаемся в себе, ничего не обсуждаем. Бред! Однако в итоге бабушка раскололась и выдала все секреты – не такие страшные, как выяснилось.
– Давай все-таки маму позовем. Наверное, она в наушниках и не слышит, – настаиваю я, заранее зная, что бабушка отрежет: «Была бы честь предложена».
– Была бы честь предложена, – отсекает она. Переступить через свою гордость выше ее сил, и она молча страдает. Однажды я застала ее в слезах. Смутившись, она быстро смахнула их с лица и выдумала, что в глаз соринка попала.
«Почему бы Наталье квартиру себе не купить или снять, если мы ей на нервы действуем? Так нет, не хочет. Жить на готовеньком проще, ей же некогда даже суп себе сварить», – постоянно ворчит бабушка.
«При чем тут суп? – защищаю я. – Мама устает, у нее спектакли, съемки. Разве нам сложно самим суп сварить?»
«Я уставала на работе не меньше, однако про семью не забывала. Наталья эгоистка!» – отсекает она.
Наша «коммунальная» троица – женщины разных поколений, с несхожими характерами и представлениями обо всем, но ведем себя одинаково: копим обиды и мучимся от этого. Бабушка сердится на маму, однако гордится, что у нее известная дочь, и хвастается перед друзьями, что не пропускает ни одного ее спектакля. Представляю их изумление, если бы они узнали, что в действительности все наоборот: на спектакли нам с бабушкой запрещено ходить, и мы, взрослые тети, слушаемся, как дети. Странно, что моя несгибаемая бабушка слушается.
«Меня сковывает, если в зале сидят родные, мне труднее тогда играть», – оправдывается мать, когда я бунтую, что мы имеем полное право ходить на ее спектакли. Липовая причина. Дело в другом – она нас стесняется. Знать бы почему! Знает ли мать сама? Мы с бабушкой не уродки, не алкоголички и не убогие. Заумные рассуждения матери о свободе творческой личности – это замаскированное отстранение от нас. Ну да, творчеством многое можно оправдать, – кипячусь я и затеваю в уме очередной диалог с ней: говорю о наболевшем и за нее отвечаю. В жизни ей ничего не выскажешь – она оборвет и протянет с долей театральности: «Опять ты с претензиями. Никак не повзрослеешь».
Она актриса и в жизни. Это ширма, за которую никому не велено заглядывать. В игре матери вне театра я вижу ненатуральность и изломанность, но, когда она на сцене, восхищаюсь. Дар перевоплощения у нее необыкновенный: меняются манеры, голос, лицо. Впечатление, что она не только внешне себя переделывает, но и свое мышление – становится другим человеком. Ей любая роль подвластна.
Когда я девчонкой сидела в зале среди влюбленных в нее зрителей, мне хотелось с гордостью крикнуть: «Это моя мамочка!» До сих пор кричу это в душе. На сцене она королева, все разногласия и обиды отступают, они ерунда по сравнению с ее игрой. В эти минуты я даже готова согласиться, что талант должен быть свободен от всего. Быт, все эти кастрюли, уборки, постирушки – не для мамы, нам с бабушкой не трудно самим это делать. У нее другое предназначение. Наверное, права Цветаева:
Ибо раз голос тебе, поэт,
Дан, остальное – взято.
«Мамочка, какая же ты великолепная!» – говорю я про себя, а сказать вслух нельзя – она не выносит сентиментов. Тем более нельзя побежать за кулисы, где она будет окружена толпой поклонников. «Не подходи!» – остановит меня ее ледяной взгляд. И я поспешно ретируюсь, чтобы никто не успел поймать направленный на меня этот взгляд. Нет, все-таки Цветаева не права.
А если мама неожиданно скажет, что была рада увидеть меня в зале, я мгновенно растаю. Стасу тоже достаточно одного слова, чтобы меня растопить. «Дурацкий у тебя характер, – ругает меня Нора. – Покруче надо быть. Он тебе морочит голову целых два года. До старости собираешься его ждать?»
Два года назад
На столе чистый лист бумаги. Его еще не коснулся кончик моего карандаша – непременно остро отточенный. Но я уже вижу на листе то, что изображу на нем. Начинать всегда волнующе – никогда не знаешь, совпадет ли полностью созданное в голове с результатом, не загубит ли все одна неправильная линия. Карандаш ведет меня по листу, словно его держит не моя, а чья-то рука, и уводит в загадочную реальность. В ней каждый зритель разглядит что-то свое, близкое ему и найдет даже то, что не вижу я. У художника тесная связь со зрителем: оба раскрывают что-то новое друг другу.
Настроение у меня теплое – под стать погоде. Закончились беспрерывные дожди, очистилось от хмурости небо, Москва ожила. День сегодня светлый и в другом смысле – иду на творческий вечер маминой приятельницы-актрисы. Билет купила тайно от матери, контрамарку у нее не попросила. Сяду подальше от всех, на задворках, надеясь, что ее зоркий глаз меня не засечет, иначе она рассердится. Если она заметит, виду не покажет, доведет с блеском свое выступление до конца, но позже отчитает, что не имела я право приходить без ее разрешения: «Ты же знаешь, что присутствие родных меня сковывает». Поначалу я сомневалась, идти ли, но пристыдила себя: веду себя как провинившаяся малолетка – боюсь маминого гнева.
Героиня вечера – талантище, одна из последних могикан. Возможно, впереди нет у нее никаких творческих вечеров, ей уже за девяносто. Не могу я пропустить это событие. Помимо этого, хочу послушать мамину поздравительную речь. Выступает она всегда с обаянием, с юмором. Буквально всех завораживает. Актриса-гипнотизер – так можно шутя сказать.
Абсурд какой-то: чтобы увидеть мать, я должна идти в театр, да еще тайком. Видимся мы редко, словно живем в разных районах. Домой она приходит поздно и прямиком направляется к себе. Если мы сталкиваемся в коридоре или на кухне, и я спрашиваю, как прошел спектакль, она скупо отвечает: «Как обычно. Падаю от усталости, завтра поговорим». Человеческого общения с ней я жду постоянно и от этого тяжко. Постоянное ожидание того, что никак не можешь получить, гнетет. Копалась я, копалась, чтобы в себе разобраться, и бросила. Дохлое это дело. Самоанализ – коварная штука. Залезешь в его дебри и такого наворотишь, что совсем муторно становится. Есть какая-то грань, за которую боишься переступить или не способен переступить. Не хочешь знать правду. Это своего рода самозащита, от этого подтасовываешь причины и окончательно себя запутываешь.
Нора считает, что у меня комплекс неполноценности, и советует сходить к психологу. «Мама у тебя классная, красавица, талантливая, на ее фоне легко потеряться», – говорит она. В словах подруги мне слышится ехидство, что я не дотягиваю до маминых высот. Болезненные отношения с матерью развили во мне мнительность – всюду мерещится нелестный подтекст. Тем более что мать настоящая звезда. Правда, сияет она только на публике. Если бы ее фанаты увидели свою любимицу в домашней обстановке, приняли бы за другую женщину. Дома мать постоянно раздражена, лицо сумрачное и пустое без фирменной сияющей улыбки, с какой она выходит к людям.
Пора собираться на вечер. Но трудно оторвать карандаш от листа ватмана. Еще один штрих, еще… я глянула на часы, надо поторопиться, а то опоздаю, дам себе только пять минут поработать. Не терпелось закончить портрет незнакомца, с которым я недавно столкнулась в мамином театре. Не подозревая, что его выбрали в натурщики, он улыбнулся мне, проходя мимо. Я тотчас подобрала ему сравнение – тигр. Уточню – белый тигр: глаза у него холодно-голубые, волосы светлые, как выгоревшие. Походка хищно-кошачья – плавная, но уверенная. Взгляд невозмутимый. Характер, похоже, непробиваемый. Мужчина – не мой типаж. Как натурщик он тоже мне не подходит: пропорциональное телосложение, правильные черты лица, никакой асимметричности или необычности, какие я ищу во внешностях. Поэтому самой непонятно, чем он меня привлек. Наверное, той силой, которая от него исходила.
Отложив, наконец, в сторону карандаш, я помчалась в театр. В фойе толпилась сборная солянка: соратники и друзья героини вечера и любители тусовок. Последних мама называет притеатральной шушерой, а порой и похлеще. Острая она на язык.
– Никочка, рада тебя видеть, – подошла ко мне ее приятельница Татьяна.
Она, как и моя мать, тоже актриса, и неплохая, но застрявшая в одном образе, переходившем из одного фильма в другой. В общении она легкая. Держится ровно. Как-то она сказала, что актриса должна быть в идеальной форме и прятать свои эмоции при любых обстоятельствах, даже если кровоточит сердце. Значит, мы с бабушкой тоже актрисы, никто не подозревает, что у нас дома творится, горько усмехаюсь я про себя.
– Ты вместе с мамой приехала? – спросила Таня.
– Нет, мы по раздельности, я моталась по делам.
Не могла же я признаться, что явилась сюда незваным гостем. О наших семейных делах я никому не рассказываю. Мать у всех на виду, и ее репутацию я должна оберегать. Завистников у нее не меньше, чем поклонников, и они рады подхватить и раздуть любую сплетню. Нора – единственная, кому я приоткрыла правду, и то далеко не всю. Вырвалось у меня в минуту слабости, хотя делилась я с ней осторожно, учитывая, как она восхищается мамой, ходит на все ее спектакли, повесила у себя дома ее фотографию. Поэтому я преподнесла все в искаженно-смягченном виде.
– Твоя мама знаменитость, у нее дел по горло, у тебя своя жизнь, у нее своя, это естественно. Это хорошо, что она не лезет к тебе. Была бы у тебя такая мать, как моя, ты бы взвыла, она мне постоянно мозги выносит, – выслушав, сказала подруга.
– Выносит? Она же в Перми.
– Трезвонит каждый день, заваливает эсэмэсками. Она кого угодно и где угодно достанет. Я игнорирую и не отвечаю.
– Ответь, она и перестанет трезвонить. Она, наверное, волнуется.
– Волнуется она! – хохотнула Нора. – Контролирует, а не волнуется!
Познакомились мы с Норой в театре. Узнав через общих знакомых, что я дочь ее любимой актрисы, она подошла ко мне. Впечатление о ней было двоякое: понравились ее меткие замечания, юмор с ноткой сарказма, но оттолкнула напористость. Первое время я держалась на дистанции (маминых фанатов я сторонюсь), но постепенно мы сдружились. Общая профессия и любовь к театру нас сблизили. А первое впечатление, как обычно случается, померкло, и то, что насторожило в ней поначалу, не имело уже значения.
– Мама уже здесь? – спросила я Таню.
– Еще нет, я ее не видела, – сказала она и спросила, кем я работаю. Это ее коронный вопрос. Каждый раз задает его и мгновенно забывает ответ. Склерозом она не страдает, просто ответ ей неинтересен.
– Иллюстратором-фрилансером, еще делаю портреты…
К ней подскочили знакомые, и мои слова утонули в их возгласах приветствий. Придется ей опять меня спрашивать, когда снова увидимся.
Я огляделась. Народу прибавлялось, а мамы нет. Что-то случилось? Сержусь на нее, дуюсь, а при этом беспокоюсь о ней. Я вытащила телефон, подержала его в руке и засунула назад в сумку. Если наберу, она поймет, что я здесь, и разозлится. У нее заскок, что я везде ее подстерегаю, вынюхиваю, вторгаюсь на ее территорию из чистого любопытства. Не приходит ей в голову, что не лезу я, а хочу нормального общения и переживаю за нее, когда она расстроена. Она ничего мне не рассказывает, когда ей плохо, а плохо ей часто бывает, я же вижу. В последнее время особенно – ее явно что-то тяготит, а спросить нельзя. «Все у меня в порядке!» – отбреет она.
Вдруг я заметила в толпе незнакомца-Тигра, чей незаконченный портрет лежал у меня на столе. Наши взгляды столкнулись, и он, улыбнувшись, кивнул. Вроде вежливое, ничего не значащее приветствие, но приятно, что он меня узнал. По идее, мне должно быть безразлично, узнал или нет – самонадеянные субъекты не в моем вкусе. Однако нас объединяет общая черта – мне показалось, что он, как и я, ловец. Я ищу натурщиков, а он выискивает полезные контакты. Вряд ли он, наподобие тусовщиков, сует всем свои визитки, вон как тот парень с наколкой на шее, шныряющий по залу с пачкой своих визиток. Пробегая мимо, парень глянул на меня, оценивая, и, видимо, решив, что я контакт неважнецкий, помчался дальше. А Тигр держался с достоинством. В нем также прочитывалась амбициозность. Такие, как он, за людьми со своими визитками не гоняются. «Как это ты определила за секунду, обменявшись с ним только взглядами?» – засомневается кто-нибудь. Вот так, сама не знаю как.
В это мгновение Тигр, будто разгадав, какую я дала ему характеристику, направился прямиком ко мне. И впрямь хищник – шел он целенаправленно, приметив жертву, не спуская с меня своих прохладных глаз. Я растерялась. С одной стороны, он отталкивал своей мощью (лучше определения не подобрать), но этим и притягивал. Мужчин я на данный момент сторонилась (не отошла еще от разрыва с моим молодым человеком), знакомиться ни с кем не собиралась, и тем более с Тигром. Притворившись, что не вижу его, я выскочила на улицу.
– Маму ждешь? До чего ж ты все-таки на нее похожа! – подошла ко мне пара ее друзей.
В юности я радовалась, когда это слышала, а сейчас нет. Не хочу никаких сравнений – я самостоятельная единица, а не мамин блеклый двойник. Пойду-ка я домой, нет смысла топтаться здесь на смех всем. И в это мгновение мать появилась. Вышла из машины с улыбкой, которую она дарила всем подряд, и каждый считал, что только ему одному послана эта улыбка. Подойти к ней и сказать, что она великолепно выглядит, я не решилась, предвидя ее реакцию. Непозволительно, говорит она, разводить при всех сентименты. Красивая, элегантная, сияя глазами, она двинулась ко входу. И вмиг потухли ее глаза, когда она меня увидела. Не проронив ни слова, она развернулась и быстро пошла по улице, а я – за ней.
– Подожди! – крикнула я.
Не оборачиваясь, она ускорила шаг. Убегала от меня, как от преследователя.
– Постой! – позвала я. Меня охватила такой силы обида, что не волновало, смотрят ли на нас с любопытством знакомые, будут ли потом судачить, лишь бы догнать ее и узнать, почему она так со мной обращается. Идиотская ситуация, пища для сплетен: мать удирает от дочери. Я поймала краем глаза пялившихся на нас прохожих. Мама тоже их заметила. Она остановилась и с улыбкой подошла ко мне.
– Что с тобой? Разоралась на всю улицу, – тихо произнесла она, не снимая с лица улыбки-маски.
– Почему ты от меня убегаешь?
– Не убегаю, а иду домой.
На ее лице – то же сияние, чтобы никто ни о чем не догадался. «Поддерживаешь имидж невозмутимой и неотразимой, а то увидят и начнут распускать сплетни!» – подмывало меня выплеснуть ей в лицо, но стало ее жалко. Несмотря на ясную улыбку, в ее глазах я увидела горечь и, как мне показалось, вызванную не нашим конфликтом, а чем-то другим.
– Почему домой? Ты же только что приехала, тебя там ждут.
– Ты оставайся, раз уж пришла, а я домой.
– Почему домой? – повторила я.
– Потому что ты здесь.
Ее ответ ошеломил, он был вроде оплеух, которые я получала от нее, когда росла. Я предполагала, что она это скажет, но надеялась, что ошибаюсь.
– Ты меня стесняешься, как будто я убогая.
– Не пори ерунды, – процедила мать, так же не снимая с лица улыбки-заслонки. – Меня напрягает, что ты требуешь к себе столько внимания, тебе не три года. Я сто раз это объясняла.
– Не внимания я требую, а хочу человеческого общения, а ты даже на свои спектакли запрещаешь мне приходить. Всех приглашаешь, а мне, твоей дочери, туда вход закрыт.
– Не запрещаю, а прошу! Меня тяготит, что ты полностью от меня зависишь.
– Полностью завишу? Это как? Я сама зарабатываю, за помощью и советом к тебе не бегу! Скорее это ты зависишь от нас с бабушкой, мы готовим, убираем, все делаем по дому. Ты как в гостинице живешь…
Не следовало ее обвинять, но как еще до нее достучаться!
– Довольно гадко попрекать меня едой, – перебила она. – На вашем иждивении я не нахожусь, вношу в дом свою часть, и немалую. Это не в счет?
– Извини, – буркнула я. – Но, согласись, несправедливо говорить, что я от тебя завишу.
– Разве нет? Ты подражаешь мне, повторяешь мои слова, выдаешь их за свои. Все это замечают.
– Это уж слишком! – взорвалась я. – Ничего я не повторяю, ты сама создаешь обо мне такое мнение, веришь в это, а твои знакомые тебе подпевают и говорят то, что ты хочешь услышать. Похожа я на тебя только внешне, а в остальном нет. Ты постоянно ко мне придираешься. Что ты от меня хочешь?
– Свободы хочу. Пуповина должна быть обрезана при рождении, а не тянуться всю жизнь, – вынесла она приговор.