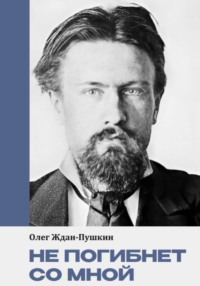Kitobni o'qish: «Не погибнет со мной»
Олег Ждан-Пушкин
Не погибнет со мной
Роман
От автора
О существовании записок Павла Дмитриевича Сильчевского я знал давно. Не знал одного: как заполучить их. Хранились они у его правнучки, Натальи Филипповны, и я дважды обращался к ней, и оба раза получил отказ. Почему, спрашивал. Там есть что-то компрометирующее семью или друзей? Нет, отнюдь. Павел Дмитриевич был порядочный человек. Так в чем же дело? Ни в чем. Нет и все. Красивая эта старуха с низким, почти мужским голосом, была жестка и принципиальна. Вот умру – тогда, пожалуйста. Что же мне, хотелось спросить, наблюдать за вами? Скорее всего, погибнут записки после вашей смерти. Нет, нет и нет. И только прощаясь, поинтересовалась: а зачем они вам? Опубликовать? Явная ирония прозвучала в обертонах басовитого голоса. Нет, я же сказала, нет.
А некоторое время назад я решил сделать третью попытку. И вовремя: старуха была совсем уж нехороша. Первое, что сделал – вызвал врача (была Наталья Филипповна из тех, что умрут, но ни к кому не станут обращаться), сбегал в аптеку, вскипятил чай. Она не была одинока, но дочь ее вышла замуж в Штаты, прилетала раз в год, а то и реже, писала подробные нежные письма, однако… Что письма, если до очередного инфаркта один толчок крови?
Когда ей стало лучше, а я собрался уходить, она остановила меня. Вы еще придете? – спросила. Не знаю, – ответил. Приходите завтра. Я приготовлю рукопись. И назавтра я вздрагивающими руками принял тщательно обернутую, упакованную в полиэтилен папку. Только… – невнятно и зависимо бормотала Наталья Филипповна, – вы уж, это… когда станете комментировать… вы, пожалуйста… так обидно…Теперь все комментируют… это ужасно…
Я, наконец, понял, почему она не хотела передать мне рукопись: опасалась досужего комментария. Так легко иронизировать над человеком через сто лет после его смерти. Тем более над людьми и событиями, о которых он пишет. Впрочем, я вовсе не был уверен, что удастся издать эти воспоминания: так много произошло в последние годы, ушло и пришло. Но ведь каждому знакомо такое состояние: не хочешь, а делаешь, не особенно задумываясь о результатах и последствиях. Что-то влечет тебя, беспокоит, и хочется думать – справедливость и истина. Хотя для многих в этой истории все не так, все наоборот, а главное – это не враги мои, а друзья… Враги – напротив: давай-давай, вперед, не оглядываясь, отступать некуда. Как найти компромисс? Порой кажется, что он невозможен. Да и вообще компромисс – дело временное. Так же как победы и поражения. Ни то, ни другое нам не нужно. На будущее мы тоже особенно не надеемся, – нам бы только закончить сей труд.
Глава первая
Минувшая неделя выдалась несуразной и хлопотной, и я не смог посетить Петра Александровича.
В понедельник явился внучатый племянник из Чернигова, никогда мною прежде в глаза не виданный, и я принужден был три дня водить его по Петербургу; в среду Щеголев, наш уважаемый издатель и редактор, сообщил, что рецензия на книгу Н.Р. пойдет в ближайший номер, следовательно, надо садиться перечитывать и писать; а в четверг в нашу редакционную комнатку повалили, как сговорились, обычные наши посетители – адвокаты, врачи, учителя, земцы, путейцы, кто за ответом, кто с рукописью.
Публика эта мне довольно знакома, мы сами породили ее. Никогда еще на Руси не было такого числа вспоминателей, как ныне, когда появился и вот уже почти год издается наш журнал. Казалось бы – ну что вам, люди, десять, двадцать, даже пятьдесят страничек в журнале? Платим неважно, круг читателей невелик… Нет. Не в деньгах или известности дело. Прошлое жаждет вырваться из тьмы забвения! Опубликуют – жизнь получит иное, не личное, но историческое измерение. Не опубликуют – канет в Лету, как миллионы иных. Впрочем, слава нашего журнала началась раньше, первые номера вышли в 900-м, в Париже, а как только Щеголев и Богучарский получили разрешение на издание в Петербурге, мемуары хлынули, словно горное озеро прорвало запруду.
Кто только не бывает у нас! Бывшие советники – от титулярных до надворных и тайных, бывшие генералы, полковники, бывшие судьи и бывшие преступники, бывшие прокуроры и присяжные – бывшие, бывшие, бывшие. Не особенно удивлюсь, если однажды войдет, ломая шапку и искательно улыбаясь, кто-либо из бывших палачей, например, славный в свое время Фролов или его преемник Филипьев…
О нет, не только в прошлом причина. В настоящем! И, не исключено, в будущем. Не меньше современников мы страшимся потомков, хотя, казалось бы, что нам те люди, которые родятся на земле через сто-двести лет?
Потому и идут к нам. Особенно теперь, когда все опять сдвинулось, затрещало, и непонятно, что ж будет завтра?
Вспоминают минувшие годы, а между тем обвиняют и оправдываются, прячутся и выставляются наперед… Есть авторы, которые, вывалив на стол амбарную книгу с собственным именем, исполненным скромным полууставом, желают непременно присутствовать при чтении, чтобы контролировать впечатление, предвосхищать вопросы, а еще лучше – с выражением прочитать вслух. Дескать – важно, дескать – проездом, обоз овчины привез в Гостиный, а потому посижу на краешке стула, за краешком стола. Встречаются и такие, что вручив небрежно рукопись, тотчас уходят, не оставив адреса, – хотите публикуйте, хотите нет, а он перед историей выполнил свой долг.
Прошу простить за нечаянный скепсис, но после пятидесяти это житейское благо накапливается в мозгу так же, как соли в позвоночнике и суставах. Не исключено, что и роль их в организме одинакова: и то и другое призывает к осмотрительности…
Случаются и сомневающиеся. Эти входят и вручают воспоминания неуверенно, будто заранее колеблясь: надо ли, достойно ли публиковать?
Из таковых, видно, и был поживший, моего возраста мужчина, появившийся в редакции, когда мы с Матвеем Григорьевичем собрались по домам. Робко постучал, чутко замер у двери за порогом: не ослышался? можно входить?
Печать интеллигентного провинциала лежала на его облике: та особая опрятность в одежде, с которой они являются в присутственные места, покорность и вежливость в каждом взгляде и жесте, а вместе с тем гонор: почудится ему неприветливость и суровость – повернется, уйдет.
Обычно такие авторы занимают много времени, и я огорчился: собирался сегодня же и пораньше навестить Петра Александровича. Во-первых, неважно выглядел старик в последнее воскресенье, во-вторых, хотел посоветоваться с ним по одному непростому вопросу, занимавшему меня долгие годы, в-третьих, на неделе обещали ему занести книжечку Степняка, которая уже была в продаже, а я ее прозевал.
– Прошу вас, – повторил я.
Только теперь, убедившись во взаимной учтивости, заулыбался, шагнул. И снова замер, с ожиданием вперив взгляд в мою не столь уж примечательную физиономию.
– Слушаю вас, господин… э-э…
Посетитель молчал, по-прежнему загадочно улыбаясь.
– Не узнаешь меня, Павел Дмитрич?
В то же мгновение мы стояли друг против друга, сцепившись руками.
– О Боже, – смущенно бормотал я. – Столько лет не виделись, мудрено ли?.. Прости великодушно, как я мог ожидать?
Впрочем, ему мои извинения не были нужны, он рад был создавшейся ситуации и впечатлению, и бормотал я скорее для себя, оправдываясь перед собой за беспамятство.
– Какими судьбами? Давно ли в Петербурге? На побывку или на жительство? Один или с семьей? Надолго ли? Где остановился?..
Мы никогда не были особенно близки, но не так уж часто навещают товарищи по отрочеству, по гимназии, да и вообще – из кого выбирать самых близких, где они?
Четверть часа спустя мы шли по Невскому к ресторанчику Степана Болдырева, чтобы как следует наговориться, обменяться прожитым за почти уже двадцать лет со дня нашей последней встречи. По дороге выяснилось, что в Петербурге Иван Панаженко третий день, приехал навестить дочку и заодно, а может и прежде всего, выяснить, что же происходит в столице и, значит, с каждым из нас? Двигаемся ли? И если двигаемся, то куда? Имеется ли в обществе ориентир, и если да, то – каков?..
Славные вопросы, не без усмешки подумал я. А нам, петербуржцам, куда поехать, чтобы получить ответ? Ладно, поговорим. Жаль, конечно, что не приехал ты, Иван, год назад. Какие бы тогда вопросы возникли в твоей, помнится, неглупой, но осторожной голове?.. Вот и ресторан, вот и сам Степан Болдырев – как и мы, постаревший, потертый жизнью, но по-прежнему мощный, широкоплечий, памятливый.
– Мое почтение, Павел Дмитрич.
И отнюдь не рабский поклон.
Иван Панаженко никакой роли в моей жизни не сыграл, и если бы не этот случай, я, пожалуй, и не вспомнил бы о нем до конца моих дней. Или, по крайней мере, не стал бы вспоминать все, что с ним связано, так обстоятельно и подробно.
И в самом деле, кто и какой он был?
В гимназию пришел на год позже, был послушен, старателен, учился хорошо, однако ж вовсе не блистал талантами… Тоже и внешность имел самую обыкновенную для наших мест: крутолобый, темноволосый, кареглазый… Был, кажется, развит физически, однако ж, силою не похвалялся. В обиду себя не давал, но и драчливости не проявлял. В тот год поднялась война между гимназистами и «сапожниками», никто не знал ни причины, ни повода – весь город встал на дыбы.
Гимназия наша существует с восемьдесят девятого года прошлого – виноват, теперь уж позапрошлого, да, да, 18-го! – столетия, кулачные схватки такого рода происходили нередко, а раз в десять-пятнадцать лет – войны, и с каждым разом жесточе. Ежевечерне безумными толпами носились по задворкам и улицам, обыватели закрывали ставни, запирали калитки, и – горе тому, кто окажется в меньшинстве. По воскресеньям собирались на берегу Десны, ниже города по течению – тут уж и вовсе смертные побоища. У меня так и остался шрам через всю голову с того времени – след гвоздыря.
Наш добрый директор, Павел Федорович Фрезе, приходил к реке, приводил с собой то законоучителя Хандожинского, соборного протоирея, магистра Киевской духовной академии, то учителя русской и всеобщей истории Безменова – все напрасно, расходились, чтобы в другом месте собраться опять.
Являлись порой и квартальные – всегда трое, четверо, плечом к плечу. Как я теперь понимаю, молоды были квартальные, крепки и смелы. Надо бы разбегаться, завидев их, но что-то удерживало. Гимназистов обычно не трогали, ну а сапожники, видно, стыдились бежать или надеялись – пронесет… Квартальные не увещевали, похмыкивая и поплевывая, смело приближались к толпе, внимательно заглядывали в глаза. Трудно сказать, какой встречный взгляд, дерзкий или слишком покорный, наконец, выводил их из себя.
Противоречивые чувства испытывали мы, гимназисты, – и злорадство, и страх, и сочувствие…
Вмешательство квартальных тоже не унимало волнений. Уже не только гимназисты бились с сапожниками, но и старшие дядьки махали клешнями у трактиров и лавок, уже и непонятно было кто с кем и против кого. Отправили в черниговскую тюрьму дюжину сапожников, исключили из гимназии десяток старших учеников. Дворянское собрание города дважды обсуждало события. И все это лишь поднимало бойцовский дух.
Не принимали участия в той войне только Иван Панаженко да еще Николай Кибальчич.
Кибальчич – понятно, новичок в гимназии, только что поступил, отучившись два года в Черниговской духовной семинарии, да и робок был, тщедушен для тогдашнего своего возраста – какой из него боец? Ну, а Панаженко… Тоже понятно. Крестьянский сын, слишком дорого досталась ему гимназия и казенный кошт на учение, мечтал получить право на чин после окончания и выйти из сословия, имел все основания опасаться все это потерять.
А затухла война благодаря ему, Панаженко. На Рождество Христово сапожники поймали Ивана у Петропавловской церкви, заволокли на задний двор и выместили накопившееся зло. Само собой образовалось перемирие на две недели – ждали: выживет или нет? Ну, а через две недели страсти улеглись.
Весной 1889 года, едва я вернулся из второй, Воронежской ссылки, как получил от него письмо. Было оно скорее официальное, нежели приятельское, но тем более польстило моему самолюбию: помнят на родине! Не забыли.
Панаженко сообщал, что в конце мая Новгород-Северская гимназия будет праздновать столетие основания и приглашает на торжество бывших выпускников.
Я и поехал. Имелась еще причина для путешествия: давно мечтал побывать не только в Новгород-Северске, а и на родине, в Коропе.
Странное это чувство – родины, пожалуй, мистическое. Вину испытываешь перед этим уголком земли, будто, уехав, бросил на произвол судьбы, благодарность – будто таким уж бесплатным оказался ее подарок – жизнь, долг – будто посетив через тридцать лет, исполнишь нечто завещанное от веку. Наперед знаешь, что ничего, кроме разочарования и печали, путешествие не доставит, а все равно едешь. Все люди знакомы с такими чувствами, вот и тебе надо, иначе чаша жизни окажется не полна.
Выехал я из Петербурга в самом романтическом настроении. Но пока добрался до Нежина, а из Нежина до Кролевца, а из Кролевца до Коропа… В общем, приближаясь к родному городу, изнемогая от жары, тряски и едкой пыли, я мечтал о постоялом дворе с тараканами, как должно быть наследник, возвращаясь из Ливадии, мечтает об Аничковом Дворце. А когда кибитка загремела по единственной мощеной улице города, вовсе пришел в уныние – таким заброшенным, одиноким, случайным на земле показался родной городок, а тем паче случайным и одиноким я сам. Зачем я здесь? Что за пустые сентиментальные чувства привели сюда?.. В предполагаемом разочаровании есть своя прелесть, мнится оно поэзией увядания, в наступившем – ничего, кроме усталости и тоски. Вот и постоялый. Получил номер и рухнул в постель, едва успев ополоснуть лицо и снять обувь.
Под утро мне пригрезилась картинка из детства – майское утро, мама на крыльце в лиловом шелковом платье с галстуком из накрахмаленного батиста, с поясом над турнюром, завязанным широким бантом, отец в темном сюртуке и белой рубашке с золотой запонкой, и я сам – в матросском костюмчике, что как раз вошли в моду среди нашего губернского дворянства, и отец привез его мне ко дню рождения из Чернигова. Все мы с интересом следим за конюхом Панаськой в красной рубахе, что выводит и запрягает в новенькую плетеную бричку Веселого – последнего выездного и последнюю бричку нашего когда-то богатого рода.
До церкви Успения со знаменитыми на всю губернию дароносицей и напрестольным крестом рукой подать, но, кроме праздничной службы, будет большой торг на базарной площади, бродячий театр приехал то ли из Ростова, то ли из Курска, а главное – все, у кого есть выездные, поскачут после службы и торга в Закоропье или к Десне, там будет «братчина», то-есть, первый летний пикник. Звон летит сразу со всех десяти церквей, а за высоким забором скрип, стук, блеяние, поросячий визг…
Я открыл глаза – колокольный звон и живой ропот не исчезли. Кинулся к окну, увидел вереницу крестьянских телег, мужиков и баб в праздничных нарядах и тогда сообразил, что сегодня Вознесение Господне, самый любимый после Пасхи праздник детства, ну и, конечно, красный торг в городе – не только же на службу ехать крестьянину из Рыбатина, Билки, Нехаевки, Пустой Гребли, Бужанки, Разлетов, Чернявки – ближних и дальних деревень.
Ликуя от такой удачи, я выбежал на улицу и сразу – к базару, в его живой дух, в горячий настой людской и скотской плоти, к звону кузнецов и горшечников, к призывным крикам сапожников и шапочников, к воплям цыган в желтых канаусовых рубахах, в ту суету, мельтешение и волнение, что в массе своей гляделось празднеством, а для каждого в отдельности своей человека могло оказаться и удачей, и последней бедой.
Торг показался мне довольно богатым для весны и начала лета, точнее, достаточным, лица крестьян умиротворенными. По обрывкам фраз, восклицаний, приветствий я понял, что, как в лучшие времена, собрались крестьяне даже из Оболонья, Туты, Стахорщины. Что ж, коропские торги и ярмарки издавна славились сборами даже в голодные годы, а кроме того, черным пивом, которое здесь варили испокон веку. Ну и службой отца Иоанна Кибальчича в церкви Успения, певчими, каких не было ни в одном приходе благочиннического огруга, искусством звонаря Амвросия, огромного мужика на деревянной ноге – инвалида Крымской войны.
Торг шел дружный, трезвый. Трактир, стоявший в центре базарной площади под российским гербом со времени Екатерины, со времени ее знаменитого указа о «чарочных», был еще пуст. Не видно было и слез, что так смущали в детстве, когда веселый сговор вдруг заканчивался воплями и рыданиями. Уж не вправду ли – пусть нехотя, черепашьим шагом, но меняется что-то в подлунном мире? Дай Бог.
Ходил от ряда к ряду, приглядывался, приценивался, и только изрядно намучав ноги, утомив глаза и уши, отправился по городку, прежде всего, понятно, на ту улочку, где стоял когда-то родительский дом. Не без робости издали отыскал его взглядом.
Однако, что это? Обшелеван, покрыт красной немецкой черепицей, украшен наличниками. Колодец во дворе под свежим срубом, сад обновился… «Кто здесь живет?» – обратился к прохожему. «А волостной писарь, – получил ответ. – Савелий Конограй. В том году на Духа купил».
Вот как, подумал я. Выучился крестьянский сын Савелий на писаря, исправно служит, живет не тужит, ребятишек накошелил полный двор и знать не хочет, что занимает бывший дом дворянина Сильчевского. Славно!.. И даже соседняя хата, что, будто стыдясь позора своей нищеты, вросла до окон в землю, не повлияла на мое возвышенное настроение. «А здесь кто?» – «А Яшка Бимбус! Сапожник».
Яшка?.. О Господи, Яшка, друг детства! Золотушный, сопливый, голодный. Приходил к обеду, знал точное время, когда садимся за стол, открывал дверь без стука. «Яшка, суп со свининой будешь?» – «Буду».
Все, кому не лень, подшучивали над Яшкой. «…а кроликовую курицу? А куриного кролика?» Яшка пищу ставил выше юмора: буду, неизменно отвечал шутникам. Рассказывали, что в голодный год кто-то из купцов накормил его отца-кошерника крольчатиной под видом курицы – чуть не помер сапожник от гадливости и рвот.
Я толкнулся в калитку, привычно откинув щеколду с обратной стороны, однако на двери дома висел замок.
Нет, не жалость вызвало в моей душе жилище Яшки, а нежность. Как все прочно в этом мире, как последовательно и надежно. Вырос Яшка, унаследовал и профессию своего отца и хатенку. Обязательно надо заглянуть к нему вечером, встретиться, обсудить прожитые годы. Подарки детишкам принести.
Я спустился к реке, к тому месту, где мы когда-то купались, чтоб посидеть на берегу в тиши и одиночестве, отдохнуть от впечатлений. Вспомнил, как мы опозорились здесь с Колей Кибальчичем, испугавшись плыть на другой берег, как униженно плелись домой, стыдясь себя, а на другой день – поплыли, глядя один на другого выпученными от страха глазами. О счастье возвращения к жизни, когда касаешься дна на том берегу!
С того дня, войдя в воду, я не забывал похлопать ладошкой по ее крутой шее: спасибо, милая. Вынесла дурака, не дала пропасть. Однажды оглянулся и увидел, что Кибальчич с обычной своей странноватой улыбкой тоже похлопывает ладонью. Поймал мой взгляд – сконфузился, подпрыгнул, завопил дурным голосом, ринулся с головой. Не с тем ли самым и он обращался к ней?
Попав в Олонецкую, потом в Воронежскую губернию, я первее, чем в полицейский участок, шел поглядеть на реку. Казалось, здесь можно понять что-то и о людях на ее берегах, о том, каково мне будет среди них. В общем, привязался я и к Неве, и к Мегреги с Олонкой, и к Воронежу с Доном, но да простит мне сотворивший их – далеко им, изобильным, до маленькой нашей речки. Не омывали они души моей.
Вот основа, размышлял я. Не железные дороги, которыми так восхищался Кибальчич, строительству которых собирался посвятить жизнь, не великие города, а речки. И счастлив тот, кто после долгого путешествия по железной дороге из отдаленных или не столь отдаленных мест может коснуться родного берега и сказать: «Слава Богу. Доплыл». Конечно, большие города производят сильное впечатление. Кажется молодому человеку, что они средоточие и основа, а река у подножия – бедная родственница и служанка, но попадешь в такой уголок, как Короп или Новгород-Северск, и все ясно: вот он, прилепился ненароком, неуверенно и зависимо на сотню-другую лет…
Умиротворенный, даже торжественный, я поднялся и направился к церкви Успения, чтобы успеть на «Верую во единого» – любимого хора моего отрочества.
И успел, когда вошел, как раз грянули: «Верую!»
Выясняя свои непростые отношения с Богом, я бывал и в случайных часовнях на перекрестках дорог, и в кафедральных соборах. Давно отдаю предпочтение малым церквам перед столичными храмами. В них, соборных, отрепетированная, слаженная мольба, каждение Вседержителю, отдельный голос не различим там; в малых – надежда быть услышанным лично.
Почудилась мне особая страстность в голосах и лицах – так молятся в дни бедствий: войн, эпидемий, голода, когда единственное упование – Бог.
Но – слава Ему – ни о том, ни о другом не было слышно. Выходит, извечная народная вера и любовь.
Нет, не реки или железные дороги основа, думал я. Не деревни или великие города, а народная вера в грядущее, в добро и любовь. В конце концов, Бог у каждого свой, вера и безверие свои, а любовь к жизни единая. В этом и заслуга и необходимость религии, какой бы она ни была, – она объединяет и направляет людей. «Верую! – хотелось воскликнуть мне, такая была минута. – Во все верую! И в Бога триединого, и в социализм, даже в коммунизм, в Россию, в русский народ и свое честное предназначение в этом народе!..»
Стоял у входа и не вытирал слез. Здесь священник Иоанн Кибальчич когда-то венчал моих родителей, здесь же крестил в православную веру меня.
Я хорошо помнил его. Старый, тощий, риза на нем висела как на огородном пугале, смуглый, будто предки его за два века не расплескали ни капли своей сербской крови, с выражением бесконечного терпения в угрюмом лице. В тот год он начал по Житиям учить грамоте Николая, и мой отец упросил его взять меня в соученики. Успехи мои в учебе были ничтожны – то выражение суровой терпеливости парализовало меня, лишило сообразительности и памяти. А когда – через год – мой отец захотел рассчитаться с ним за науку, вернулся с деньгами расстроенный, огорошенный. «Чертов турок…» – бормотал несколько дней. «Турком» называли Кибальчича многие коропчане, поскольку сербы нация малоизвестная, а легенда о том, как дед его или прадед бежал из турецкого плена, известна. Ну и упрям был, непредсказуем, как, на взгляд коропчан, турки: мог потребовать за крещение ребенка десять рублей серебром, а мог и отказаться от платы вовсе. Какая-то линия поведения имелась, а какая – неясно.
Всегда был замкнут и сосредоточен, но порой, когда собиралась вся семья – Степан, Федор, Тетяна, Ольга, Катя, Николка – приходил в счастливое расположение духа и вдруг предлагал: «Споем?»
Отец благочинный
Надел тулуп овчинный,
– тут же начинал низким утробным голосом, а все – ваш покорный слуга в том числе, если доводилось присутствовать, – со щенячьим восторгом подхватывали:
Удивительно, удивительно, удивительно!..
Какое славное было время. Как много обещало всем и каждому…
Я стоял среди прихожан, искал знакомые лица. Однако было мне десять, когда переселились в Новгород-Северск… Вот разве лицо церковного старосты показалось знакомым. Но хотя я и щедро сыпнул в копилку «на ремонт храма», он не поднял на меня глаза. Что ж, все правильно, перед Богом все равны, и рубль и медный грош.
Дождавшись, когда священник вынес тот знаменитый серебряно-вызолоченый крест, я вышел – в том же возвышенном состоянии. Последнее, что заметил – уродливая старуха целовала крест, – с той страстью, что неприятно озадачивает постороннего человека, с которой обращаются к Богу не о спасении вечной души, а об исцелении тела… Но душевный подъем не располагает к размышлениям и пониманию причин.
На паперти некий колченогий мужичок слезливо задрал ко мне сивую бороденку: «Барин, помилосердствуй копеечку…» Что привычнее на Руси подобного зрелища? Огромное количество калек и убогих бродило по дорогам империи в моем детстве, словно кончилось в деревнях милосердие и выпихнули их в люди, на Божий свет и самопропитание. Тех, что добывали средства у цервей, называли богомолами, кто ходил с сумой по домам – горбачами. А еще были барабанщики, севастопольцы – калеки Крымской войны, иерусалимцы, родимчики, погорельцы. Отец мой был ласков с ними, порой зазывал в дом, угощал обедом, давал на дорогу пятак. Особенно интересны были иерусалимцы: предлагали купить то водицы иорданской, как лекарство против запоя, то щепочку от лестницы Иакова, а то и от самого гроба Господня.
Наверно, так и уехал бы я в высокой печали и радости, с верой в будущее, кабы шагнул мимо того несчастного. Но я приостановился и сыпнул в его скрюченную ладонь всю медь и серебро, что нашлись в кармане, – так что монеты зазвенели по паперти.
И тотчас тихий церковный двор ожил, невесть откуда взявшиеся калеки, увечные, старики и старухи, подростки и дети зашевелились, как серые муравьи перед суровой зимой, запричитали, завыли и поползли, кинулись одни ко мне, другие к счастливцу, выворачивали ему руку, царапали по земле в поисках упавших монет, и вот уже вопль вырвался из клубка дикой драки, грязная брань и проклятия.
Такого апокалиптического месива – будто со всей волости, уезда, губернии приползли они сюда праздновать свою проказу, калечество, нищету, – я еще не видел. Вырвался из цепких рук, что уже трясли мои карманы, отшатнулся от смрадных дыханий, отбежал – вот уже и камень покатился вслед мне.
Копошащийся клуб свалился с паперти на двор, вой и стоны не утихали, но тут из церкви повалил народ…
И еще одно воспоминание связано с той давней уже поездкой.
Неподалеку от Успенской я увидел новую, незнакомую мне церковь. Небольшая, двухкупольная, с пустым двором. Почудилось – не для славы Господней построена она, глухая и отгороженная, а покаяния и уничижения ради.
Так и оказалось. Возведена она была недавно на средства самодостаточных жителей города, дабы вечно замаливать кровавый грех своего земляка, цареубийцы Кибальчича.
Утром следующего дня я уехал из Коропа.
Родные могилы, появившиеся на Новгород-Северском кладбище за время моих ссылок, Никольская церковь, где на левом клиросе пели на воскресных службах отец и мать, старый наш дом, в котором жил теперь гостеприимный уездный доктор, а, главное, знакомые лица, голоса, всеобщее возбуждение снова возвратили мне высокое настроение. А еще – площадь, с которой по преданию начался злосчастный поход князя Игоря, память о сражении Мазепы и Петра, старинные гостиные ряды, Губернская улица, Триумфальная арка, построенная к приезду Екатерины II, Спасо-Преображенский собор, на который удовлетворенная императрица пожертвовала сто тысяч рублей… И совсем уж дальнее, почти забытое: «…А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались с е в е р я н а м и …»
Гостей было много. Тут, понятно, и естественный патриотизм сказался, и желание увидеть-показать, кто чего добился, достиг. И ордена сияли, и аксельбанты. Город был украшен, гремела полковая музыка на балюстраде над Десной, а в трактирах, шинках и лавках самого затерханного выпускника называли не иначе, как «господин гимназист», даже если гимназист был с дырявой бородой до груди.
Из нашего выпуска были здесь Голубятников, Альбрехт, Говорун, Неймандт, Орленко, Томашевский, Хорошко… Все были веселы, счастливы встречей, каждый по-своему красив. Особенно импозантны стали Говорун Иван – с брюшком, огромным бантом на груди, и Сергей Томашевский – уже профессор, звезда в своей области медицины, хотя область, прямо сказать, оказалась неожиданной – весьма популярные болезни изучал он, болезни любви… Все это давало новые поводы шуткам, намекам, игре настроения и ума. Александр Альбрехт, как и собирался, стал видным адвокатом в Киеве, Говорун – местным богатым купцом, Орленко выгодно женился и держал ныне едва не целое пароходство на Волге, Хорошко строил железную дорогу в Сибири… Все определились, кроме меня, были женаты, растили сыновей, дочерей. Я да еще Костя Неймандт, который тоже дважды побывал в ссылке и жил теперь в Одессе, не зная, как быть дальше, оказались из самых скромных гостей.
На торжественном собрании в актовом зале гимназии много было сказано теплых и прочувствованных речей. Конечно, в первую очередь о верности трону, православной церкви и государству, но и – России, народу. То были не пустые слова. Действительно, верны были и тому, и другому, и третьему. Служили верой и правдой, отволновавшись в далекие семидесятые, и нисколь не желали, чтобы новое поколение заволновалось опять.
Хорошую речь произнес нынешний директор Ронталер. Вспомнил первого директора коллежского советника Петра Ивановича Халанского, сына священника Глуховского уезда, сделавшего в свое время первое «Топографическое описание Новгород-Северска», – великая императрица наградила его за оное серебряной табакеркой. Благодаря Халанскому в гимназической библиотеке появилось собрание сочинений Державина с дарственной надписью, «Путешествие к татарам» и «Спутник в Царство Польское» Дмитрия Ивановича Языкова, сын фельдмаршала Румянцева граф Николай Петрович прислал «Российскую историю» Стриттера, собрание государственных грамот и договоров, Историю российской иерархии, Несторову и Никонову «Летописи»… Благодаря ему мы читали «Древнее русское право» Эверса, «Славянские древности» Шафарика, Словарь витийственных речений, изданный в 1688 году, византийских писателей издания Нибура, «Опыт общих правил стихотворства» князя Цертелева, «Надгробные слова» Боссюэ… Многим обязана ему наша гимназия, отстоящая на триста верст от ближних университетских городов.
Недаром, однако, старался Петр Иванович. В конце жизни император Александр Павлович пожаловал ему три тысячи рублей единовременного пособия «к ободрению в старости и нищете его угнетающей…»
Вечная память ему, подвижнику и неустанному просителю.
Вспомнил Ронталер и наших благотворителей: помещика Перовского, пожертвовавшего на строительство каменного здания тысячу рублей и тысячу четвертей извести, Парпуру, подарившего 16 000 серебром, Марфу Полуботкову, Лашкевича, ну и, конечно, Его Величество Николая Александровича, оплатившего счет в 150 000 рублей…
Сказал и Панаженко несколько слов: об особом местном патриотизме, о чувстве родины каждым жителем города, свободолюбии… О том, что если счастлив человек, значит, счастлива родина, и наоборот: неблагополучна родина – несчастлив и человек.