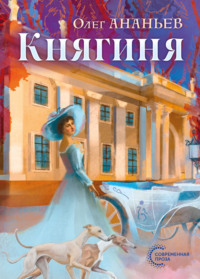Kitobni o'qish: «Княгиня»
Серия «Современная проза» основана в 2024 году
© Ананьев О. В., 2025
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2025
* * *
Все мы связаны, один через другого, с временем и вечностью. При этом прошлое не только учит, оно скорее воспитывает человека думающего и свободного в своих суждениях.
Глава 1
«Любое супружество, счастливое или незавидное, бесконечно интереснее и значительнее любого романа, даже самого страстного», – Иван Фёдорович Паскевич наставлял сына, окрашивая слова то интонациями нравоучений, то оттенками доверительной беседы. И всё же сначала эти доводы наследнику показались странными. Их глубокий смысл стал понятен годам к тридцати – и Фёдор Иванович Паскевич решил жениться.
В 1853 году в Санкт-Петербурге игралась свадьба, которая стала событием в жизни столичного общества. В неполные восемнадцать лет выходила замуж наследница именитого дворянского рода, дочь обер-церемониймейстера, действительного тайного советника, дипломата, графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова графиня Ирина Ивановна.
Её мать, Александра Кирилловна, происходила из рода царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, жены царя Алексея Михайловича и матери Петра I.
К роскоши Нарышкиных, а они были одними из самых богатых в России, прибавилась ещё более немыслимая роскошь Воронцовых-Дашковых.
Ивану Илларионовичу Воронцову-Дашкову принадлежал в числе многих дворцов и угодий и роскошный дворец на Английской набережной в Петербурге. Именно в этом дворце он давал блестящие балы, которые составляли всегда «происшествие светской жизни столицы». Воспоминания графа Владимира Александровича Соллогуба переносят в то далёкое прошлое: «Февраль, 6-го, 1841 года. Масленица. Что за прелесть балы в Петербурге! Граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков даёт бал: 200 человек званы в час; позавтракав, они примутся плясать, потом будут обедать, а вечером в 8 часов званы ещё 400 человек».
Душой и хозяйкой салона Воронцовых-Дашковых была Александра Кирилловна, одна из первых красавиц российской столицы. Попасть в её блестящий и самый модный салон считалось великой честью. Здесь проводились не только самые пышные балы – здесь умели ценить ум и талант.
В доме Воронцовых много внимания уделялось литературе, у них собирались известные русские писатели и поэты, в числе которых был и Пушкин. Те, кто общался с поэтом, более всего запомнили его весёлый ребяческий смех, фейерверк остроумных, блистательных фраз и добродушных шуток.
Бывал у Воронцовых и Лермонтов. «Неожиданно в вихре танца все увидели Лермонтова… Августейшие особы были решительно недовольны: считалось в высшей степени дерзким и неприличным, что офицер опальный, отбывающий наказание, смел явиться на бал, на котором были члены императорской фамилии».
Граф Соллогуб поймал Лермонтова и на ухо шепнул, чтобы он незаметно покинул бал, опасаясь, что того арестуют. Хозяин, проходя мимо, бросил: «Не арестуют у меня!»
И всё же Александра Кирилловна была вынуждена вывести его через внутренние покои, а поэт дурачился и никак не отпускал красавицу…
О её остроумии говорил весь Петербург и не только. Много позже, в Париже, когда Луи-Наполеон стал президентом Французской Республики и прокладывал путь к императорскому трону, Воронцова-Дашкова дерзко могла пустить колкую остроту даже в его адрес. На балу в своём дворце Наполеон поинтересовался – то ли из вежливости, то ли от скуки, – долго ли она намерена оставаться в Париже. Воронцова-Дашкова парировала:
– А сами Вы, господин президент, долго собираетесь оставаться здесь?
Глава 2
Дети Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова и Александры Кирилловны – дочь Ирина и сын Илларион – получили хорошее домашнее образование, восхищали блестящим знанием нескольких иностранных языков.
Ирина унаследовала от матери не только женское очарование и изящество, но и внутреннюю привлекательность, живой ум. Про таких говорили: «Все козыри на руках». Даже в самом просвещённом обществе она слыла очень образованной, большим знатоком античной и современной истории, литературы и искусства, чем вызывала восторг, удивление и зависть.
Ирина хорошо знала, что бал – место, где не только танцевали, играли и сплетничали, но и высматривали состоятельных женихов и невест с приданым. В узких кругах самые смелые обсуждали вопросы государственного устройства и политики. Здесь философствовали и галантно ухаживали, усваивали азы хороших манер, «светских приличий»!
Все эти маскарады, балы по образу и подобию французских увеселений оставляли за собой послевкусие театра за счёт примерки чудных ролей. Светской публике долго помнился «Китайский маскарад» 1837 года, на который сам Николай I нарядился мандарином! Но юная Воронцова-Дашкова находила куда большее удовольствие от посещений оперного театра, особенно Мариинского, названного в честь женщины – императрицы Марии Александровны, жены Александра II.
Доставляли ей радость и занятия художественной вышивкой. Но ни с чем не сравнимое наслаждение приносило чтение книг, которые были её собеседниками. Ирина занималась литературными переводами и сочиняла небольшие рассказы, содержавшие нравоучительные уроки и загадочные странности.
Как в ней уживались благоразумие и импульсивность, поэтическое и мистическое, она сама не понимала. Да, девушка являла собой очаровательную тайну. Вела себя с достоинством, но не горделиво, женственно, но без кокетства. Не склонная к жеманству, вызывала всеобщее обожание.
Не мог не обратить на неё внимания и один из почётных гостей салона Александры Кирилловны Фёдор Иванович Паскевич – сын прославленного фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича, светлейшего князя Варшавского, графа Эриванского.
…Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
Именно такой героический портрет Ивана Паскевича создал Александр Пушкин в стихотворении «Бородинская годовщина».
Иван Фёдорович Паскевич отличился не только на Бородино, но и в войнах с Персией и Турцией. В историю России он вошёл и тем, что не проиграл ни одного сражения, стал кавалером всех четырёх степеней ордена Святого Георгия!
Его высокие титулы венчал фельдмаршальский жезл, полученный после подписания Адрианопольского мира в 1829 году. Тегеран заплатил огромную контрибуцию в размере двадцати миллионов рублей серебром, миллион из которых достался Паскевичу.
Супруга Ивана Фёдоровича Елизавета Алексеевна Паскевич по отцу приходилась двоюродной сестрой писателю и дипломату А. С. Грибоедову, а по матери была в дальнем родстве с Пушкиным.
Судьба шурина Паскевича Александра Грибоедова, автора комедии «Горе от ума», полна драматических событий. Как русский посланник в Иране, Грибоедов стал одним из авторов выгодного для России и крайне невыгодного для Персии Туркаманчайского мирного договора. За что пал жертвой разъярённой толпы, которая разгромила российское посольство в Тегеране и убила всех работавших в нём дипломатов.
Елизавета Алексеевна искренне любила своего доблестного супруга, стала матерью троих дочерей (вторые роды – двойняшки). Любящий муж, довольный, что преуспел и в создании потомства, всё же ждал сына – наследника. И ожидания оправдались.
Однако, каким бы ни был желанным сын, общение отца с ним во всех дворянских семьях наступало тогда, когда мальчик становился юношей.
Уже при первом диалоге с сыном Иван Фёдорович понял, что его отличал глубокий ум и рассудительность. Но вот напористости, боевитости в его суждениях было недостаточно, по мнению отца. И всё же сын проявлял смелость иметь свои суждения, а не раболепие.
Да, в отличие от своего увенчанного лаврами отца, Фёдор Паскевич звёзд с неба не хватал, хотя до генеральской звезды и дослужился. В молодости вместе с отцом он принимал участие, в частности, и в Крымской войне 1853–1856 годов, которая завершилась не совсем удачно для России.
Рассуждая о тактике и стратегии сражений, Фёдор Иванович вынужден был признать, что любая военная кампания – «большая игра», похожая на шахматную партию между соперниками-государствами. Сложность состояла в том, что в этой игре «чёрных» и «белых» вы порой чувствуете себя непонятно какой фигурой, да ещё и с завязанными глазами. У него были иные представления о предназначении и смысле жизни…
Сыграв в 1853 году знатную свадьбу, молодожёны поселились в доме Паскевичей на Английской набережной в Петербурге. Украшенный Паскевичем-отцом всевозможными предметами искусства и собранием оружия особняк был открыт для гостей.
Не любительница великосветских балов, молодая княгиня успела устроить в этом роскошном особняке домашнюю театральную залу и сама исполняла различные роли на сцене. Она даже привлекла венгра-дипломата к игре в своём домашнем театре.
Глава 3
Високосный 1856-й год дал Паскевичам о себе знать с самого начала. 20 января почил Иван Фёдорович: сказались последствия контузии ядром во время Дунайской кампании Крымской войны.
Смерть настигла фельдмаршала в Варшаве, где он после подавления мятежа был назначен императором наместником в Польше. Он покинул земную жизнь в возрасте семидесяти трёх лет… Достаточно долгий жизненный путь, если учесть, что за это время сменилось правление четырёх императоров.
Незадолго до кончины фельдмаршал Паскевич завещал в фонд Государственного инвалидного капитала пятьдесят тысяч рублей серебром. На эти деньги он просил содержать ежегодно двести человек увечных нижних чинов (изувеченных и тяжелораненых солдат).
По отпевании тела в кафедральном Свято-Троицком соборе останки Ивана Фёдоровича Паскевича, по его желанию, предали земле в селе Ивановском. Во всех войсках и в целом Царстве Польском объявили траур на девять дней, в течение которого все театры были закрыты.
Отметив сорок дней со дня кончины отца, Фёдор Иванович задумал перевезти его прах в Гомель и перезахоронить в часовне-усыпальнице у стен собора Петра и Павла, для чего требовалось отстроить семейную усыпальницу. Это была одна из причин, почему он стал собираться в гомельское имение, что располагалось в Могилёвской губернии.
Фёдор Иванович получил в наследство восемьдесят пять тысяч десятин земли. Это огромное богатство, как упавшая с неба комета, вторглось в судьбу, резко изменив размеренный уклад жизни четы Паскевичей.
Глава 4
Фёдор Иванович пока не собирался брать в поездку в гомельское имение юную супругу. Будучи на двенадцать лет старше, опасался, что дальний путь ей, привыкшей с детства к комфорту, будет в тягость. «Не думаю, что Ирина Ивановна пожелает оставить занятия театром. К тому же неудобства в дороге… Это всё может сказаться на здоровье, ведь ей едва исполнился двадцать один год», – размышлял Фёдор Иванович. И он уверенно высказал свои сомнения княгине, на что она неожиданно парировала:
– Уверяю, Ваши опасения напрасны. Долг супруги и не такие тяготы переносить. А жёны декабристов?
– Слава Богу, я не декабрист.
– Неудобства в пути лишь сблизят нас. Мы будем вознаграждены сторицей. В Гомеле нас ждёт обустроенная усадьба.
– Что ж, весьма благородно с Вашей стороны, милостивая сударыня.
Супруга ответила с теплотой:
– Милостивый сударь, смею Вас поправить: благородны герои, совершающие подвиг во имя отечества. К примеру, Вы. Я не из их числа. Этого достойна, скорее всего, Ваша матушка, Елизавета Алексеевна, которая почти все годы не расставалась с мужем и сопровождала его во всех служебных назначениях в Вильно, Тифлис, Варшаву…
Фёдор Иванович ещё раз попытался привести разумные доводы, способные уберечь от тягостной поездки.
– Отрадно, что Вы так преданны и честны, но…
– Но не в Сибирь же направляемся, – настойчиво возразила княгиня. – Позвольте напомнить Александра Сергеевича Пушкина: ещё четверть века назад поэт писал, что Татьяна Ларина до Москвы, кажется, из псковской деревни «семь суток ехали оне»…
Цитата Пушкина вызвала у Фёдора Ивановича улыбку. Вздохнув, он продолжил:
– Дороги оставляют желать лучшего и поныне. И всё же я Вас обрадую, душа моя: со времён Пушкина кое-какие изменения произошли. В 1850 году через Гомель проложена шоссейная дорога Петербург – Киев. И всё равно это долгий путь, я опасаюсь за Ваше здоровье.
– Вот дорога как раз и будет способствовать укреплению духа и тела.
Фёдор Иванович внутренне ахнул от упрямства своей молодой, но настойчивой супруги. «Что ж, пусть поедет. До балов, слава Богу, она не любительница. А вот к книгам слишком пристрастна. Оттого и бледна излишне. И главное: наследник нужен, а его всё нет». Вслух молвил сухо, но уважительно:
– On se rassemble. (Будем собираться1.)
Глава 5
Однако вскоре Фёдору Ивановичу спешно пришлось ехать совсем в ином направлении: из Берлина пришло известие о плохом самочувствии матери…
Графиня Елизавета Алексеевна Паскевич, светлейшая княгиня Варшавская, скончалась в Берлине 30 апреля 1856 года от воспаления лёгких на руках сына и дочери Лобановой-Ростовской. Её похоронили рядом с мужем в селе Ивановском в Польше. (В 1889 году останки Елизаветы Алексеевны и её супруга фельдмаршала Ивана Фёдоровича были перезахоронены в семейной усыпальнице князей Паскевичей, выстроенной сыном в Гомеле.)
«Воспаление лёгких? Не думаю, что в этом истинная причина… Скорее, это следствие тоски. Елизавета Алексеевна искренне любила своего супруга и ненадолго его пережила», – такое объяснение скорого ухода Елизаветы Алексеевны в мир иной находила Ирина Ивановна.
Боль утраты родного человека Ирине Ивановне была уже хорошо знакома: спустя год после её свадьбы умер от холеры горячо любимый отец. Её, как и других родственников, не подпускали к Ивану Илларионовичу, опасаясь заражения.
Приехавшему после похорон матери из Берлина супругу Ирина Ивановна поспешила высказать самые сердечные слова для утешения. Потерявший почти в одночасье родителей, Фёдор Иванович проявил подобающую воинскому чину стойкость. И всё же с заметной дрожью в голосе произнёс: «Если бы не Вы, душа моя, Иринушка…»
Они продолжили сборы к поездке в гомельское имение, как вдруг…
Сообщение из Парижа о смерти матери Ирины Ивановны было подобно и грозе, и молнии средь майского неба: ведь Александре Кирилловне едва исполнилось тридцать восемь лет.
Ещё недавно, в 1854 году после смерти супруга, Александра Кирилловна рассеянно принимала соболезнования: она считала себя вправе быть счастливой и дальше. В тридцать шесть лет уехав в столицу Франции в расцвете красоты и здоровья, она была полна самых радужных надежд. Несметное богатство Воронцовых-Дашковых позволило вести праздный и роскошный образ жизни. В Париже и повстречала её любовь, страстная, ослепительная и безрассудная… Ко всеобщему изумлению, через год Александра Воронцова-Дашкова стала женой француза – доктора медицины барона де Пуайи…
«Отчего она так рано ушла из жизни? Отчего причины её ранней смерти остались невыясненными?» – эти горькие вопросы лишили Ирину Ивановну сна.
– «В Париже окончила свои дни светская львица с добрым сердцем и загадочной судьбой…» – вдруг прочёл в одной из газет Фёдор Иванович. – Как верно… Тактично и благородно… Хотя… Вы слышали: её второй супруг был аферист – кажется, игрок, – отбирал у неё деньги и бриллианты.
Ирина Ивановна закрыла лицо руками, её плечи судорожно задрожали. Фёдор Иванович, поругав себя за бестактность, поспешил взять супругу за руки, поцеловав, произнёс извиняющимся тоном:
– Mon cher amie (мой дорогой друг), чем я могу утешить Вас?
Они сели у камина: его разжигали каждый день, ведь май не дал желанного тепла. «Ещё только май. А високосный год принёс третью смерть в наш дом!» – подумала Ирина Ивановна, глядя воспалёнными от слёз глазами на угольки в камине.
Веря в могущество слова, княгиня вдруг ощутила, что ей трудно подобрать нужные слова:
– Mon ami, прошу Вас: не верьте сплетням о моей матери, она того не заслуживает… Она из тех, о ком французы говорят: «Forte et tendre» («сильная и нежная»). Да, у этой «светской львицы» было очень чуткое сердце. Я Вам расскажу лишь об одном случае. Мне было тогда всего два года. Конечно, мой рассказ – это то, что я услышала от маман гораздо позже… Вы хорошо знаете: Пушкин часто бывал в нашем доме, любил заглядывать на балы. И вот 10 февраля 1837 года маман, катаясь, встретила сначала поэта, ехавшего на острова с Данзасом, потом увидала направлявшихся туда же Дантеса с д’Аршиаком. Её сердце почуяло страшное, будто кто-то подсказал ей: «Это неспроста, быть несчастью!» Я потом не раз замечала: её сердце – вещун. Маман бросилась домой, стала просить мужа что-то сделать. Она бормотала в отчаянии: «Куда послать? Кого предупредить, чтобы не случился поединок?! С Пушкиным непременно произойдёт несчастье!» Папенька хотел охладить её волнение, резко ответил, что она слишком молода, чтобы понимать в вопросах мужской чести… Она потом говорила, что эта дуэль у Чёрной речки осталась в её памяти как самый чёрный день в её судьбе… Вспоминая Пушкина, всякий раз она плакала по поэту, как по родственнику. А ведь у них действительно были родственные души…
Глава 6
Чтобы путь не оказался слишком утомительным, Фёдор Иванович подсаживался в карету юной супруги – с её позволения – и увлечённо излагал то, что сам знал об этих местах: ведь ранее Гомелем владел его отец и он наведывался к нему. Побудила к таким рассказам сама княгиня, которой всё-всё было интересно:
– Гомель. Летописные упоминания о нём с 1142 года, он даже на пять лет старше Москвы?
– Представьте себе, именно так, – Фёдор Иванович иронично улыбнулся: – Но вы же не ожидаете увидеть в Гомеле стены замков, которые хранят признаки далёкой старины? Увы, он всю свою историю был деревянным, а посему, как и Москва, много раз горел. Это Николай Петрович Румянцев, которому в 1796 году местечко Гомель перешло по наследству от отца – фельдмаршала Петра Александровича Румянцева, начал его делать каменным. С него и началась новая страница в жизни города…
– Что за чудное имя Гомель?
Фёдор Иванович и сам давно пытался выяснить истоки появления загадочного слова:
– Отрадно, что Вас это интересует… Моей любимой книгой стал «Словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, который вышел совсем недавно.
– Этот словарь в числе и любимых мною книг. Удивительно: нерусский по происхождению человек (отец – датчанин, мать – немка) свою жизнь посвятил изучению русского языка.
– Ну родился-то он и живёт в России. Так ведь не один он из тех, в ком течёт чужеземная кровь, очарован магией русского языка.
– И всё же я не совсем Вас понимаю. Смотрела: в словаре Даля нет слова «Гомель».
– У Даля имеется мудрое народное изречение: «Зри в корень!»
Ирина с трудом, но привыкала к особенностям мышления Фёдора Ивановича, который любой предмет разговора рассматривал обстоятельно.
– Итак, откуда имя престранное Гомель? Плоты и лодки, плывя по реке Сож, на берегу которой возведено это древнее поселение, могли сесть на мель. Караульные предупреждали плывущих на ладьях: «Го! Го! Мель!» Так и повелось называть это место Гомелем.
– Вы серьёзно?.. Похоже на сказку, – княгиня спрятала улыбку.
– Я тоже в это слабо верю… Кто-то считает, что название города произошло от древнеславянского слова «гом», что означает «холм». Есть и предположение, что название поселению дала речушка Гомеюк, которая впадает в реку Сож. Русло этой древней речушки возле нашего дворца проходит, его преобразовали в лебяжий пруд…
– А я догадываюсь, что Вас не устраивает ни одно из трёх предположений, – лукаво улыбнулась Ирина Ивановна, зная, что Фёдор Иванович больше доверяет сложным вариантам.
– Изложу, к чему, поразмыслив, пришёл сам. Есть древнеславянское слово «го», оно означает некую высшую силу. Так вот, «гомий» и «гомье» – так называлось место, где можно ощутить это «го», другими словами – «место силы».
Теряясь в догадках о причине некоего смятения на лице супруги, Фёдор Иванович поспешил утешить её:
– Уверен, Вы не будете разочарованы. Да, город не раз был охвачен пожарами. Однако его и Румянцев отстраивал, и батюшка мой Иван Фёдорович (почёт и слава, царствие им небесное) премного успел, чтобы обустроить сей город. И потом: Гомель полон удивительных историй и старинных легенд…
От отца, да и из книг Фёдор Иванович знал, что в ходе русско-польской войны, ещё в середине XVII века, город подвергался нападению казацкого отряда Ивана Золотаренко. Осада замка была героической. Несмотря на обстрелы из пушек и голод, защитники отвергали предложения сдаться, которые им посылали от имени русского царя и Богдана Хмельницкого. Сложили оружие, только когда казаки нашли и взорвали потайной ход к воде. Управляющий гомельским имением рассказывал, что с незапамятных времён подземные ходы ведут не только к реке, но и под реку.
– А эти подземелья ещё остались? – спросила юная княгиня.
На что Фёдор Иванович, чуть улыбнувшись, ответил:
– Крутые склоны остались, а в них потайные ходы.
«Моей романтически настроенной супруге эти сведения будут интересны. Возможно, она подольше задержится в Гомеле». Воодушевившись, Фёдор Иванович продолжил:
– А ведь Гомель создавали лучшие люди Российской империи. Прежде всего следует благодарить Екатерину Великую, которая в 1772 году подарила «для увеселения» «деревню Гомель» в пять тысяч душ фельдмаршалу графу Петру Александровичу Румянцеву. Он обнаружил, что подарком оказалась вовсе не деревня, а торговый городок на берегу полноводной реки Сож и хорошо укреплённый замок, оставшийся от последнего старосты – князя Михаила Чарторыйского. Вот и пожелал Пётр Александрович воздвигнуть вместо замка дворец в новомодном классическом стиле. Строительство его начали в 1777 году. В качестве архитектора был приглашён, видимо, Иван Егорович Старов – автор многих зданий в Санкт-Петербурге.
– А правда, что Пётр Александрович Румянцев был… незаконнорождённым сыном Петра Великого?
Фёдора Ивановича не удивил этот вопрос: он знал, что в салонах обсуждались и не такие пикантные подробности. И князь ответил:
– Предполагается, что он внебрачный сын самого Петра I и юной графини Марии Матвеевой. В пользу этого говорит многое: Екатерина Великая оказывала Петру Румянцеву царские почести, баловала его дорогими подарками, в числе которых был и Гомель. Скажу даже…
Фёдор Иванович чуть поколебался, но, зная интерес молодой княгини ко всему загадочному, продолжил:
– Возможно, Вы уже слышали об этом: на всех Романовых, на потомков Петра I, наложено смертельное проклятие. Оно коснулось и рода Румянцевых.
– Проклятие? – переспросила княгиня, и по её лицу пробежала тень страха.
Супруг посетовал, что затронул эту историю. Но деваться было некуда и он поспешил успокоить княгиню:
– Пётр Александрович Румянцев отличался не только успехами в батальных сражениях – он преуспел и на ином фронте. Помимо трёх законных сыновей, у него было ещё пятеро незаконных детей. Казалось, всё предвещало Румянцеву надёжное продолжение рода. Не тут-то было. После смерти фельдмаршала всё его наследство, в том числе и гомельское поместье, перешло к его сыну Николаю Петровичу. Но он был холост и не имел детей, как и его родной брат Михаил. У третьего брата, Сергея, дети были. Но… незаконные три дочери, которые не могли носить фамилию отца и наследовать имение. Так в 1838 году со смертью последнего сына фельдмаршала исчез великий русский дворянский род Румянцевых. А почему Вас сие взволновало?
– Всякий раз, когда слышу подобные истории, удивляюсь, какую странную силу имеет слово. Проклятие… Всего-то набор звуков. А в них магия. И постигнуть сие нам не дано.
Смутная улыбка озарила лицо княгини, а Фёдор Иванович с лёгкой иронией продолжил:
– Так или иначе, в венах Румянцевых текла царская кровь. Перечисление всех заслуг перед Отечеством сына фельдмаршала, Николая Петровича, тоже заняло бы добрую книгу. В переписке с ним были знаменитые умы Европы Вольтер и Дидро. Именно Николай Румянцев, сразив Бонапарта остротой мысли, обеспечил подписание Тильзитского мира. Но после светлой полосы следует тёмная, за мирным договором непременно следует война. Поход французов на Москву Николай Петрович не перенёс: его разбил удар, он выпросил у императора отставку и удалился в полюбившийся ему Гомель. Для города это стало началом «золотого века».
Фёдор Иванович и себя относил к знатному роду, представители которого тоже творили Историю. Рассказывать о занимательных сюжетах, касательных вотчины, доставляло ему истинное удовольствие:
– Гомель богател на глазах, превращаясь в город европейского покроя. Николай Петрович Румянцев закончил строительство дворца, наполнив его сокровищами: картинная галерея чего стоит. В Гомеле была только часть богатейшего книжного собрания, а ещё в Петербурге библиотека насчитывала более двадцати восьми тысяч томов. Этой библиотекой по праву гордится вся Россия! В ней были даже книги, напечатанные Иваном Фёдоровым! Кстати, выделив деньги, он оказал поддержку и первому кругосветному плаванию Крузенштерна и Лисянского на кораблях со славными именами «Нева» и «Надежда», а также кругосветной морской экспедиции Коцебу на корабле «Рюрик».
Ирине Ивановне было приятно слушать супруга: такими длинными разъяснениями в силу своей большой занятости Фёдор Иванович прежде не удостаивал её. Хотя, конечно, многое о Румянцевых она уже знала.
Особняк Румянцева в Петербурге был известен далеко за его пределами. При жизни Николая Петровича его собранием исторических артефактов и книг широко пользовались учёные и литераторы. Согласно завещанию, его наследие перешло Петербургу и стало городским музеем в 1828 году. Пять лет спустя музей и библиотеку передали в ведение Министерства просвещения, а в 1860-м Румянцевский музей перевели в Москву, где книжное собрание послужило основанием крупнейшей российской библиотеки, а картины и коллекцию монет принял Московский музей изобразительных искусств.
– Несомненно, Румянцев много сделал для Гомеля: был возведён мост через реку Сож, открылись несколько заводов. Благодаря Николаю Петровичу город его мечты преобразился. От главной площади, от дворца лучами отходят три главные улицы. А на площади – гостиный двор, ратуша. Румянцев щедро тратил деньги на строительство храмов. На главной площади возведены православный собор в честь святых Петра и Павла, католический костёл и даже еврейская синагога: в городе много евреев. Вы залюбуетесь, центр нового Гомеля напомнит Вам Париж.
– В этом нет преувеличения?
– Ничуть. Ведь в центре Парижа что? Копия римских архитектурных шедевров: Пантеона и церкви святой Женевьевы. В Гомеле по образу и подобию – будете лицезреть костёл святой Екатерины и Петропавловский собор.