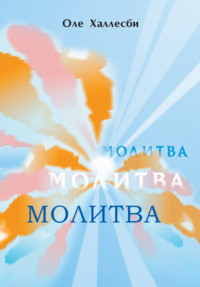Kitobni o'qish: «Молитва», sahifa 2
Позвольте мне кое-что добавить к вопросу о беспомощности в молитве.
Ее можно ощущать по-разному. Особое воздействие она может оказывать на наши чувства. Как правило, мы ощущаем свою беспомощность глубже всего на первых ступенях нашего христианского опыта. В тот период, когда Господь делает нас кающимися и смиренными (Ис. 57:15), когда Он сокрушает наше самолюбие и самомнение, наша эмоциональная сфера, вне всякого сомнения, будет испытывать серьезные потрясения. Не оттого, что мы узнаем много нового и неизвестного, а по большей части оттого, что многое кажется нам неприемлемым. Бог таков, что мы не способны полностью постичь Его. Он так велик, что ни одно из Его творений не способно воспринять Его во всей полноте.
Как упоминалось выше, в очень скором времени пробудившийся грешник начинает понимать, что пути Бога неисповедимы. «Почему я не получил мира, уверенности и радости? Почему Бог не избавит меня от того недуга, который я не в силах выносить? Почему Он позволяет мне тонуть в вечном мучении, хотя Он видит, сколь велико мое желание спастись? Почему Он ни единым словом не отвечает на крики боли, поднимающиеся из моей души?»
В спокойном состоянии мы способны перенести очень многое, если видим причину или цель своих страданий. Но то, что мы не способны понять и в силу этого считаем бессмысленным, более всего раздражает и делает нас мятежными. По этой причине важнейшим камнем преткновения на нашем пути к Богу становится именно Его непредсказуемость. Тут нам на помощь приходят слова Иисуса: «И блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф. 11:6).
По той же причине ни одно из проявлений Бога не сокрушает наше самолюбие и самомнение так, как это Его свойство. В первый момент мы оказываемся в положении человека, который вообще не знает, что делать. Мы не способны вернуться к своей прежней жизни и не можем найти путь к Богу. К тому же мы еще не научились подчиняться Тому, Чьи пути неисповедимы. В результате все наше существо бунтует.
Непостижимое всегда наполняет нас парализующим страхом.
Всякий, кто преодолевает этот страх и не убегает от Бога или от своего собственного сознания, кто останавливается в присутствии непредсказуемого Бога, тот встречается с чудом. Бог разрушает самолюбие и самомнение такого человека. Не понимая, как это произошло, беспомощная душа оказывается связанной узами дружбы с непостижимым Богом. Он Сам, во Христе, позволяет этой душе склониться перед Его непостижимостью, принять ее, опереться на нее и утвердиться в Боге, Чьи пути она не способна полностью понять.
Таким образом, в жизни грешника происходит событие, имеющее решающее значение. Он становится способным воспринять не только непредсказуемость Бога, но и свою собственную беспомощность.
До этого момента такие явления приводили все его существо в состояние бунта и напряженности, теперь же он на себе испытал, что беспомощность есть истинная мольба грешника к Богу. Не в чьем-то изложении, а благодаря собственному опыту он узнает, что младенец не более беспомощен по отношению к матери, чем он сам беспомощен по отношению к Богу. Он беспомощен по всем статьям: будь то прощение грехов, победа над грехом, новая жизнь его души, прибавление благодати или приобретение истинной веры в повседневной жизни с Богом и людьми.
Его беспомощность становится новым фактором в его молитвенной жизни. Прежде беспомощность была эпицентром бури в его молитвенной жизни и либо побуждала его к просительному плачу в его немощи, либо настолько замыкала его уста, что он не в силах был найти ни единого слова, чтобы выразить свои чаяния. Теперь же его беспомощность стала спокойной, надежной силой в молитвенной жизни. Смиренное и сокрушенное сердце знает, что у него нет никаких преимуществ перед Богом и что единственное, что ему остается, это принять собственную беспомощность и позволить святому и всемогущему Богу заботиться о нас; точно так и младенец отдает себя заботам своей матери.
Поэтому молитва состоит в том, чтобы изо дня в день говорить Богу о своей беспомощности. Нас подвигают к тому, чтобы мы постоянно молились Божьему Духу, Который есть Дух молитвы, заново открывающий нашу беспомощность, чтобы мы поняли, как мало дано нам от природы сил верить, любить, надеяться, служить, жертвовать, страдать, читать Библию, молиться и бороться со своими греховными желаниями.
Часто случается, что мы уходим от этого благословенного состояния беспомощности. Наши самолюбие и самоуверенность обретают свою прежнюю силу. Это приводит к тому, что мы вновь перестаем ощущать себя беспомощными. Мы теряемся и погружаемся в заботы. Все опять становится запутанным. Мы не уверены, что грехи будут прощены. Мир Бога исчезает из нашей жизни. Мирское сознание и недостаток духовной заинтересованности начинают разрушать нашу духовную жизнь. Грех снова одерживает победу в нашей повседневной жизни, и мы все менее охотно исполняем ту службу, которую обязаны нести перед Богом.
Это продолжается до тех пор, пока Богу не удается привести нас в состояние смирения и покаяния, и мы вновь становимся беспомощными грешниками, способными сделать лишь одно – позволить бесконечному Богу распространить Свою милость на нас, любить нас и заботиться о нас. В этот момент наша беспомощность восстанавливает в нас правильное отношение как к Богу, так и к человеку. Прежде всего она восстанавливает в нас правильный настрой во время молитвы.
Состояние беспомощности в молитве поразительным образом напоминает положение человека, у которого нет ног или который парализован. Сначала это болезненно, практически непереносимо быть столь беспомощным, чтобы не иметь возможности даже поднести ложку ко рту или согнать муху с лица. Легко понять, почему человек, терпящий подобные страдания, не может избежать внутренней напряженности и даже протеста в момент, когда он прилагает огромные усилия, чтобы использовать свои конечности как прежде.
Однако посмотрите на того же человека, когда он уже смирился со своей болезнью и привык к своей беспомощности. Он столь же беспомощен, как и прежде, однако эта беспомощность более не приносит ему боли или беспокойства. Она становится частью его самого и накладывает печать на все его действия и отношения. Он по-прежнему нуждается в помощи, и это делает его смиренным. Отметьте также, как это смирение наложило на него свою печать. Когда он смиренно и тихо просит о помощи, он делает это так, словно извиняется за свои просьбы. Отметьте также, сколь благодарен он за самую малейшую помощь, которую он получает.
Все его мысли и все его планы обусловлены его беспомощным состоянием. Он, конечно же, во всем зависит от тех, кто оказывает ему помощь. Мы замечаем, что это чувство зависимости преображается в исключительную симпатию между ним и теми, кто ему помогает, в сильнейшую привязанность, какая только возможна между человеческими существами.
Так же и наша беспомощность способна привязать нас к Богу и заставить нас испытывать сильнейшую зависимость от Него, которую невозможно выразить словами. Оживите в своей памяти слова Иисуса: «…без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). В одном-единственном предложении Он говорит нам истину, на постижение которой требуется вся жизнь и которую мы полностью не сможем постичь, даже подойдя к вратам смерти.
Я никогда не устаю подчеркивать, как мы беспомощны, потому что наша беспомощность остается не только решающим фактором в нашей молитвенной жизни, но и всего нашего отношения к Богу. С того момента, как мы осознаем свою беспомощность, мы становимся непобедимыми, никакая болезнь не огорчит нас, никакое препятствие не испугает. Мы не будем ожидать от себя ничего и в молитве обратимся со своими трудностями к Богу. А это означает, что мы открыли двери перед Ним и предоставили Богу возможность помочь нам в нашем беспомощном положении той чудесной силой, которая находится в Его распоряжении.
2. Вера. Теперь я перейду к другому аспекту, составляющему суть молитвы, – к тому состоянию сердца, которое Бог распознает как молитву, возносимую к Нему с земли, произнесенную вслух или нет. Написано: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6). Без веры не может быть молитвы, как бы ни велика была наша беспомощность. Беспомощность в соединении с верой порождает молитву. Без веры наша беспомощность будет лишь тщетным криком боли в ночи.
Стоит лишь упомянуть о вере, как всякий молящийся поймет, что мы касаемся одного из тех аспектов молитвенной жизни, в котором мы наиболее уязвимы.
В Библии много говорится о том, что надо молиться с верой, если мы хотим быть услышанными.
«Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: „поднимись и ввергнись в море“, – будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:21,22).
«Не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» (Ин. 11:40).
«Как ты веровал, да будет тебе» (Мф. 8:13).
«Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:6–8).
Эти слова столь многих молящихся повергли в отчаяние, столь многие почувствовали свою абсолютную неспособность к молитве. Это так очевидно, что тот, кто собирается молиться Богу, должен верить в Бога. Истинным богохульством будет обращение к Нему в молитве и неверие в то, что Он ответит на молитву.
Когда честный человек исследует себя в свете Писания, он обнаруживает, что в его молитвах не хватает именно веры. Писание говорит, что просить надо с верой, отбросив сомнения. А происходит как раз обратное. Человек сомневается перед началом молитвы, во время молитвы и по окончании молитвы. Он подобен морской волне: его увлекает и бросает туда и сюда ветер сомнений. Именно его называет Писание человеком с двоящимися мыслями, неустойчивым на всех своих путях.
Он немощен; он беспомощен; и он молится. Однако он не получает того, о чем молит, даже если он молится истово и часто и взывает к Богу в болезни, имея в виду как самого себя, так и тех, кого он любит. После такой молитвы в его душе зарождается тайная надежда: на этот раз, быть может, Бог услышит меня? Он настойчиво ждет ответа. Однако, увы, все остается по-прежнему.
Он чувствует, что Бог осуждает его молитву. Бог не может услышать его, потому что он молится без веры. Он молится сомневаясь. Увы, сколь легко проникает сомнение в нашу молитву! Оно делает нас напряженными и боязливыми в молитве, мы боимся согрешить против Бога самим своим молитвенным действием.
Мой сомневающийся друг, твое положение не столь плачевно, как тебе кажется. У тебя больше веры, чем ты думаешь. У тебя достаточно веры, чтобы молиться; у тебя достаточно веры, чтобы надеяться на то, что ты будешь услышан. Вера – странная вещь; часто она проявляется так, что мы не видим ее. И тем не менее она есть; она проявляет себя совершенно определенным и несомненным образом. Давайте кратко рассмотрим ее признаки.
Суть веры в том, чтобы прийти к Христу. Это самый первый, и самый последний, и самый достоверный признак, указывающий на то, что вера еще жива. У грешника нет ничего, кроме греха и боли. Дух Божий разъясняет это ему. И вера проявляет себя ясно и недвусмысленно, когда грешник, вместо того чтобы бежать от Бога и от своей ответственности перед Ним, как он делал прежде, предпочитает предстать перед лицом Христа со всеми своими грехами и всеми своими болезнями. Грешник, который поступает так, – верующий. Написано: «И приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).
Именно это сделали те люди, которые пришли к Христу и, прежде чем уйти от Него, услышали слова: «Вера твоя спасла тебя». Они всего лишь пришли к Иисусу и поведали Ему о своей болезни: физической, или духовной, или той и другой. Отметьте простой, но безошибочно определяемый признак живой веры: человек, в котором живет такая вера, видя свои чаяния, признает свою беспомощность и идет к Иисусу, говорит Ему, как плохо обстоят дела, и оставляет все на Его усмотрение.
Теперь мы можем сказать, сколько веры требуется нам для того, чтобы молиться. В нас достаточно веры, когда в своей беспомощности мы обращаемся к Иисусу. Это ясно показывает нам, что истинная молитва есть плод беспомощности и веры. Беспомощность становится молитвой в тот момент, когда вы идете к Иисусу и скромно и доверчиво говорите с Ним о своих заботах. Это и означает верить. Причина, по которой для молитвы не требуется ничего, кроме веры, кроется в самой природе молитвы.
Мы уже видели, что для молитвы нужно лишь просто открыть дверь, когда Иисус стучится в нее, и пригласить Его с чудесными силами подойти к нашей болезни и беспомощности. Это не значит, что наша вера поможет Иисусу выполнить наши просьбы. Он не нуждается ни в какой помощи; Ему нужно, лишь чтобы Его впустили. Не требуется также, чтобы наша вера направила Иисуса к нашей болезни, или сделала нас интересными Ему, или сделала Его нашим защитником. Он уже давно заботится о нас. И Он Сам заинтересован в том, чтобы получить доступ к нашей немощи и помочь нам. Однако Он не может войти, пока мы не «откроем дверь», то есть пока своей молитвой мы не дадим Ему возможность вмешаться.
Состояние сомнения и внутренней неопределенности, которое вы так часто переживаете в час молитвы, вы воспринимаете как неверие. Это результат непоследовательного мышления, которое, увы, встречается очень часто, однако для молитвенной жизни это состояние не представляет совершенно никакой опасности.
Неверие и сомнение – это совершенно разные вещи. Неверие есть атрибут воли и состоит в том, что человек отказывается верить, то есть отказывается увидеть свои собственные чаяния, признать свою беспомощность, прийти к Иисусу и смиренно и доверчиво поговорить с Ним о своих грехах и своей болезни.
Сомнения же – это беспокойство, боль, слабость, которые время от времени поражают нашу веру. Потому мы можем назвать сомнение болезнью веры, беспокойством веры. Такая болезнь веры может причинить больше или меньше боли и быть более или менее продолжительной, как и прочие болезни. Однако если мы способны взглянуть на нее как на страдание, которое было послано нам, она перестанет жалить нас болью и растерянностью.
Все страдания, которые посылаются нам, в результате служат нашему благу. Таково же и страдание веры. Оно не столь опасно, как нам кажется. Оно не приносит вреда вере или молитве, оно лишь способствует тому, чтобы мы чувствовали свою беспомощность. А беспомощность, как мы уже говорили выше, – это психологическая сила, поддерживающая и приводящая в движение молитву. Ничто не усиливает нашу молитву так, как чувство нашей беспомощности.
Эти мысли, на первый взгляд, противоречат положениям Писания, приведенным выше. Писание категорически утверждает, что молящийся с сомнением не может быть услышан. Однако эти положения нельзя рассматривать в отрыве от их контекста. Нам следует сравнить их с другими местами Писания, проникнутыми той же мыслью. Специального рассмотрения требует рассказ, изложенный в Мк. 9:14–30. Пока Иисус и трое из Его двенадцати учеников переживали преображение, виденное на вершине горы, к оставшимся ученикам некий человек привел мальчика, одержимого бесами. Ученики не смогли изгнать из него злого духа. Иисус вернулся, и отец привел ребенка к Нему. Он рассказал Ему, как долго ребенок пребывает в таком состоянии и как велики его страдания. Затем он добавил с болью: «Если ты можешь сделать что-нибудь, то пожалей нас и помоги нам». На это Иисус ответил: «Если ты можешь. Тот, кто верует, способен совершить все что угодно». Человек, казалось, почувствовал серьезность слов Иисуса и воскликнул в отчаянье: «Я верую. Помоги Ты моему неверию!»
Мы видим здесь типичный пример сомневающейся веры. В данном случае сомнение, как обычно, идет двумя путями: один связан с Богом, другой – с верой. Человек говорит буквально то, что он чувствует: «Если ты можешь сделать что-нибудь, то пожалей нас и помоги нам!» Он не полностью уверен, что Иисус способен помочь ему.
Когда Иисус противопоставил его скептицизму в данном вопросе резкие слова о вере: «Если ты можешь! Тот, кто верует, способен совершить все что угодно», – этот человек полностью сдался. Он почувствовал истинность слов Иисуса, однако почувствовал также, что его вера подводит его. В тот момент на карту было поставлено все. Однако он не знал, что же еще можно сделать, кроме как сообщить правду о том, как вера и сомнение борются за обладание его душой. Поэтому он говорит: «Я верую, помоги Ты моему неверию».
Очень важно отметить здесь, что он использует слово «неверие». Он сам называет свое сомнение неверием. Именно так всегда поступает тот, кто истинно верует; он судит себя строго и немилосердно. Однако нам следует отметить, что думает Иисус по поводу этого сомнения, этого неустойчивого шаткого состояния. В Его глазах это была вера. Это совершенно очевидно, ибо Иисус исцеляет мальчика. Если бы сомнение отца действительно было неверием, Иисус не смог бы исцелить ребенка. Это ясно из ст. 23, а также с исключительной ясностью звучит в Мк. 6:5,6: «И не мог совершить там никакого чуда… И дивился неверию их».
Здесь мы видим, какой слабой, неустойчивой, колеблющейся может быть вера. Заметьте, что вера в момент молитвы назвала себя неверием. И все-таки это была вера. Ее было достаточно для того, чтобы Иисус смог совершить одно из Своих величайших чудес. Ученики ведь тоже пытались исцелить мальчика, однако им это не удалось.
По какой же причине зов такой слабой, неустойчивой и полной сомнений веры мог быть услышан? Потому что там присутствовала самая суть живой веры: зов был обращен к Иисусу. Человек поведал о своей боли Иисусу. Он признался в болезни своей веры, сказав Иисусу, как полна она сомнений.
Понимание природы молитвы и веры, которое есть у нас теперь, должно, без сомнения, упростить нашу молитвенную жизнь и сделать ее легче.
В первую очередь нам стало ясно, что ответ на молитву зависит от наших эмоций или наших мыслей до, во время или после молитвы. Пример с несчастным отцом из Мк. 9 демонстрирует нам это с полной ясностью. На его эмоциях ничего нельзя было построить ни до, ни во время, ни после молитвы. Положение казалось безнадежным. Ученики пытались исцелить его сына, однако им это не удалось. Затем пришел Иисус. Он настаивал, что нужно верить. Когда несчастный отец воскликнул в отчаянье «Я верую, помоги Ты моему неверию», он, по моему убеждению, чувствовал, что все пути для него закрыты.
Его мысли давали ему столько же надежды, сколько и его чувства. Он сообщил нам кое-что из того, о чем он думал: «Если Ты можешь сделать что-нибудь». Он вовсе не был уверен, что Господь способен сделать больше, чем Его ученики. А когда из слов Иисуса он понял, что это в какой-то мере зависит от него самого, от его веры, он пришел в еще большее отчаяние. Он почувствовал, что он словно бы колеблется между верой и неверием.