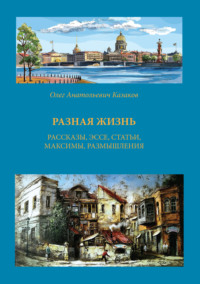Kitobni o'qish: «Разная жизнь», sahifa 3
Дорога от кладбища кораблей
Я шёл по возвышенной части острова. Сейчас мне кажется, что она похожа на хребет динозавра.
Это дорога от кладбища кораблей к маяку. День солнечный и тёплый. Море мерцает ласково. Оно исцеловано солнцем и нежится. Небольшую добродушную волну гонит мягкий южный ветер. Волна набегает на кромку острова, словно гладит его. На сердце – добрый покой. Мне без малого двадцать лет. Всё в порядке, да и служить осталось недолго…
Весь, или почти весь, остров покрыт измельченным в мелкую мелочь ракушечником. Это природа постаралась. При сильном ветре эта крошка взметается и больно колет лицо… Сильный, сердитый ветер бывает здесь северо-восточный – знаменитый норд-ост!
Тогда не ходит баржа, и могут начаться проблемы с хлебом (пользуем сухари), сливочного масла не жди. В худшем варианте – проблемы с водой (пресной, разумеется). Мне довелось видеть при затянувшемся шторме, как наполняют водой объёмистую резиновую ёмкость, около неё – кружка. Назначают порцию. Ставят вооружённого часового. В крайнем случае, воду доставляет с «берега» боевой катер, которому в шторм – по силам.
Как-то раз неподалёку от дороги, где сейчас пролегал мой путь, я нашёл человеческий череп. Здесь были развалины блиндажей, или бункеров, или… Осколки развалин бепорядочно-угловатой формы торчали в скалах среди толченого ракушечника. Говорят, что когда-то на этом острове содержали пленных и каторжников. И, конечно, расстреливали. Слыхивал я, что и черепа здесь иногда «выкатываются». Вот один из таких я и обнаружил; он подкатился мне под сапог, когда я полез в развалины. Полез я – так, из «культурного» любопытства. Подкатился ли череп «просто так», или то был «знак» некий – не знаю.
Он был серого, немного разбавленного жёлтым, цвета. Без нижней челюсти. Я принёс его в свою каптёрку и поставил на рабочий стол. Так он там и пробыл до самого конца моей службы, наблюдая мои поэтические опыты и, может быть, соучаствуя в моих довольно путанных и похожих на мечты, размышлениях. В общем, мы ладили. Окно каптёрки выходило на море…
И вот, я шагаю по хребту динозавра – беззаботный и безмятежный. Любуюсь игрой мелких искристых волн в солнечных лучах. Но, прямо на моих глазах, что-то стало меняться. Волны внезапно пришли в смятение, закипели. И побежали туда, откуда прибежали – к югу, размахивая белыми ажурными платочками пены. Правая моя щека явственно ощутила тугой и отчётливый удар северо-восточного.
Я повернул голову. Над белыми контурами города, просторно лежащего на горизонте, поднимались тёмно-серые тучи и шли они по небу к острову, к белой стройной башне его маяка. Темноватые, тяжёлые глыбы вставали из воды, окинутые белыми оплечьями, и шли неукротимо на ноздреватые скалы острова.
Всё происходило так вдруг, так резко, неожиданно и стремительно, что поначалу казалось не очень настоящим, «павильонным», что ли… Однако следующий порыв ветра заставил меня сойти с «хребта». Я наискось, немного пригибаясь, побежал по направлению к нашей позиции. Уже раздавался рёв и грохот волн, обрушившихся на скалы. Ветер выл, распарывая себя об углы техники и строений… Я бежал вдоль позиции по направлению к своей каптёрке. Вот и строение из розово-серого кирпича, первые двери, вот ещё один вход… А вот и дверь. Висячий замок. Ключ в кармане штанов. Замок проворно сброшен, дверь – на себя. Ия – в неяркой тишине. Стеллажи с инвентарём, несколько репродукций из «Огонька» приколото к боковинам. Стол, милый, добрый стол. Самодельный жестяной «шандал» с самодельной же свечой, тетрадки, две-три библиотечные книжки, инструкции, описания. Череп. Он был, бесспорно, отдельным объектом.
Я сел к столу перевёл дух, повернулся и взглянул в окно. Море с этой стороны острова убегало на юг, став почти одного мрачноватого цвета с небесами. Довольно заметная полоска вдоль берега, была обнажена ветром – он согнал воду…
Мне не так уж мало пришлось поездить по свету, жил я в разных краях и не единожды доводилось наблюдать и на себе испытывать резкую неожиданную смену погоды – от идиллически-тихой до гневно-буйной. Но, наверное, ни разу я с такой отчётливостью не увидел в этом образ жизни, судьбы – отнюдь не только моей…
Только – ох! – не всегда рядом есть каптёрка.
Баку-Торопец, 2016
Мы будем людьми
– У тебя красивая рубашка – в полоску…
– Я люблю в полоску…
– Это признак интеллигентности…
Удлиненные мечтательные светло-ореховые глаза. Даже в ночной тьме на плохо освещенной набережной их цвет различим. Река упруго шумит. Время от времени на её черном, непроглядном пространстве вскипают белые просверки. На небе нет звезд.
– Можно, я тебя поцелую? Ты очень красивая?
– Ты что, дурак?! Давно надо было меня поцеловать.
* * *
Несмотря на знойный август, становилось холодновато. Ветер, несущийся от истоков реки, откуда-то с дальних снежных вершин, становился все ощутимее. Надвигалась гроза.
– Пойдем отсюда. Я хочу тебе что-то сказать.
Они стояли на самой нижней ступеньке лестницы, которая спускалась к реке. Вода накатывала, оставляя нетронутыми два-три сантиметра до их ног. Еще раз поцеловались. Эх, знали бы они, что и это – грех. Хотя, что бы это изменило? Они не знали об ангелах, грехах… Они были – сами по себе.
Горы собирались на западе и словно надвигались на город – черные и в черноте своей невесомые. Тьма лишила их веса.
На набережной ни одного человека. Памятник. Статуя на высоком пьедестале. Человек в пенсне с высокой прической-«коком».
Они прижимаются к прохладному пьедесталу, и:
– Слушай, клянусь Тебе, вот здесь клянусь, я не умру, не умру неизвестным!
Горы как тучи, или тучи как горы готовились двинуться через реку – с того берега.
– Я верю в тебя… Я так верю в тебя! Хочешь, я тебе скажу… Я тебя люблю! У тебя рубашка в полоску. А когда вот это платье мне шили, я думала о тебе. Как хорошо, что ты уже вернулся и жив…
– Я верю тебе.
– Как тебя долго не было. И чем все это кончится?
– Наши имена очень похожи…
– Дурак, у нас одно имя. Одно имя и одна жизнь. Не в том смысле, что обязательно совместная…
– Поцелуй меня.
Целоваться. Целоваться. Целоваться.
– Скорее бы первое сентября. Я очень хочу, чтобы началась учеба. Университет. Я учиться хочу!
– Да я и сам, я сам очень хочу учиться!
– Давай прижмемся крепче к этому пьедесталу. Этот человек поможет, ты ведь согласен. Его ведь женщина любила юная, верная, великая… Знаешь, у меня никого нет дома и сегодня не будет. А сейчас – сейчас будет гроза. Пошли!
* * *
Ринулись. По переулкам, через проспект, сквозь светящиеся шторы фонарей. Бегут.
Шагов двадцать оставалось до её подъезда. Гром разорвал вселенную на куски. Вселенная вспыхнула молнией. Отверзлись небеса. И в считанные секунды они промокли насквозь. Но вот и подъезд. И комната.
– Я не буду включать свет.
– Конечно, не надо.
– Вот кровать, снимай всё.
– Ты тоже.
– Конечно. Но мы будем людьми. Подожди. Я развешу. Все мокрое.
Оба были наги. И не стыдились. И целовались. И стучала кулаком в оконные переплеты гроза. Надо, обязательно надо целоваться.
Она встала, чтобы понюхать цветы на столе. Нагая. Впрочем, не было видно наготы. Некий светлый изгиб, загадочный знак, ласковая, гибкая линия сквозь тьму.
Что удержало их от окончательного греха?
Неведомо. Они не знали об ангелах, как о реальности, не просили у них помочь, удержать страсти…
– Мне радостно…
– Тебе пора домой. Дождь кончается.
– Дождь кончается.
Санкт-Петербург, 1998
Сражение
По древней горской притче
Высоко в горах, на изумрудных склонах, среди пронизанных ласковым солнцем лесов, где звенят сверкающие стремительные реки, было в древние времена княжество.
Благоукрашенное и благоустроенное было княжество. Свобода и любовь светились на добрых лицах его жителей.
Ни щедрыми урожаями не обделил княжество Господь, ни погожими ясными днями.
Рождались дети здоровенькие; плакали, конечно, при рождении, как и полагается человеческим детям. Но уже потом все больше улыбались да радовались. Да и как не обрадуешься, особенно весной, когда нежнейшим цветом расцветает миндаль, а потом на изумрудных склонах вспыхивают алые маки.
Хорошо жилось в этом княжестве!…
Правила им Княгиня-Владычица, прекрасная и мудрая. Был у нее искуснейший военачальник. В груди его билось неустрашимое сердце, и ясный разум предугадывал все козни противника.
Имя Владычицы… Нет, не будем называть ее имени. А имя военачальника было Гавриил.
Стремительный, могучий, непобедимый военачальник! Враг и на двести верст не мог и не смел приблизиться к границам княжества. И не знало княжество беды. Не знало…
Однако, случилось все же так, что некий противник, будучи чрезвычайно изощрен в коварстве, сумел обмануть Гавриила, внезапно и дерзко двинул в бой свое вышколенное войско. И… проиграл Гавриил битву. Двинулся противник дальше к границам княжества, а Гавриил в ошеломлении, пытался собрать новые силы, не зная, что делать. Однако любой ценой надо было исправлять положение. А как?!..
Горестные вести летят быстрее радостных вестей. И дошло до Владычицы известие, что побежден ее военачальник и пребывает в растерянности… А ведь княжество в опасности!
Встревожилась Владычица, нахмурилась. Тут же без промедления послала гонцов, чтобы быстрее быстрого прибыл Гавриил к ней и держал ответ.
Оседлав коня лихого, испытанного, полетел Гавриил. По горным тропам летел, над самыми безднами. Жизнью рисковал, не смея длить ожидание Владычицы.
Спешился у лестницы дворцовой. Повели его стражники через роскошные покои, изысканно украшенные коридоры – в Тронный зал. Встретила его Владычица, лицо ее прекрасное – сурово, в глазах ее – не то чтобы холод, но царственная, вопрошающая прохлада.
Упал на колени Гавриил, безмолвствует. Ждёт.
Раздался голос Владычицы.
– Слыхала я, что воевал ты, Гавриил.
– Воевал, Владычица, – ответствовал воин, не поднимая головы.
– Слыхала я, что и сражение было, Гавриил.
– Было сражение, Владычица.
– И выиграл ты сражение, Гавриил?
– Я проиграл, Владычица…
– Какой же тогда был смысл в этом сражении, Гавриил?
Не сразу ответил воин. Задумался.
И приподняв голову, произнес тихо:
– В сражении всегда есть смысл, Владычица…
И отпустила его с миром Владычица. И остался он военачальником. И отбит был враг.
Тбилиси – Санкт-Петербург, 1990
Плач
Почти притча
Ласковая весна. Цветные, яркие, легкие облака – облака благоуханные. О, первая, чистая, невозбранная и невозвратная любовь моя! Ты и сейчас, когда столько лет прошло, когда столько морей и столько седины между нами… Ты и сейчас, я знаю, плачешь обо мне. Обо мне ты плачешь. Я в ту весну – предал тебя.
На нежно зеленых склонах, разубранных алыми маками, в садах, где расцветшие ветви осеняли трепетной ароматной тенью наши лица, совершил я предательство. Не желал становиться предателем. Почему-то – бесцельно, безвозмездно, бессмысленно – предал! Что было нужно мне? Чего искали мои ослепленные глаза, и что произносил мой глупый, никчемный, лживый язык! Но лгал ли он о любви, о верности?! Нет ведь, не лгал… Не лгал?! Нет…
Но словно кто-то тайно смотрел за мною, нашел слабину во мне; оказался я годен, подошел я ему. И родилось предательство – словно само по себе, словно кто-то мною его совершил. Не на снежных равнинах, скованных холодом, не под ножом или топором по-настоящему предают. По-настоящему предают в весенних садах. Так было с Адамом и Евою в Эдемском саду в весеннем месяце Нисан… В саду Божественной весны человек обручился со смертью – предал любовь.
О, как мне хотелось бы теперь, первая любовь моя, взять на себя все твои… все твои беды и напасти! Как хотелось бы в час казни положить на плаху свою голову вместо твоей! Но кто сказал, что я сделаю это, если я оказался не готов сделать это тогда?
Ты так милосердна, так сострадательна, что не сожгла еще мои глаза бессонницей, и душа моя еще в теле моём. Но рухнули все дела, все начинания мои, рухнула жизнь моя! Разрушилось что-то внутри меня. И не ты все это рушила, но тем предательством рушится все.
О, первая любовь моя, чистая, невозбранная, невозвратная, я знаю – ты прощаешь меня. Прощаешь… Но вместит ли грешное, жалкое, тесное, трусливое моё сердце величие и свободу твоего прощения? И как мне покаяться, чтобы расширилось сердце мое? Как мне покаяться, чтобы сердце стало – как должно быть – безбрежным?
И пригодны ли слезы мои, чтобы плакать о тебе, о, чистая любовь моя…
Санкт-Петербург, 2003
Искушение парикмахера
Холодный непогожий день. Ветер лупит по кровлям заводских цехов. Громыхает железо. Ветер называют в городе Суб (п) – Саркис, в словаре: Тифлисский Норд-Ост.
Рабочий день кончился. Завод притих. Только жёстко шваркает большая гильотина во дворе. То ли гильотинщику домой идти неохота, то ли побольше заработать решил, то ли то и другое вместе.
За окном маленькой конторки цеха, забранным решёткой, разносится ветром светло-серая струя пара из дырявой трубы, и гнётся чахлая акация… Это всё, что помещается между окном и красной кирпичной стеной завода.
В конторке тепло. Только что вошёл Сергей – старший наладчик и принёс колбасу, сыр-сулугуни и горячий хлеб-лаваш. Всего – вдоволь! На столе – несколько бутылок недорогого, но вполне доброго ординарного вина. Старший мастер сидит за столом, ОТК Тенго присутствует и ещё из механосборочного цеха мастер появился – Джумбер.
Конец квартала: чуть-чуть отмечают… Ну выпили. Ну закусили. А разговоры-то о чём? Опять завод. Вот, ещё немножко выпили… И уже пошли какие-то истории, а то и притчи. Разговор неторопливый, необязывающий… – для души, для беседы. И вот старший мастер, человек уже пожилой, стал рассказывать:
– Я одно время, лет тридцать назад, ходил в парикмахерскую, что у… ского базара.
– Знаменитый базар… – ОТК уважительно покачал головой.
– Во-от, и ходил я к одному и тому же мастеру. Имени не помню, а если бы и помнил… Зачем оно? Скажу вам: подстригал он замечательно, но брил… Это просто слов нет! Выходишь от него: лицо чуть-чуть горит, свежее; кожа радуется. Какие порезы?! Какое раздражение?! Мастер был, да и только. Сейчас, где таких возьмёшь?
Да… Ну, в общем, прихожу я как-то в эту парикмахерскую. Нет мастера. Другой раз прихожу – нет. Где, – спрашиваю, – такой-то? Уволился, – говорят. – А в чём дело? – Не знаем, – говорят, – то ли в семье что-то, то ли другую работу нашёл.
Ну, что тут сделаешь…
И вот, проходит год, или больше и захожу я как-то с приятелем в хинкальную на Воронцовском. Ох и хорошие там хинкали были!
– До сих пор! До сих пор хорошие! – Возгласил наладчик – Старое место! Хорошее место!
– Народу было там не так уж мало. Взяли мы с приятелем хинкали, пиво, ну, по сто грамм, и – к столику, за которым всего один человек сидел. Смотрю, а это – парикмахер тот самый! Здравствуй, говорю, уважаемый! Куда ты исчез? У меня с тех пор физиономия, как болванка нешлифованная. Но вижу: грустит он. Стаканчик перед ним, 3–4 хинкали в тарелке, явно остывшие… Я даже как-то осекся, приумолк. «Извини, – говорю, – если что не так.» Кстати, мой приятель тоже его знал.
– Нет, – отвечает, – дай Бог тебе здоровья. Только я больше не парикмахер. Складской работник я теперь. С накладных и фактур «щетину снимаю». На хлеб хватает. Нельзя мне больше парикмахером. И даже хочу сказать, почему. Не всем рассказываю, но вам почему-то хочу рассказать…
С некоторых пор (когда я еще работал парикмахером) стало у меня желание возникать: клиента по горлу – бритвой… И какое желание! Не дай вам Бог что-нибудь похожее почувствовать. Начал бояться уже, что всё-таки резану. Рука сама пойдёт, хочу я сам этого или нет. А кому расскажешь? К врачу пойти – в сумасшедший дом засадит. Мне и моей семье, вот только этого не хватало. Короче, один раз у меня рука всё-таки дрогнула. Маленьким порезом обошлось… Клиента я утешил, ублажил. Но в тот же день заявление подал: по собственному… А ведь я работу свою любил! Э-э, и клиенты меня любили. Что вспоминать…
– Ну… Поговорили мы с ним о том, о сём, выпили немножко и расстались. Больше я его не встречал.
После некоторого молчания ОТК сказал:
– Да… наверное, в каждом деле может что-то такое найтись, отчего ум за разум заглянет.
– Конечно, – согласился старый мастер. – Только само дело ни при чём. Это с человеком что-то начинается. Кто его разберёт?.. Наливай, Шота, – обратился он к наладчику. – Давайте выпьем! Чтобы сегодняшний ветер нам ума прибавил!
– Во-о! Дело говоришь!
Тбилиси – Санкт-Петербург, 2003
Старик
Терентий вышел за окраину города и стал подниматься вверх по тропинке. Горы вокруг были покрыты невысоким лесом, уже сильно осыпающимся, наполненным шорохами и ароматом осенней листвы. Щедро струился сквозь ветви свет осеннего, ещё тёплого, солнца. Тропа была довольно широкой; круто изгибаясь то вправо, то влево, она вела вверх. Время от времени попадались кусты кизила. С одного из них Терентий сорвал несколько ягод, их резко-кислый вкус был ему приятен. Хотелось забраться куда-нибудь подальше, присесть в уединении и хоть немного отвлечься от житейского кошмара, который терзал его уже не первый месяц, а сейчас всё зашло в такой тупик, что он уже просто не в состоянии был ни соображать, ни действовать. Встал утром и вместо того, чтобы идти по срочным делам и предпринимать что-то экстренное и неотложное, искать нужных людей и т. д., вышел из дома, увидел с облегчением, что его никто на улице не поджидает… Чуть ли не бегом поспешил на остановку. Вскочил в автобус и поехал – на конечную остановку, на окраину. Ни планов, ни намерений у него никаких не было, просто хотелось идти, идти… И до скрежета зубовного не хотелось возвращаться. Он действительно был замучен передрягами, из которых уже выхода не видел. Хотя, было, конечно, ясно, что вернуться придётся. Не в абреки-разбойники же подаваться и не в отшельники-скитальцы. Да и семья…
Тропа вывела на гребень горы. Внизу в котловине лежало небольшое продолговатое озеро – огромный, но воздушно-лёгкий, продолговатый лепесток лазури в обрамлении медно-жёлтой, золотой и зелёной растительности. На берегу было всего несколько человек. Он только-только загляделся на всю эту красоту, как вдруг шевельнулась знакомая, частая и всегда вызывающая досаду мысль. Ну почему родители дали ему такое малоупотребительное имя?! Что им вдруг вздумалось. Он несколько раз ссорился из-за этого с ними, кричал, грозился поменять паспорт. Однако они не давали (или не могли дать) никакого определённого объяснения. А теперь их уже и вовсе нет на этом свете. Паспорт он так и не стал менять. Решил остаться Терентием.
Терентий, спустился в ложбину, немного пройдя по ней, снова пошёл вверх и, перевалив через невысокую, довольно пологую гору, попал в уже действительно пустынное место.
Тропинки здесь тянулись узкие, он пошёл вниз по одной из них и набрёл на родник. Вода была чистая-чистая, по ней плавали, ниточки паутины, какие-то былинки, листья. Лучи солнца падали на родник, и листья высвечивались на хрустальной воде, словно неожиданные золотые блики. Терентий опустился на колени и попробовал воду. Она опалила губы и гортань холодом и свежестью, давно забытыми в пыльном городе. Напившись, Терентий огляделся и решил перевалить ещё за небольшой бугор и уж там где-то пристроиться посидеть, а может и полежать… За бугром открылась уютная, вся в солнечных пятнах, лощина. Терентий сел на землю на пологом склоне под деревом и призадумался.
Впрочем «призадумался» это не совсем верно. Мыслей определённых – никаких. Более того, он даже старался отогнать все мысли, о чём бы они ни были. Иногда в уме и сердце на минуту возникало некое свободное от мыслей пространство, и в этом пространстве, казалось, даже мерцает надежда.
Он опёрся спиной о ствол и поднял голову… На небе – два три кудрявых весёлых облачка. Чистая, умытая осенней свежестью лазурь открывалась в небесных глубинах. Он чуть опустил взгляд и поглядел на сине-фиолетовые очертания дальних гор.
– А вот, чего бы сейчас хотелось? – пронеслось у него в уме. – Ну вот, если бы мне какой-нибудь мудрец встретился и сказал, кто я, вообще, такой, и что мне делать, и как выпутаться, освободиться. Эй! Где только эти мудрецы?… Это была даже не мысль, а скорее – мечтание.
Солнце поднималось к зениту и становилось совсем тепло. Терентий расстегнул куртку и ещё раз огляделся. Теперь ему показалось, что место это очень открытое и если кто увидит его здесь, то вот так праздно сидящий человек может показаться странным и даже подозрительным. Но его это не смущало.
Двигаться не хотелось. Тишина словно обняла его сердце и утешала.
– Здравствуй, молодой! – послышался справа чуть надтреснутый хрипловатый, но приятный голос.
Терентий повернулся – спускаясь с противоположного склона, к нему приближался старик. На вид ему было лет семьдесят, может быть и больше. Но шаг достаточно твёрд. На спине он нёс вязанку хвороста. Потертая плотная куртка неопределённого цвета перепоясана. За пояс заткнут топор. Штаны заправлены в толстые шерстяные носки. Обут в калоши. На голове – чёрная суконная шапочка, из под неё выбиваются седые волосы; усы густые, желтоватые, на лице небольшая щетина.
– Здравствуйте, почтенный – откликнулся Терентий и, превозмогая лень, досадуя оттого, что и здесь покоя нет, заставил себя подняться перед старшим, и предложил помощь.
– О, нет, нет, – заулыбался старик; лоб его был чуть влажен, – свой груз я привык носить сам. А вот, если ты соизволишь сегодня стать моим гостем, большую любовь окажешь.
Терентий решил говорить напрямик:
– Простите, почтенный, но я совсем не могу сегодня с людьми разговаривать, хочется так, одному… Вы уж простите.
Между тем, поскольку старик, что-то продолжая говорить, не остановился, Терентию пришлось, хотя и неохотно, пойти рядом.
– Нет, никаких людей и не будет совсем, только я да ты. Это здесь, очень близко. Пойдём, я вижу, что тебе совсем не весело. Однако, пойми, человек для человека лекарством бывает.
– Неудобно…
– Пойдём, пойдём…
Терентий, не хотел никакого общения, но почувствовал какое-то особенное тепло, исходившее от старика, и, ничего не отвечая, пошёл рядом с ним. Они прошли лощину вдоль, повернули к западу, перевалили через небольшую горку, по ту сторону которой, оказалось, бежал тоненький чистый ручей. Немного пройдя по ручью, они вошли в редкий лесок и совсем скоро выбрались к небольшому домику. Участок, весьма малый, был обнесён жиденькой оградой, больше для обозначения, нежели для ограждения. Вошли на залитый ласковым солнышком двор. По правую руку под навесом был открытый очаг, а неподалёку под ореховым деревом стоял стол и две обычные деревянные скамьи. За этим столом могло поместиться от силы шесть-семь человек.
Старик предложил ему сесть, внёс вязанку под навес, потом вошёл в дом. Когда старик снова появился, в руках у него было деревянное блюдо с сыром и зеленью и круглый лаваш.
– Вот теперь помощь потребуется – весело проговорил он, улыбаясь в усы, – принимай. Терентий взял из его рук угощение и поставил на стол. Затем старик вынес большой кувшин с вином, маленькие глиняные чашки и фрукты – на деревянном чуть треснутом блюде.
– Чувствуй себя свободно, сынок, он округло повёл рукой, – вот, можешь моё «имение» осмотреть. У меня и сад есть, и огородик, и даже смоковница растёт. А хочешь, в сад пойдём, хочешь, в доме расположимся.
– Нет, нет, здесь лучше – запротестовал Терентий. Ему и вправду здесь нравилось. И всё происходило так неожиданно, само собою…
– Ну, что же, присядем. – Старик разлил вино по чашам. – То, что мы сегодня встретились – редкость. В ту лощину, хотя это совсем рядом с городом, редко кто забредает, а сюда ещё реже. Знаешь, такие встречи просто так не происходят. Другое дело, что мы, по неразумию, многому не придаём значения. Так вот, давай за встречу и выпьем. За встречу и за то, чтобы человек мог быть для ближнего лекарством.
Чаши были очень удобные и приятные. Старик неторопливо оторвал кусок от круглого лаваша, разделил его пополам и протянул половину Терентию. Тот поблагодарил, взял хлеб, взял с блюда сыр и зелень. И тут только вспомнил.
– Меня Терентий зовут, а Ваше имя почтенный?
– Георгий, – ответил старик после некоторого молчания, – налей-ка нам, сынок, ещё. Редкое сейчас, хорошее у тебя имя,
Терентий наполнил чаши.
– Сегодня день такой красивый, – продолжил старик, – давай выпьем за всех людей, и за тех, кто причинил нам зло и обиду, тоже выпьем. Но самое главное: за тех, кому сейчас трудно.
Терентий при последних словах внутренне слегка поёжился, но возражать не стал.
– Я вчера, – неожиданно для себя начал он, – странную старуху встретил – на улице в сумерках (почти темно уже) в городе. Иду сам по себе, о своём думаю.
Вдруг старуха седая, худая, вся в чёрном, поднимается со скамейки у каких-то ворот и кричит мне: «Гнусный ты, гнусный, и вся жизнь твоя гнусная!..» и ещё что-то. Я так опешил, что даже ничего не сказал и не спросил. Прошёл мимо.
– Хорошо сделал, что прошёл. О чём бы ты её стал спрашивать…
– Да, я чуть позже и подумал: может, больная… Что её слушать?
– Ты, сынок, на меня не гляди, – старик подобрал у стола белый камешек и вертел его в огрубевших пальцах, – годы мои уже… Ты наливай себе, пей. Тебе вино сегодня хорошо, полезно – в меру, конечно. Вообще это радость, что я тебя встретил. Сегодня у меня день значительный – и вдруг неожиданный гость – такое случайно не бывает!
Bepul matn qismi tugad.