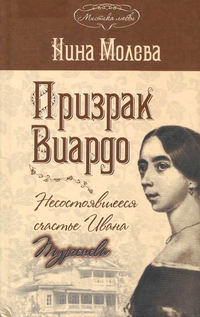Kitobni o'qish: «Призрак Виардо, или Несостоявшееся счастье Ивана Тургенева»
© Молева Н. М., 2008
© ООО «Алгоритм-Книга», 2008
* * *
Любовь даже вовсе не чувство – она – болезнь, известное состояние души и тела, она не развивается постепенно, в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она проявляется не всегда одинаково: обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли – ни дать, ни взять холера или лихорадка… Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка; и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся… В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения души и прочих идеальностей, придуманных немецкими профессорами… Нет, в любви одно лицо – раб, а другое – властелин и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь – цепь, и самая тяжелая. По крайней мере, я дошел до такого убеждения, и дошел до него путем опыта, купил это убеждение ценою жизни, потому что я умираю рабом.
Экая, как подумаешь, моя судьба-то! В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо… потом я пустился мечтать о благе всего человечества, о благе родины, потом и это прошло: я думал только, как бы устроить себе домашнюю, семейную жизнь… да споткнулся о муравейник – и бух оземь: да в могилу… Уж какие мы, русские, мастера кончать таким манером.
Иван Тургенев. Переписка. 1855 год
Прощание
Не успел… Вместо дома на Остоженке – грудки мерзлой земли в Донском. Припорох скупого снега. Пересвист синиц. Крик ворон в темнеющем небе. Узкие дорожки в сугробах. Доска – на будущее – «Под камнем сим покоится полковница Варвара Петровна Тургенева, скончавшаяся 16 ноября 1850 года. Жития ее было 70 лет. Мир праху ея»…
Может, брат Николай поторопился с похоронами. Может, еще мог день-другой подождать. Но в такой год как было ему знать, что после его депеши о болезни – только о болезни! – Иван бросается в дорогу, платя двойные прогоны из давным-давно отощавшего кошелька. Не станет останавливаться в пути. Не заночует. Петербург – Москва не ближний край: разве рассчитаешь. И все-таки главное – тот, невыносимый для памяти июльский разговор…
Он сам, пожалуй, не решился бы на него, в который раз подавил в себе горечь обиды и недоумения. Но брат – речь шла о нем, его семье, его детях. Николай во всем и полностью зависел от матери. Это она убедила его оставить службу, переехать в Москву, купила ему дом – и мышеловка захлопнулась. Варвара Петровна люто ненавидела невестку – свою недавнюю компаньонку, на которой осмелился жениться без согласия матери старший сын. Перенесла свою ненависть и на внуков. В семье останется суеверное представление, что отвергнутые бабкой – она даже не хотела их видеть, пускать себе на глаза – внуки были лишены ею права на жизнь: один за другим все они умерли в раннем возрасте. Но это со временем, а пока Иван любой ценой готов был им помочь.
В ту весну 1850 года Иван прощался с Парижем трудно и где-то в подсознании окончательно. Писал добрые слова. Одних сердечно благодарил. Перед другими почти извинялся за принесенные огорчения.
Полине Виардо: «Надо наконец устроить эти невыносимые семейные дела, которые тянутся за мной, как паутина на крыльях мухи, которую только что из нее вызволили. Это совершенно необходимо, и – так или иначе – я своего добьюсь. Все перипетии я вам в точности опишу. Вы позволите мне… поверять вам все, без исключения все, что я сделаю, что решу, что со мной случится. Мысль жить так, на ваших глазах, будет для меня очень благотворной и очень приятной».
Верил ли он в плоды собственной решимости? Виардо с ее жизненным опытом и практицизмом – конечно, нет. Единственный наглядный результат – встреча с собственной дочерью Пелагеей, прижитой от давно забытой им белошвейки, подрабатывавшей в доме Варвары Петровны. Варвара Петровна приютила ее среди дворовых, как и побочную дочь брата покойного мужа: дело слишком обычное. Иван потрясен сходством маленького забитого и всеми забытого существа с собственной детской фотографией и потому решает устроить ей совсем иную жизнь, вытащить «из крепостного омута». В этом Виардо сразу приходит на помощь. Девочку переправляют в Париж под покровительство семьи певицы. Думала ли великолепная артистка, что тем самым навсегда привяжет к своему дому отца, в знак признательности переменившего даже имя дочери: теперь она становится Полиной Тургеневой. И снова это в будущем, а пока следует письмо Полю Виардо, старому Полю Виардо, плохо скрывавшему свою неприязнь к ворвавшемуся в его и без того слишком сложную жизнь русскому красавцу.
«Париж. Понедельник, 24 июня 1850.
Я не хочу покинуть Францию, мой дорогой и добрый друг, не сказав вам, как я вас люблю и уважаю и как жалею о необходимости этой разлуки. Я увожу с собой самые сердечные воспоминания о вас, я сумел оценить высоту и благородство вашего характера и, поверьте, буду снова чувствовать себя вполне счастливым только тогда, когда опять смогу вместе с вами бродить с ружьем в руках по милым равнинам Бри. Я принимаю ваше предсказание; я хочу ему верить. Конечно, родина имеет свои права; но не там ли настоящая родина, где мы нашли больше всего любви, где сердце и ум чувствуют себя, всего лучше? Нет на земле места, которое я любил бы так, как Куртавель. Не могу выразить, сколь я был тронут всеми проявлениями дружбы, полученными за последние дни; не знаю, право, чем я их заслужил, но что я знаю, так это то, что, пока жив, буду хранить в сердце память о них. Вы имеете во мне, дорогой Виардо, безгранично преданного друга.
Ну, живите счастливо, желаю вам всего самого лучшего. Мы когда-нибудь еще увидимся; это будет счастливый день для меня, и он мне щедро воздаст за все ожидающие меня печали. Благодарю вас за добрые советы и крепко Вас обнимаю. Будьте же счастливы, добрый и дорогой Виардо, и не забывайте вашего друга».
* * *
…Разговор был мучительным и долгим. В памяти остались полукруглые окна уютной гостиной с окнами на Остоженку, где тянулась казавшаяся нескончаемой вереница экипажей. Мерцающий кафель высокой печати. Приспущенные шторы. И голос матери. Сухой. Властный. Непреклонный. Никаких средств для существования сыновей она из своего огромного состояния выделять не собиралась. Все только из ее рук и по ее приказу. Варвара Петровна ни в чем не изменилась к своим семидесяти годам. Она торжествовала полную победу. Вы – Тургеневы? Так и живите своими отеческими владениями!
Вот только ожидала ли она, что на этот раз разрыв будет полным? Угроза не подействует. Оба сына уедут с Остоженки в свое крохотное Тургенево, а Иван Сергеевич вскоре еще дальше – в Петербург. Единственная отдушина для его откровений, одинаково для него унизительных и тягостных, – письма к Виардо.
«Я повидался с матерью. Дела я нашел в самом плачевном состоянии, но расскажу вам об этом позднее, когда немного осмотрюсь. Сейчас же вам будет достаточно узнать, что самому мне кажется, будто я, бог знает как надолго, вошел в сырой и вредный для здоровья погреб. Ах! Солнце, свежий воздух, – все, что делает жизнь приятной и прекрасной, я оставил там, у вас, друзья мои. Как далеко нахожусь я от вас! Как много лье нас разделяют! Как много дней, недель, может быть, лет протечет до того, как мне будет дано снова увидеть ваши милые черты, свободно вздохнуть в вашем дорогом присутствии. Не забывайте меня, думайте обо мне, умоляю вас, а я – что должен я сделать, что должен сказать, чтобы дать вам понять, насколько память о вас мне сладостна и дорога. Она еще и нечто гораздо большее; как я предвижу, это будет для меня единственным якорем спасения, когда, среди ожидающих меня тягостных распрей, трудясь над устройством всевозможных неприятных грустных дел, я почувствую, что мое сердце изнемогает от усталости и отвращения. Это будет моим единственным утешением. Когда я вспоминаю о такой доброте, искренности, нежности, красоте, но, особенно, о привязанности, которую ко мне испытывают, быть может, мне достанет мужества промыть все эти старые раны, противостоять всем этим горестям и бедам. Впрочем, вы мне позволите, не правда ли, сообщить вам о моих терзаниях. Меня это так утешит! Мне так хотелось бы жить у вас на глазах… и все-таки, когда я думаю о том, что эти письма, где сплошь идет речь о грустных и пошлых семейных распрях, вы получите в Куртавеле, то опасаюсь, как бы скверное впечатление от них не отразилось, невольно и на мне. Решительно я расскажу вам только о результатах. Я не хочу портить память обо мне; это самое дорогое из моих сокровищ, то, которое я храню, больше всего за него тревожусь.
С завтрашнего дня я начну нечто вроде дневника, который буду вам посылать. Сегодня это только письмецо».
Таясь от всех – не то что от Виардо, но даже от брата, – Иван Сергеевич ездит в Донской монастырь. По-прежнему пустынный. По-прежнему сумрачный – до самого короткого дня в году оставались считанные недели. Жизнь теплилась в кельях. В низких бархатных звуках полиелейного колокола. В тонкой цепочке тянувшихся в большой собор монахов. А он, сворачивая за приземистый, словно вросший в сугробы, старый собор, под кладбищенскую сень, вспоминал, отбрасывал воспоминания и снова начинал вспоминать.
Варвару Петровну больше всего поразило не непокорство сыновей – она давно находила безошибочные приемы с ним справляться. Но то, что они уехали вдвоем, в полунищее Тургенево. Иван со своей славой успешного драматурга, сплошными успехами на петербургской и московской сценах умудрился прожить там весь август и сентябрь. Ей еще успели доложить, что пятого ноября он отправил Палашку в Париж – надо же до такого додуматься! Николай ее не занимал вовсе. Впрочем, она заявила, что не желает видеть сыновей у своего смертного одра и на похоронах. Этого мало. Когда Николай, вопреки всем запретам, стал в ноябре, вместе с ухудшением ее здоровья, каждый день появляться на Остоженке, распорядилась, чтобы в соседней со спальней комнате постоянно играл оркестр самые веселые польки и мазурки – пусть сама никогда не танцевала и балов не терпела.
Иван Сергеевич не мог не рассказать об этом Виардо: «Ее последние дни были очень печальны. Избави бог всех нас от такой смерти! Она старалась только оглушить себя – накануне смерти, когда уже началось предсмертное хрипение, в соседней комнате по ее распоряжению оркестр играл польки». «Мать моя в последние свои минуты думала только о том, как бы – стыдно сказать – разорить нас – меня и брата, так что последнее письмо, написанное ею своему управляющему, содержало ясный и точный приказ продать все за бесценок, поджечь все, если бы это было нужно, чтобы ничего не осталось. Но делать нечего – все надо забыть, и я сделаю это от души теперь, когда вы, мой исповедник, знаете все. А между тем – я это чувствую – ей было бы так легко заставить нас любить ее и сожалеть о ней!»
Для Виардо, да и не для нее одной, это необъяснимая снисходительность. Необъяснимая? Да, ему нечего вспоминать в детстве: оно было слишком суровым, подчас безжалостным. На вопрос, хотел ли бы он вернуться в детские годы, Иван Сергеевич ответит отрицательно, даже с какой-то, по выражению собеседника, «завзятостью»: только не это! Да, годы занятий в пансионе, с домашними учителями, даже в Московском университете ничего доброго не рождают в душе. А дальше – дальше, по счастью, его жизнь будет протекать вдали от родительского гнезда. Мать потребовала его возвращения, по крайней мере, приездов, он сопротивлялся как мог и как умел. Казалось бы, все очевидно. Но не для Тургенева.
В написанном незадолго до собственной кончины рассказе «Старые портреты» он коснется отношений глубоко симпатичного ему отца с никак не намеченными дочерьми: «Замшилось к ним мое сердце», – сказал он мне однажды. Зная его доброту, я дивился его словам. – Трудно рассудить родителей с детьми. – «Большой овраг начинается малой трещиной», – сказал Алексей Сергеевич мне в другой раз по этому поводу – «в аршин рана заживает, а отруби хоть ноготь, не прирастет».
Варвара Петровна была наполовину Лутовиновой – по отцу, наполовину Лавровой – по матери. Лутовиновых, хоть особенно гордиться им было нечем, уважала, на Лавровых досадовала. Доброта, мягкость, расположение к людям, «бесхребетность» Ивана – все приписывалось «никчемным» Лавровым. Правда, что ни один из сыновей лутовиновского крутого нрава не унаследовал, к великой ее досаде. За то и драла их, нередко и собственноручно, каждый день, за вины и без вин, – для острастки на будущее.
Жестокость? Несправедливость? В последний свой приезд в Спасское-Лутовиново Тургенев скажет: в ее дом никогда не входила любовь. Счастье, хотели вы сказать, заметил собеседник. «Вы думаете, одно связано с другим?» Вопрос повис в воздухе. Еще теплом. Уже тронутом осенью. С тяжелым запахом сыреющей земли и прелых листьев. Но любовь не входила… Как и в жизнь слишком многих тургеневских героинь.