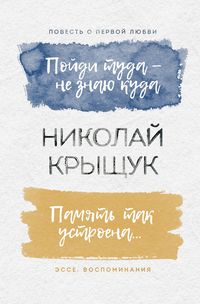Kitobni o'qish: «Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания»
© Крыщук Н., текст, 2017
© Арьев А., предисловие, 2017
© «Геликон Плюс», макет, 2017
О сопряжении слов
Кажется, не бывало в России такого времени, на которое бы, «подводя итоги», отечественный писатель смотрел без грусти. Да и в других странах, кого сыщешь, не Шекспира же и не Кафку? Естественный взгляд творца, интеллектуально одаренного, тем паче пожившего не один десяток коварных лет. Таковы неизбывные условия существования художника, настигнутого изматывающим его душу миропорядком.
Сегодня, когда живешь в мире, в котором прежде всего поражает, зачем и почему люди ежечасно лгут – и не только люди публичные, – становится ясным, с какой стати искусство слова оттесняется в нем на обочину развлекательными программами, замещается «зрелищами», тем, что верно именуется «боями без правил». По этой причине заранее отдаешь предпочтение художнику, в таинственном сопряжении слов находящему больше смысла, чем в разгадывании кремлевских ребусов.
Валерий Брюсов наставлял поэтов: «И ты с беспечального детства / Ищи сочетания слов». Марина Цветаева рассердилась: почему это «слов», а не «смыслов»? Со свойственным ей лирическим нетерпением она – точь-в-точь как толстовский герой из «Войны и мира» – недослышала: за словом «сопрягать надо» не различила «запрягать». Брюсовскому «сочетанию слов» предшествует мысль о необходимости «запрягать» их как лошадей – для странствия по кругам рая и ада. Всякий настоящий художник, полагает Брюсов, подобно Данту, является на землю с обожженным «подземным пламенем» лицом. Что и побуждает его искать «сочетания слов»: без них осмысление увиденного невозможно, «персональное» не становится «всеобщим».
Любое детство «беспечально», если иметь в виду неизбежные коллизии дальнейшей человеческой жизни. Ленинградское послевоенное детство поколения Николая Крыщука и его самого «беспечальным» никак не назовешь. Что только упрочивало способности к выработке собственных суждений. Речь заводит Николая Крыщука в такие, не предусмотренные обыденным житейским укладом закоулки, в какие никакая социология, никакой сыск хода не имеют – за неумением обращаться ко вторым, третьим и бесконечным смыслам художественных речений.
Есть у Николая Крыщука не включенный в настоящее издание «роман-фантасмагория». Первоначально он назывался «Ваша жизнь больше не прекрасна». И это, кажется, единственно достоверный сигнал, передаваемый современному человеку через атакованные вирусом прогресса подмигивающие дисплеи.
Автор переменил заглавие романа на другое, заведомо простое, ускользающее от обозрения и публичности – «Тетради Трушкина». Это важно: роман теперь посвящен «биографии внутреннего человека», к каковой клонятся вообще все сочинения Николая Крыщука, в том числе хорошо представленные в настоящем издании документально-эссеистические жанры. Прозаическое в них тесно спаяно с поэтическим, строчки норовят стать строками стихотворения, – черта характерная для писателей с невских берегов, взявшихся за перо после 1956 года. Речь у них идет о людях не на своем месте, о мнимой смерти и мнимой жизни, о ее дурной бесконечности: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…»У Крыщука действие накатывает валами из разных исторических пространств, обнажая разные философские пласты – при том, что автор твердо дает понять: он-то живет сегодня, живет среди нас, и наши треволнения и беды ему не чужды.
Вряд ли подлежит сомнению: проза Николая Крыщука – философская. Но без обязательного для этого жанра априорно заданного смысла и удушения читателя цитатами из малоизвестных философов.
В эссе о совершенно реальной и всем известной личности, Александре Володине, Крыщук заметил: «Биографы зря стараются», ибо существен лишь «внутренний человек». Чтобы внимание к нему не пресекалось, прозаику удается находить часто сразу запоминающиеся, строго пригнанные друг к другу слова, как, например, в книге об Александре Блоке: «Был в нем какой-то нравственный регистр, неповрежденное чувство правды».
«Правда» – она и есть предмет рефлексии писателя Николая Крыщука. Драма и счастье человеческого сознания, драма и счастье «внутреннего человека» состоят в том, что правда не универсальна. Универсально лишь то, чего мы не знаем. А то, что мы знаем – не универсально. Здесь точка отсчета и точка поисков современного художника, такого, каким мне представляется Николай Крыщук – в этой книге особенно, потому что в ней слиты его основные, произрастающие из единого корня, ветвящиеся от одного ствола жанры – прозаика, филолога, журналиста.
И не только в этой. Таковы вообще его «ненаблюдаемые сюжеты» при наблюдаемой психологической тонкости их трактовки. Например, предшествующий «Тетрадям Трушкина» роман «Кругами рая» на том и стоит, что внутренний мир персонажей, мотивы их поступков или, что еще сложнее, бездействия, даны со скрупулезной психологической достоверностью. Тема романа традиционная – драма «отцов и детей». Тем сильнее впечатляет оригинальность ее трактовки: вместо сведения счетов, персонажей тянет друг к другу «взаимное непонимание», фатально их связующее, обусловливающее жизнь.
В первый круг «рая» входит открывающая книгу повесть «Пойди туда – не знаю куда» – рефлексия об утраченной любви двух достойных друг друга существ. Их тихая драма заключается в том, что каждый из персонажей искал не то, что другой. У героев не получилось ничего, зато у автора получилось все: сказочное «неведомо что» нашел он. В этом радость, в этом художественный успех. Потому как художник призван творить именно «неведомо что», по-своему мерцающие для каждого читателя смыслы.
Пожалуй, в большинстве, а в скрытом виде и во всех, коллизиях, рассматриваемых петербургским прозаиком, найдешь неосязаемый промельк счастья. Влюбленность, его атрибут, у него – «нормальное состояние». Но состояние, переживаемое интимно, в повести выраженное через изящную внешнюю примету – «немого попугая», мелькнувшего в финальной сцене. В сотнях изложенных самыми разными авторами историй, если попугай и является, то непременно «говорящий». А вот у Крыщука «немой». Должен был что-то произнести внятное. Но нет, не произнес. Также и героиня – могла бы прийти, но – о, судьба! – не пришла… Да – судьба: «Из того, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни». Дальнозоркий Николай Крыщук автор. Следовательно, понимающий, что в искусстве к чему. То же обречение на влюбленность автор «повести о первой любви» распознал в душевных устремлениях таких разных писателей, как Владимир Соловьев, Чехов и Александр Блок.
«Где найти меру неотменяемости общего и меру независимости личного?», задает устами Лидии Гинзбург вопрос Николай Крыщук. Вопрос этот – онтологический, тысячелетиями стоящий перед мыслящим тростником: в каком пункте «общее» становится «частным»? Неясно до сих пор даже то, не следует ли вопрос ставить в перевернутом виде: где кончаются «единичные сущности» и начинаются «универсалии»? Гармония, видимо, таится в этой безначальной области, обследуемой Николаем Крыщуком.
Имя Лидии Яковлевны Гинзбург помянуто здесь – как и в самой книге – не всуе. По благоприобретенной профессии ее автор – филолог, участник знаменитого Блоковского семинара Дмитрия Евгеньевича Максимова. Несколько раз издавалась его книга «Разговор о Блоке».
На минуту остановимся: написан «Разговор о Блоке» в вольной художественной манере, не предающей изначальной приверженности автора к поэтическому слову, следовательно и к эстетическому своеволию. Крыщук принадлежит к тем не часто встречающимся филологам (из тех, о ком он пишет, на ум приходит Самуил Лурье), кто предпочитает, прежде всего, вступать с изучаемым автором в диалог равноправно – не теряя дара речи. Силою вещей из старших отечественных литераторов Лидия Гинзбург ему ближе других. Она, как Крыщук и сам понимает, была слишком художник, чтобы следовать заветам академической науки, и слишком ученый, чтобы выражать свое видение мира в ореоле метафор и метонимий. Конечно, она в первую голову – аналитик, эта склонность привела ее к художеству, у Крыщука же интеллектуальное развитие шло по встречной дороге. Понятно, что и его путь – преодоление той же дистанции. «Если представить все написанное Гинзбург как одно распространенное высказывание», размышляет он, то в нем «присутствует та нерасчленимая, аналитически не вычисляемая тайна, которая была передана ему личностью автора». Если автор и умирает в своем творении, то мы тем более хотим узнать, что собой представляет нетленный мир, в котором он жил и живет. Памятники для этой цели пригодны мало.
У каждого художника есть свое «всë», определяющее меру вещей бессознательное. Какое бы оно ни было, оно не врет, являя собой то единичное качество, которое врать не в состоянии – ему не перед кем врать в своем стремлении как-то воздействовать на свою телесность. Поэтому изначальное впечатление никогда не победит последующего разочарования – думает Николай Крыщук. Хотя бессознательному и безразлично, думаю я, приводит ли его воздействие к драме или к просветлению? До той поры, пока оно не прорывается в сферу всеобщего. Так возникает то, что мы именуем «судьбой».
Размышление о судьбе приводит к осознанию смертности, как данности личного опыта, не преодолимого никакими прельщениями разума. Смерть никогда не подводит. В тех же «Тетрадях Трушкина» отчет об опыте небытия записан симпатическими, то есть художественными, чернилами. В первом приближении пульсирующая фабула этого романа может быть расценена как социальная. Важнее, однако, что всякая социальность имеет у автора этих записок экзистенциальное измерение. Призывы, «возделывать свой сад», во времена Вольтера были меньшей утопией, чем сегодня.
Николай Крыщук задается вопросами, каковы неизгладимые приметы нашего нынешнего существования? В какой момент в нас атрофируются человеческие чувства? Отчего жизнь похожа на небытие? Но если большинство писателей, поставив подобные вопросы, уходит от ответов в фантастику, умозрительные конструкции, мистику, сказку или сюрреализм, то Крыщук, с помощью своего «маргинального», «несвоевременного», «нелепого» героя-рассказчика, решается дать и убедительные ответы. Этой прозе, при всей свойственной автору иронии, передается отвага наивного прямоговорения избранных им героев. Их внутренняя жизнь полнится позабытой, живущей поперёк и вопреки духу времени верой, что человек выстоит. Порукой тому и одна из самых скромных героинь «Тетрадей Трушкина», выводящая рассказчика из царства нежити на поверхность жизни.
Каждое из этих произведений сводится к простой истории человека, который хотел жить, любить и быть понятым. Со щемящим чувством мы можем узнать в героях самих себя, а, следовательно, принять и мир этих вещей в целом. Это не столько приговоры времени и обществу, сколько исповеди сыновей века, героев утраченного страной времени. В поисках рая они все время попадают на дороги, ведущие в ад. Его-то существование несомненно. Ибо он – на земле. Там же, где и жизнь райская. Совсем неподалеку.
Иногда кажется, что душевная откровенность, роскошно свежий, метафорически насыщенный язык Николая Крыщука в состоянии воссоздать нам новых Панглоссов и князей Мышкиных. Въяве их вряд ли можно было увидеть и в «добрые старые времена», но их образы у человечества уже не отнимешь. Так что, думает Николай Крыщук, «жить можно» и сегодня. Во всяком случае – еще можно. И уж несомненно «В Петербурге летом…», как сказано в заглавии одной из его книг. Плюс к тому «надо бы еще послужить человечеству» – с этим очень характерным для писателя ироническим «надо бы…» Каждому человеку много еще чего «надо бы». Реально же сюжеты Николая Крыщука сводятся к тому, что у выведенных в них персонажей «словно пропадает фокус», настроенность, позволяющая им целеустремленно ориентироваться в шутовском хороводе жизни. Но сам-то автор ориентируется в нем прекрасно, его фокус не сбит: «Солнце слепящими стрекозами застревает в царапинах стекла». Кто это написал, может быть, Юрий Олеша? Владимир Набоков? Они-то могли бы. Но не это главное: когда Николай Крыщук рисует подобные, придающие повествованию естественную живость, пейзажи, его воображение отталкивается не от книг, а от реальных видений. Суть тут – в органической природе его художественного зрения. Филолог-интеллектуал, он все же больше дорожит дарованным ему ниоткуда правом на спонтанную метафору, на радость устремления: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран…».
В былые допечатные времена, когда никакой частной литературной собственности не существовало, автор, обнаружив, что просящееся наружу слово уже произнесено другим, более достойным творцом, с благодарным облегчением копировал чужой текст, продлевал его существование, как усердный иконописец веками передаваемый прообраз. Вот и ясобирался начать эти беглые заметки с цитаты из Пушкина, указать на его мнение о Евгении Баратынском, соответствующее, на мой взгляд, предполагаемым дальнейшим соображениям о Николае Крыщуке. Теперь вижу, что лучше этим мнением начатое дело завершить:
«Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».
Андрей Арьев
Пойди туда – не знаю куда
Повесть о первой любви
Часть первая
…ПЕРВОЕ МОЕ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» было опрыснуто дождем. Дождь прошел утром, и, когда я вышел на улицу с новеньким портфелем, голуби, лепившиеся под крышей крыльца, как раз вылетели размять крылья. Тогда голуби только появлялись в городе после блокады и вообще только входили в моду.
Помню, что, несмотря на облака, утро было ярким, серые блики на жирных, искривившихся от старости листьях слепили глаза. А я шел чистенький и невесомый, как после бани. В школу. В первый раз.
На мне был черный костюмчик, который мама перелицевала из старого отцовского. Впервые в этот день вылез я из привычной вельветовой куртки и чувствовал себя торжественно. Я еще не знал, что в таких неформенных костюмчиках будет всего три человека. На весь класс.
В начале пятидесятых для мальчиков-школьников изобрели серого цвета форму, наподобие военной. Форма шилась двух видов: суконная и хлопчатобумажная.
На суконную форму у мамы не хватило денег, но она все же надеялась купить мне ее позже и поэтому не хотела тратиться на «хэбэ». Стремление «быть как люди» и чтоб «не хуже, чем у людей», – как знакомо это мне с самого детства! Матери долго не удавалось почувствовать себя горожанкой, и от этого-то, вероятно, она еще больше старалась походить на нее. Правда, от половиков и дорожек, вывезенных из деревни, она отказаться не могла. Но вот когда у соседки появился шифоньер, то есть, попросту говоря, трехстворчатый шкаф с зеркалом (у большинства были двустворчатые и без зеркала), мать стала копить деньги на шифоньер. Так же в свое время появится сервант, потом тахта… И все с опозданием на годы, и всякий раз мне было неловко от очередной покупки, как будто она выдавала какую-то нашу тайну.
Форму купили мне только после ноябрьских, и, облачившись в нее, я мгновенно ощутил превосходство над теми, кто ходил в «хэбэ»: их форма уже давно скаталась ватными катышками и выглядела уныло. Но и с теми, кто с первого дня ходил в сукне, я все равно не встал на равную ногу: перед ними я стыдился новой формы так же, как нового шифоньера перед соседями.
Помню, ровно через год, первого сентября, мы узнали, что погиб Коля Ягудин – один из «хэбэшников». Рассказывали, что он удил на речке, поскользнулся и упал прямо в воронку.
Двоечник, «хэбэшник» Коля Ягудин после своей нелепой смерти превратился для меня в образ фатальной незадачливости. Он пугал меня, этот образ, я боялся стать таким, как он. Я хотел быть хорошим и страдал оттого, что у меня это не получается. Я хотел быть хорошим, чтобы меня никто не трогал, а уж тогда-то я буду таким, каким мне хочется.
В стенгазете «Колючка» я изображал Ягудина верхом на двойке.
Когда Коля был жив, я боялся оставаться с ним наедине, чтобы нас не сочли друзьями, теперь, когда его не стало, я боялся, что займу его место.
У Коли было прозвище Дохляк. Он и сейчас вспоминается мне миниатюрным долговязым старичком – первоклассник. Но, может быть, сутулым Коля казался из-за выбившейся из-под ремня и вздувшейся на спине гимнастерки? Лицо Коли было землисто и нездорово. Наверное, он жил в подвале. Тогда еще многие жили в подвалах. Но добрые влажные глаза Коли никогда не выражали собачьей жалкости, может быть, только грусть.
Ни в безвольной нижней губе его, к которой, как шутили, прилипали комары, ни в тоскливо свисавшем «хэбэ», ни даже в нелепой смерти не было никакой предопределенности. Не-бы-ло!..
Зачем же я, маленький застенчивый «сатирик», рисовал его в стенгазете «Колючка» верхом на двойке: сброшенным брыкливой двойкой на землю, погоняющим отару двоек?… Зачем я так старательно рисовал его свалявшееся «хэбэ»?…
Но я еще иду в первый класс, я еще не знаю Коли Ягудина. В моей душе нет зла. Голуби мира взлетают из-под моих ног и садятся впереди, затрепетав крыльями и на мгновение отразившись в мокром зернистом асфальте. На мне черный костюмчик, а в руках букетик ноготков. Они красивые, на живописно корявых стеблях, запах – сердцевинный запах осени. Они похожи на маленькие подсолнухи.
Я еще только иду в первый класс и не знаю, что ноготки – цветы клумб, а не оранжерей – дешевые, второсортные цветы. Что эти карлики перед господами офицерами гладиолусами?
Мне не нравятся гладиолусы, будто проглотившие перед генералом аршин и вертикально навинтившие на грудь ордена. Мне они не нравятся. Но я не могу не признать их породистости. И когда в вестибюле девчонка-первоклассница, неся их над головой, как какой-нибудь канделябр, громко шепчет про мои ноготки: «Календула! Нарвал, наверное, на улице», – я весь словно погружаюсь в горячую воду. Как предательски засовываю я свои цветы-карлики в тесноту чужих коленей и рук. Бедные мои «подсолнухи»: с хрустом сломалась сочная корявая ножка, посыпалась на каменные шашечки огненные лепестки. Теперь они кажутся мне толстыми крашеными мотыльками.
Не это ли первое маленькое предательство пробудило во мне тогда неожиданный сатирический талант?
Не помню, были ли в тот день цветы у Коли Ягудина?…
УЯЗВЛЕННЫЙ ЭТИМ ВОСПОМИНАНИЕМ, пытаюсь вспомнить себя до Коли Ягудина, до того «Первого сентября»… Но и там обнаруживаю себя тиранчиком с обиженной губой, мучающим на подоконнике мух.
Дальше, дальше!..
Я вижу сад, освещенный хозяйской верандой. К ночи напряжение в сети падает, свет на веранде тусклый, как при керосиновой лампе. Там пьют чай, играют в карты, покрикивают на детей, входят и выходят, погружают пальцы в волосы и смеются… Интересно, знают ли они, что они счастливы?
Я вижу мальчишку в коротких штанишках с оторванной лямкой. Он усердствует около таза, подсовывая ломающийся в воде пальчик пленной и обреченной рыбине. Это я. Из кресла молодо поднимается моя мама и говорит… Ну, говорит, например: «Щуку будем жарить на завтрак, отойди, пожалуйста, от таза». Или: «Ложись, милый, спать, утром пойдем на гору за орехами».
Черное, нарушаемое ветром кружево крон временами смывает эту картину. От земли тянет первым прелым листом осины. Я пасусь в этой ночи как коровка на длинной привязи. В отмытой от ночной сажи полоске зари, в темном, освещаемом верандой саду – что-то от пейзажей Ромадина, от довоенных фильмов об отпускниках, от скоротечного блаженства послевоенных июней, июлей, августов, которые с детских лет проводил я с матерью в Дудергофе.
«Ну, иди, милый, иди», – повторяет молодая женщина, и мальчик покорно идет в свою постель. Необходимость покидать все и всех ради сна – первая несправедливость, которой он по-взрослому покорился. Он, конечно, совсем не хочет спать, но уснет мгновенно. Ведь он тоже не знает, что счастлив, ему еще незнакома эта забота. Даже встречу, которую жизнь приготовила ему к утру, память отложит в самый дальний тайничок, о существовании которого он еще не подозревает.
АНДРЕЙ ПОМНИТ СЕБЯ СТОЯЩИМ У КУСТА. Бледные листочки его до желтизны просвечены солнцем. Утро. Он только что вышел из дома, еще только привыкает к зябкости утреннего воздуха. И тут замечает на кусте бабочку-капустницу и произносит слышное ему одному: «Ах!..» Бабочка прекрасно притворяется листиком. Она тоже салатная и тоже покачивается от ветра. Но Андрей все же заметил ее и горд. Нерасчетливым движением тянется он к кусту, берет бабочку в кулачок и в этот миг сзади раздается голосок:
– Отдай. Это моя бабочка.
Андрей поворачивается и видит перед собой девочку. У нее огромные серые глаза с подрагивающими веками. Они так невыносимо огромны, что, кажется, присели на минутку, а вот надумают, снимутся с места и полетят.
– Это моя бабочка, – повторяет девочка, глядя то в сачок, то на него. – Я уже час жду, когда она проснется.
– Зачем? – кажется, спросил он.
– Чтобы ловить.
Взглянув на него умоляющими глазами, она отбросила сачок и схватилась за его кулак обеими руками, пытаясь вызволить из чужого плена бабочку.
Он сдался. Он разжал потный кулачок. Ладонь обдало холодным ветром. Бабочка упала и стала торопливо перебираться по траве. Ее сдвоенное крыло нервно покачивалось, как маленький лодочный парус.
Андрей поднял голову и увидел в Сашиных глазах слезы.
Потом, конечно, и Саша и Андрей не раз сверяли свои воспоминания, и выходило, что столько уж им обоим было сказано в самом еще детстве, что даже удивительно теперь, как можно было это сразу не разгадать. Но может быть и так, что все это только романтические забавы. Сведи каждого из них жизнь с другим, и тогда не было бы недостатка в символах.
Что до символов, то вот уж действительно, в чем никогда не было и нет недостатка. Тут память затаскивает и еще дальше, где ей, собственно, и делать нечего. В детство матери, например, в жизнь ее до него.
Как ни смотрите, а жизнь родителей, даже и до нашего рождения, никак нельзя назвать по отношению к нам случайной и посторонней. Один-два эпизода – и, кажется, наш собственный облик начинает уже в некоторой мере прорисовываться, уже хмурый зародыш его обретает свое местечко в пространстве, уже из множества вариантов жизнь отложила для него небольшую колоду. Не довод, что и в двадцать лет колода эта кажется нам невообразимо огромной. Теперь с каждым днем она будет уже только уменьшаться, каждый день будет уносить безвозвратно еще вчера доступные варианты.
Впрочем, об истинном своем начале мы обычно и понятия не имеем; кто знает, в какой древности его и разыскивать.
МАМИНО ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО ПРОХОДИЛО ПОД ЗНАКОМ ВЕДЬМЫ. Родилась она за два года до революции, когда домовым, ведьмам и лешим еще не пришла пора исчезнуть под светом нового дня. Ведьмой была отцова мачеха, а ее неродная бабка. После смерти второго мужа всю свою зловредную силу обратила она на пасынка, для начала отделив ему с семьей и двумя дочками камору. В ней долгое время и жили они, а с ними – невыветриваемые запахи чеснока, конопли, зерна и перламутровых связок лука.
Редко встречалась Паша с блескучими глазами бабки, но чуть ли не всякое появление ее и разговор о ней были связаны с каким-нибудь, по большей части, страшным чудом. Отец говорил, что бабка задумала извести весь их род.
Появилась она как-то в каморе – ласковая, села у недавно прорубленного окна, пергаментным лицом своим тускло отражая разыгравшийся закат. Выпила кружку молока, утираясь, пошептала в ладонь, улыбнулась на прощанье и вышла. Только сели они вечером ужинать, а вместо молока в кринке – вода.
На следующий день Паша и Дарья стали расшатывать из мести колья, торчащие из стены каморы. По ту сторону стены держались на них полки с ведьминой посудой. Бабка затаила обиду. Мать рассказывала, будто вечером тогда пристала к отцу в поле бешеная собака с бабкиными глазами. Отбился он от нее палкой, рассадил голову за ухом. Утром уже повстречался с бабкой и заметил у нее рану в том месте, что и у бешеной собаки.
Паша, конечно, боялась бабку, но что-то ее к ней и тянуло. Сила влекла, чудо. Бывало, даст она им с Дарьей по прянику. Дарья тут же выкинет его и Паше накажет: «Не ешь, он поганый». Убежит Паша в кукурузу, съест там ведьмин пряник. Страшно, конечно, но еще вкусней оттого, что страшно.
Были случаи, что и помогала им ведьма. Так, впрочем, по пустякам. Пошел как-то отец взять после ночной пастьбы коней. Шел он по лугу, еще полному росы – утро было раннее, помахивал уздечкой. И так эта уздечка в траве промокла, что не мог он ее, как ни пробовал, просушить. Отдал бабке. Поглядел вечером: та сидит задумчиво во дворе над уздечкой, а из уздечки… молоко течет. Утром вернула сухой.
Трудно сказать, что больше отложилось в младенческом почти сознании Паши: то ли страх перед непостижимой властью ведьмы, то ли предчувствие того, что жизнь полна чудодейственных превращений и когда-нибудь и ее судьба может счастливо перемениться.
В ЛЕНИНГРАД РОДИТЕЛИ АНДРЕЯ ПЕРЕБРАЛИСЬ ПОСЛЕ ФИНСКОЙ. Первые месяцы, пока муж был в летних лагерях, жили в маленькой деревушке Тервайоке. К тому времени у них уже родилась дочь Валя (она умрет в блокаду, съев неостывший студень из казеинового клея).
Поселились поначалу в огромном доме. Дом был пустой, хоть волков гоняй, Прасковья боялась оставаться в нем с дочкой одна. Со своим супом в чайнике, который остался от прежних хозяев, бежала она к соседнему дому. Этот был заселен плотнее. Перед домом разложен костер, над ним на кирпичах – лист железа. На жести готовили еду.
С людьми было не так страшно. Запах костра напоминал деревню.
К зиме им дали в Ленинграде маленькую комнатушку. Привезли туда из Тервайоке кровать с никелированными шарами, финскую тумбочку из карельской березы и трофейный радиоприемник «Stern-Radio».
Комнатка была оклеена газетами. Были среди них совсем старые, дореволюционные. Иногда вечерами Прасковья читала их, ожидая мужа.
Особенно любила она объявления – эти затерявшиеся во времени позывные. Например, в1914-м какие-то жильцы с Лиговки решили через газету продать белый новый рояль. Белый рояль она видела в фойе театра, куда ее однажды водил муж. Рояль напоминал стоящего на упертых ножках бычка. Она подумала тогда, что в доме он может служить обеденным столом.
Уложив спать дочку, Прасковья представляла, как заявится вдруг по этому адресу на Лиговке: «Вы продаете белый рояль?» – «Продаем». Старушка откладывает книгу и приглашает ее в комнаты. «Это муж из-за границы привез, – говорит старушка, – очень нужная вещь. Можно играть, если умеете, можно в качестве обеденного стола использовать. Если б деньги не нужны были…» – «Да, деньги, – кивает Паша. – Куда ж в городе без них». Замечая Пашин взгляд, на мгновенье отвлекшийся на голубой стеклянный куб, старушка спрашивает: «А вы, собственно, по объявлению?…» – «По объявлению, по объявлению, – успокаивает ее Паша. – Прочла тут в газете… А и кубик этот можно? – спрашивает она неожиданно для себя. – В придачу к роялю. Я заплачу».
Она рассматривает рояль с видом знатока. В их комнату его можно втащить разве что боком, и то если ножки спилить. Вот кубик… Кубик бы она, пожалуй, и отдельно, без рояля, купила.
Представляя, как она приходит торговать рояль, Прасковья тихонько смеялась. Ей было забавно думать, что вот с тех пор две войны прошли и революция, и она из деревенского стручка превратилась в жену и мать, в горожанку, а рояль все еще продается.
Дело было, конечно, не в белом рояле. Сдался он ей. Другой раз она собиралась купить кадку для цветов или ковер. Всякий раз, мечтая о покупке, Прасковья представляла, что с ней изменится и ее жизнь. Говоря же совсем честно, она ждала, что вместе с вещью перейдет к ней секрет чужого счастья.
О счастье она стала мечтать, казалось, еще до того, как начала думать. Населялось счастье медленно. Первыми поселились в нем человеко-деревья и человеко-звери, вылетавшие по утрам из ее сновидений. Позже Паша догадалась взять с собой сестренку, маму и отца: сестренку – когда та разговаривала с коровой или когда они с утра до заката собирали шелковицу, маму – когда она ткала на станке дорожки для полов и относилась к их шалостям терпеливо-равнодушно, отца – когда он собирал яблоки или нарезал, смешно отпустив нижнюю губу, к приготовленному стаканчику сало.
Запахи здесь играли тоже не последнюю роль: первый земляной запах, когда сходил снег, запахи огурца, смородины, вечерней полыни, запахи горелой ботвы, дождя, выскобленного и вымытого с мылом стола – все это тоже бережно отправлялось Пашей в счастье и жило там в ожидании ее.
Бывало, происходили и в ее счастье кое-какие перестановки. Одно время жила там соседская Васька, но после неизвестно из-за чего разгоревшейся ссоры Васька была из счастья изгнана. Ее место, по мере того как Паша взрослела, занимали то бычок Рыжик, то ночное купание в пруду, то Стасикова жалующаяся на что-то гармошка, то песни, которые они пели с бабами, то молодой председатель, присланный к ним из города, – она видела однажды, как он стоял на крыльце, подставив солнцу закрытые улыбающиеся глаза.
Однако постепенно Паша стала забывать, что счастье, о котором она столько мечтает, ею же самой и создано и что все оно – из примет той жизни, которой она каждый день живет. Ей стало казаться, что счастье – это та жизнь, которая не по ней сшита, которую даже и видеть ей нельзя, а она тайно подсмотрела ее. Совсем как барский дом, в который девчонкой ей так хотелось проникнуть.
Она была еще маленькой, когда барин вместе с семьей удрал за границу. Паша хорошо помнила этот день.
Помещичий дом стоял в саду на горе, важно опоясан деревянным забором. Сквозь забор было видно, как у крыльца величаво прогуливаются цветные птицы с маленькими головками. В окна виднелись красивые обои. В то время обоев в деревенских домах не было.
Мать Паши выпекала барину и всей его дворне хлеба и, бывало, притаскивала душистую буханку домой. Девочка представляла, что весь барский дом пропах, наверное, вкусным хлебом, и тихо завидовала маме, которая снова назавтра отправится туда.
Не сразу связала она с этим хлебом набухшие вены на маминых руках, ее болезненные причитания по ночам. Как-то Паша поняла из разговора, что женщины в пекарне, изнемогая от работы, придумали хитрость. Одна из них разувалась и месила тесто ногами, другая сторожила у входа. По первому знаку месившая тут же исчезала в уборную, а третья, отдохнувшая, в это время окунала руки в тесто.