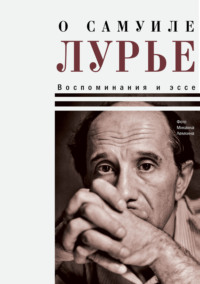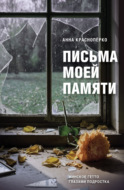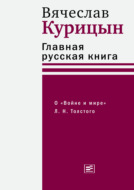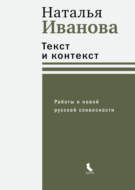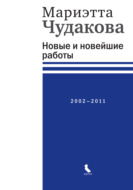Kitobni o'qish: «О Самуиле Лурье. Воспоминания и эссе»
© Агеева Л., Арьев А., Беленькая М. и др., 2024
© Крыщук Н., сост., 2024
© «Время», 2024
Вызвать и возвратить. По праву составителя
Человек умирает дважды. Свежесть афоризма так себе – из легкой на философию беллетристики. Все, правда, меняется, когда опыт нагоняет банальность и умозаключение становится фактом собственного переживания. Сейчас это случилось.
Впрочем, не такая уж и банальность, подумал я. Самуил Лурье, герой нашей книги, вглядывался в это явление пристрастно и пристально. Он насчитал даже не две, а три смерти писателя. В любом случае речь идет о формах и стадиях забвения.
Вести о новых и новых смертях приходят с регулярностью сообщений синоптиков. Оглохшее население ездит на кладбища и в крематорий, как на каникулярные экскурсии. Времени на потрясение меньше, чем положено в театральных постановках. На первый план выходит не личная потеря, а общий закон. Перед ним смиряются, даже благоговеют. Горе сглатывают, как заслуженную обиду.
Немота, глухота и беспамятство – следствие не только нынешней погоды, но изменения климата исторического. В нашем поколении началось, может быть, с парада катафалков на Красной площади. Отсмеявшись, зрители вдруг сообразили, что тащить груз неудачного прошлого накладно и неразумно. Вирус поразил, как всегда, незаметно, не повредив ни одной личной привычки и ежедневного обычая. Дальше пошло быстрее.
Молча отправили в забвенье писателей, книги которых еще вчера стояли на заветных полках. Сначала писателей советского времени, а теперь уже и классиков. Не потому, что разлюбили, а так. Они были виновны в иллюзиях, очарованиях и заблуждениях прошлого, от которого решено было отказаться. Это вошло в привычку, если не превратилось в новоприобретенный инстинкт.
Вторые похороны Самуила Ароновича Лурье тянутся уже больше пяти лет. Так мне казалось в начале работы над сборником, когда многие, к кому обращался, вяло соглашались и не перезванивали, отговаривались, пропадали и даже твердо отказывались от участия в книге воспоминаний.
Это сопровождалось нулевым упоминанием его имени в СМИ и отсутствием новых изданий. Наконец издательство «Время» выпустило книгу «Химеры» (2020), состоящую из произведений, которые Самуил Лурье отобрал перед смертью. Но и той пришлось ждать пять лет.
Возможно, следы памяти круто поменяли направление и искать их нужно не на книжных прилавках и журнальных страницах, а в социальных сетях, то есть, по прежним меркам, на улицах и площадях. Однако боюсь, что это утешительное предположение из арсеналов той культуры, которая на площадях сейчас и заканчивает свой срок.
Иосиф Бродский, возможно, с чрезмерным пафосом, но справедливо заметил: «…Россия, в отличие от народов счастливых существованием законодательной традиции, выборных институтов и т. п., в состоянии осознать себя только через литературу, и замедление литературного процесса посредством упразднения или приравнивания к несуществующим трудов даже второстепенного автора равносильно генетическому преступлению против будущего нации».
У поэта речь о текстах. Это как будто не связано прямо с нашей книгой – книгой воспоминаний. Но нет, связано. Возвращаясь памятью к умершему писателю, мы, как по литераторским мосткам, неизбежно приходим к его живым текстам. Об этом у Самуила Лурье в повести «Меркуцио»: «Была у меня такая блажь, я иногда ей предавался: навещать якобы умерших якобы моих персонажей. Литераторов. Тех, про кого по-настоящему думал. Пытаясь вызвать и возвратить. Да, самое большее – на какую-нибудь минуту. Да, только в мое воображение. Полагаю, впрочем (да и просто верю), что пребывание человека даже в одной чьей-нибудь не его голове, даже всего лишь в качестве субъекта неких грамматических конструкций, реально и резко отлично от распыления, от растворения, от исчезновения в Ничём с координатами Нигде и Никогда».
Без этого усилия памяти сам предмет нашей любви тускнеет, теряется и приходит в негодность. Его реальная особенность и уникальность изживаются без переживания. Получается такой скрытый оксюморон, внутри которого пребывает бо́льшая часть человечества еще при жизни литератора. А уж после его смерти… Ладно Пушкин – укоренился, по крайней мере, в трамвайной перебранке. Другим хуже. Очертания стираются, имя подтекает, письма посылать некому или некуда.
Одно такое письмо все же нашло С. Л. Эссе известного критика и историка литературы было напечатана в журнале «Знамя» (2012. № 9). Называлось оно «Мастер», и был ему предпослан двусмысленный эпиграф: цитата из телефонного разговора Сталина с Пастернаком о Мандельштаме. Претензии к герою эссе высказаны в первых же строках: не открыл нового Гоголя, не разрушил ни одной дутой репутации, не создал своего литературного направления, не воспитал учеников, не выработал собственную эстетическую концепцию. «Его статьи, рецензии, книги – отнюдь не энциклопедия русской (ну пусть только литературной) жизни.
И отнюдь не депо крылатых слов, новых терминов и понятий, которые с непременной ссылкой на него вошли бы если не в общелитературный язык, то, по крайней мере, в профессиональный жаргон нашего цеха.
Пишет, правда, хорошо.
Может быть, лучше всех».
То есть мастер. Однако мы помним, что́ на это Пастернак ответил вождю. Вот именно.
Можно было бы возразить автору по пунктам.
Не выработал эстетическую концепцию? Выработал. Однако у Чупринина ведь сказано: «полномасштабную». Тексты Лурье не энциклопедия русской жизни? Да, не «Евгений Онегин». Хотя и «Евгений Онегин» не энциклопедия, и само это образное выражение сохранно лишь благодаря пропитавшей его состав «бессмертной пошлости». «Не депо крылатых слов»? Да нет, думаю, именно что депо. Но пусть все же это решит будущее. Как и то, насколько вообще плодотворен такой номенклатурный подход к автору.
Лурье ответил. В своей манере. Вернее, так он определяет манеру любимого им Меркуцио: «Шутит – в предпоследний раз – практически как сам Шекспир: устройство шутки настолько затейливо, что пересказывать – ищите другого зануду. Как бы карикатура и вместе как бы автошарж, прямо на поверхности кривого зеркала, – а заодно (и явно не по собственному желанию) самому себе надгробное слово».
О затейливости шутки судите действительно сами (ответ и правда написан за два года до смерти автора). Вот несколько фрагментов: «Ну, допустим, – мастер. Но мастер чего? – позволительно спросить. И немедленно ответить: мастер составлять предложения, вот он кто, ваш С. Л. Чемпион по синтаксису, если угодно. ‹…›
Вы говорите: пишет (вообще-то правильнее: писал) чуть ли не лучше всех. Кого – всех? Других критиков? Какой он критик? Он ворон. Не способен составить простейший ряд из трех фамилий. Не видит течений, не верит в направления, не обобщает, не предсказывает, никакой не стратег, ни разу не тактик. Рецензент-одиночка. Попросту – читатель, владеющий слогом. На черта ему слог?
Рецензия, написанная излишне хорошо, – плохая рецензия. Сливной бачок не должен быть красив. ‹…›
Мнимый, стало быть, рецензент.
К мертвым – да, внимательней; да, участливей. К их текстам – горячей. Возможно, ему разок-другой посчастливилось, и кое-какие гипотезы окажутся когда-нибудь разгадками каких-то тайн. Но – окажутся, нет ли, а высказаны они (про “Капитанскую дочку”, про “Бедных людей”, про “Нос”, про “Дон-Кихота”) так давно, что уже теперь сделались как бы ничьи.
Несуществующий, короче, филолог.
Беллетрист – сомнительный. Да, кое-кого вытащил (на полстолетия, в лучшем случае) из скуки ада, из ада скуки. Дмитрия Писарева, например. И Николая Полевого. Но сам уйдет туда безвозвратно. Ненастоящий был писатель. Несамоутверждающий. Без рокового заблуждения. Без ключа. Говорил о других, чтобы не думать (и промолчать) о себе, – вот и всё».
Возможно, что и эпитет «великодушный», которым Лурье наделяет текст Чупринина о себе, тот примет в его словарном значении. Дело вкуса. Для честности хочу добавить, что эссе «Мастер» и ответ С. Л. предоставлены для сборника самим С. И. Чуприниным.
Я остановился на этом подробно не для того, чтобы полемизировать с Чуприниным. Важно другое: претензии посланы не по адресу. Глядишь, в памяти читателя и закрепится только: жил-был критик.
Самуил Лурье, как он сам выразился, ни разу не критик. Обидно, если эта ошибка восприятия превратится в устойчивое заблуждение памяти.
Во второй половине XX и начале XXI века в России жил писатель Самуил Лурье. Не навязываю никому своего определения: на мой взгляд, выдающийся. Он из того ряда авторов, которые писали о литературе, литераторах, исторической культуре отважно и честно, как могут позволить себе только художники, и только те из них, кого не задел вирус бронированного академизма. Ряд впечатляет: Розанов, ранний Чуковский, Иннокентий Анненский, Блок, Цветаева, Мандельштам, Тынянов, Пастернак, Мирон Петровский, Иосиф Бродский… Преимущество за поэтами, замечу. Они и положили начало новой русской прозы нового века.
Литературное наследие Самуила Лурье чрезвычайно разнообразно. И в жанровом отношении, и вследствие того, как менялся с годами сам автор. Определение жанра, впрочем, уже в прошлом веке потеряло свою актуальность. Чем точнее пытается быть автор, тем чаще сталкивается с казусом. Так Берковский в порыве первооткрывателя причислил однажды стихи Мандельштама к «художественной критике»: о театре, о кино, о живописи, о книгах. Тут впору вспомнить фразу Ф. Шлегеля: «Каждое поэтическое произведение – само по себе отдельный жанр».
О характере новой прозы высказался однажды Б. А. Филиппов в предисловии к американскому изданию Мандельштама. Многословно, с неоднократными «не», но, по крайней мере, честно: «Повествование, лишенное – в старом смысле слова – фабулы, но повествование всегда многоплановое, полифонически построенное, да вдобавок еще – со старой точки зрения – “смешанного жанра”: не повесть и не очерк, не эссей и не новелла, не путевые записки и не художественная критика: все или почти все это – в одном произведении, условно носящем название “проза”».
Механические критерии и заранее настроенный инструмент тут не годятся. Традиционный роман «Литератор Писарев» и фрондерские тексты С. Гедройца требуют от критика перенастроить оптику. Портреты Анненского, Фета или Блока написаны, скорее всего, по законам поэзии, в отличие от беллетризованных исследований о «Капитанской дочке» и «Бедных людях». Эссе о возможном приезде в Россию Буша сочинено в ритме джаза. Что уж говорить об «Изломанном аршине»! Симфония, научный трактат и одновременно лирическое высказывание. Образы многих хрестоматийных литераторов возмутительно неординарны: Пушкина, Вяземского, Белинского, Герцена. Но странно и непродуктивно объяснять это ошибкой или неосведомленностью историка литературы. Тут тот самый случай, когда произведение художника надо судить по законам, им созданным.
Это ни в коем случае не означает благодушия. Напротив, с Лурье надо и спорить, и не соглашаться. Он весь полемичен и только и ждет ответного удара рапирой. Тем более удручает молчание, которое последовало после его кончины.
Менялся его стиль и язык. Вначале он гордился тем, что научился писать единственными, точными словами. И тут же огорчался: этого мало. Нужны лишние слова, плеоназмы. Возьмите Гоголя, Салтыкова, Зощенко.
Потом стиль стал меняться. Самуил Аронович мечтал о большой аудитории. Для этого хорошей площадкой были газеты: «Невское время», «Час пик», «День». Для журналов на подмогу выписал молодого учителя из провинции С. Гедройца. Началась эпоха того, что Мандельштам называл «железнодорожной прозой». Разговорная и вульгарная лексика, канцеляризмы, бюрократизмы, даже фразеологизмы «Правды». Все, разумеется, в ироническом ключе. И все очень серьезно. Не помню, о ком Лурье сказал: «Он серьезен, как все по-настоящему остроумные люди».
К нему это относится в полной мере. Он был блистательно остроумен, необыкновенно требователен и серьезен в отношении к другому человеку, к себе и своему поведению, к литературе, к любому тексту. Как я написал однажды в рецензии на его книгу «Муравейник»: «Похоже, есть у этого автора в Гамбурге личный счет». Ни прекрасный стиль, ни близость взглядов не соблазняли его. Только подлинность, только правда. В том числе не психологическая лишь, но и фактологическая. Даже в «Медном всаднике» он нашел «выдумку» против воспоминаний очевидцев знаменитого наводнения, которая понадобилась Пушкину для ускорения и драматизации повествования.
Самуил Лурье знал себе цену. Не мнил себя, а знал цену. Сознавая скромность своего реального положения в литературе. Скорее недооценивая, чем переоценивая масштаб своей аудитории. И тем не менее…
Однажды я спросил его: «Вы боретесь с бессонницей детективами. Читаете быстро. Не один, а, может быть, и не два за ночь. Но время до сна все равно остается. Чем заняты тогда?» Он ответил: «Сочиняю нобелевскую лекцию». И было это меньше всего похоже на остроумие.
Многие мои друзья и коллеги участвовали в создании этой книги. От стадии замысла до стадии завершения со мной рядом была Елена Скульская. Вместе мы решали и человеческие, и литературные, и даже технические проблемы. В разное время, в разных вопросах и при разных обстоятельствах я чувствовал поддержку и участие Андрея Арьева, Якова Гордина, Леонида Дубшана, Вадима Жука, Никиты Елисеева, Элы Карповой, Сергея Князева, Даниила Коцюбинского, Владимира Цивина. Всем им за это я искренне благодарен.
Николай Крыщук
Людмила Агеева. Дорога к истине
Как печально, что его нет. И письма его мы больше не получаем. И разговоров с ним не ведем. Нет его новых статей и книг. И все труднее объяснить, кем он был для нас. Почему его книги раскупались так быстро. И чем уж так интересен был загадочный «С. Гедройц».
Но есть у меня одно его письмо, где он считает, что я должна рассказать, как мы выпустили книжку С. Гедройца «Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма» (а все-таки успел он подержать в руках «Гиппоцентавра» и удовольствия своего не скрыл).
Весной 2005 года начал выходить в Германии журнал русской литературы «Зарубежные записки» (издательство «Партнер», Дортмунд). Первый номер открывался поздравлением генерального консула Российской Федерации: «Русский журнал в Европе – это еще один символ того, что мы все живем в одном европейском доме и все желаем этому дому мира и процветания». Редакция журнала тоже поздравила всех и объявила, что намерена печатать хороших писателей независимо от их географического пребывания. А еще – приветствуются все жанры. Но… только высокий литературный уровень! Однако очень скоро придирчивые редакторы обнаружили, что этот желанный уровень без авторов из России не сохранить, и обратились за помощью к друзьям и подругам. Так я стала представлять журнал «Зарубежные записки» в родном Питере, но издателей предупредила, что писателям в России надо платить гонорары: «В России сейчас трудно живется…» Издатели пообещали. Обещание выполнили.
В то время я довольно регулярно наведывалась в родной город. Помню, в редакции «Звезды» я встретила Самуила Лурье и попросила его поддержать «Зарубежные записки», дать что-нибудь из его текстов и для нашего журнала. Предупредила, что может быть и «повтор» – мы его знаем, читаем и ценим. Он очень легко согласился, пообещал и ничего не спросил про гонорар. Все прочие избранники игриво осведомлялись: «А гонорары-то вы платите?»
И уже осенью того же 2005 года в «Зарубежных записках», в книге третьей (журнал ежеквартальный), появляются два эссе Самуила Лурье: «История одного привидения» и «Шестьдесят шесть». В том же номере питерские писатели – Наталия Толстая, Александр Мелихов. Хочу упомянуть здесь еще одного автора, в то время жителя Германии, – Юрия Малецкого. В этом номере его повесть «Группенфюрер». Да, называю это имя. Чтобы не забыли. Лурье считал его истинным другом и замечательным писателем (см. письма Юрия Малецкого к трактату С. Лурье «Изломанный аршин»).
В марте 2006 года журнал «Зарубежные записки» напечатал веселый текст Лурье про петербургский (ленинградский) сепаратизм – «Флаг над Кунсткамерой». Студенческая игра, остроумный проект: развести мосты – Дворцовый, Лейтенанта Шмидта, Тучков и Строителей (такие тогда у мостов были названия), «поднять над Академией Наук либо над Кунсткамерой флаг Вольного Васильевского Острова».
Раз в год я обычно прилетала в родной город. Встречи, разговоры, «пять минут освежающей сплетни», наслаждение русской речью. Для питерских авторов «Зарубежных записок» – заветные конверты: послания от издателей и редакции. Запечатанные конверты, на конверте фамилия автора. При мне авторы-друзья никогда конверты не вскрывали, просто опускали в карман или сумочку, радовались, благодарили (за что? – вопрос). За эту приятную суету и радостные встречи меня включили почему-то в состав редколлегии, а до той поры я была обыкновенным простым автором хорошего журнала «Зарубежные записки».
С Лурье мы встречались у входа в Дом книги или у выхода из метро «Невский проспект», пили кофе, гуляли вдоль канала Грибоедова, мимо Спаса на Крови, мимо Михайловского замка, через мостик, мимо Летнего сада, в сторону редакции «Звезды»… Как много он мне рассказал про мой город! Например, про замечательное оптическое явление, которое я никогда не наблюдала (и вряд ли теперь увижу). Мы остановились, и он мне рукой показал, какие именно шпили соединяются. Привожу цитату (нашла потом в его «Муравейнике»): «А просто смотришь – прекрасно, фасады отражают солнце, и Нева блестит, – а иной раз можно увидеть, как солнечный луч тугой золотой нитью соединяет шпиль Крепости со шпилем Замка: летом на закате случается такое поразительное мгновение». Летом на закате! Попробуйте».
2006 год. Я в Петербурге. Конец ноября, почти зима. Такое время в родном городе, когда даже и не рассветает – просто одна темнота сменяет другую. И снега никакого еще нет. Но были у меня такие обстоятельства, всякие личные намерения. Вот и с авторами «Зарубежных записок» пришла пора повидаться. Довольно удачно со многими уже встретилась. А вот с Лурье не получалось. Не получалось – и всё. Как-то встречи наши постоянно переносились. Но однажды он просто идет мне навстречу по Большому проспекту (Васильевский остров). Неожиданная случайность, радостный вскрик. И пока я ищу в потайном отделении моей сумки предназначенное ему послание, он участливо интересуется:
– Что же вы в такой грустный месяц прилетели в Питер? Темно, холодно, уныло…
Наконец извлекаю его конверт. Поясняю:
– Так уж получилось, семейные дела. И еще книжка у меня здесь вышла… Встречалась с издателем, забрала свои книжечки, сколько-то они мне выделили…
– О, книжка вышла! Поздравляю!
И тут я произношу что-то странное и для меня самой неожиданное:
– Я ее вам даже не предлагаю. Представляю, как вас одолевают тщеславные авторы…
– То есть как это… Как? А я вот именно что – прошу.
Развожу руками. Ну нет у меня с собой книжки, на рынок я иду, на Андреевский. Из последующего разговора выясняется, что еще раз нам встретиться затруднительно.
– А в «Звезде» вы будете?
Отвечаю, что я в «Звезде» уже побывала. Он задумывается, что-то припоминает и говорит:
– Постойте… там у вас конвертик для Саши Мелихова. Вы же должны с ним повидаться? Вот ему для меня книжку и передайте.
На том и сговорились. И Александр Мелихов честно и аккуратно мою книжку «В том краю» (изданную в издательстве «Алетейя») Самуилу Ароновичу передал. Видимо, это был уже декабрь 2006 года.
Возвращаюсь в Мюнхен.
В начале февраля 2007 года получаю письмо от Ларисы Щиголь (зам. главного редактора «Зарубежных записок»): «Привет, Милочка! Пересылаю как есть. Радуйся жизни и не сердись на меня. Рамочку подберешь на толкучке».
(Почему – «не сердись»? Были какие-то внутриредакционные споры – я тогда уже была членом редколлегии. Про рамочку – предлагается, видимо, часть письма распечатать и повесить на стену.)
Это письмо Самуила Лурье, где он пишет про свои печальные семейные дела, про болезнь матери, про невозможность побывать на встрече в Москве, про ночные дежурства в больнице. Далее такие слова: «А вот зато в больнице ночами я прочитал, наконец, книжку Людмилы Агеевой – и она понравилась мне чрезвычайно. Замечательно выдержанный слог – практически волшебный, обладающий собственной душой. Я тогда же хотел ей написать, но вблизи компьютера теперь оказываюсь редко и поздно, когда слова совсем не слушаются и не находятся вообще, вот как теперь. Если это удобно, скажите ей, пожалуйста, что я читал ее книжку с настоящей радостью и с благодарностью за эту радость».
Мой немедленный ответ дорогому и великодушному редактору: «Прочитав слова Лурье, некоторое время бегала по комнате, приговаривая что-то несвязное. И вдруг вспомнила своего внука, который в Новый год получил необыкновенно щедрые подарки (была в гостях дополнительная бабушка из Питера). И вот он разворачивает эти свои мечты и приговаривает: “О, нет, я этого не стою, я ничем этого не заслужил, я ничего такого не сделал, чтобы…” Вот так приблизительно и я…»
Ранней осенью 2007 года Самуил Лурье прилетает в Мюнхен. Останавливается, если я не путаю, у Алика Мильштейна. Встречаемся у Ларисы Щиголь – у нее всегда тепло, вкусно, интересные разговоры. Совсем небольшая компания – Борис Хазанов, Майя Туровская, Самуил Лурье, Ирина Стекол, хозяйка дома и я. Расходимся поздно.
Сидим вдвоем с Лурье в почти пустом вагоне метро. Он упоминает какую-то рецензию на мою книжку в новом питерском журнале. Рецензия ему не понравилась. Назвал автора и какой именно журнал, я не запомнила. Советовал спокойно относиться к любым отзывам. Критика – это всегда хорошо, хуже, когда полное равнодушие и нет никакой реакции. И вдруг говорит: «А вот я велю этому парню, Гедройцу, написать».
И Гедройц подчинился и напечатал в известной рубрике «Печатный двор» в журнале «Звезда» (ноябрь, 2007): сначала упомянул в моей книжке «Интонацию ума», «которая завлекает. Представляясь обращенной лично к вам». Далее следует длинная цитата из рассказа «Феномен хронопаузы» и ставится диагноз: «Это проза сугубо петербургская. Не только по узнаваемым реалиям. Такая в ней меланхолия и тревога. Такая привычка к миражам. ‹…› читатель ‹…› чувствует себя одним из ее действующих лиц и конфидентом автора. Своим в этом мире одинаково одиноких. Идет, никуда не спешит, смотрит по сторонам».
И снова осень. Прекрасная! Год 2010-й. Как всегда, много гуляем по городу. Сидим в привычном кафе на канале Грибоедова, напротив Дома книги. Выполняю редакционное задание. Отдаю конверт, рассказываю мюнхенские новости, у него в Мюнхене много друзей. Он называет меня уже просто – Мила (не помню, осмеливалась ли я уже говорить ему «Саня», в последующих письмах все-таки только «Самуил Аронович»). Спускаемся вместе в метро. Стоим на платформе. И вдруг я спрашиваю: «Где же новая книжка Гедройца? Публикации его закончились в “Звезде” в 2009-м. И всё? Так хочется книжку, бумажную». Он разводит руками и говорит, что не получается книжка – деньги кончились. Я в ответ (точно помню, что очень быстро): «А давайте сами издадим». Смотрит на меня, медлит, спрашивает: «Как?» Отвечаю: «Как раньше издавали, по подписке…» Пытается скрыть раздражение: «Да вы не умеете это делать». Никогда не слышала у него такого тона. Отвечаю спокойно: «Но попробовать ведь можно…» Подходит мой поезд, прощаемся, еду к себе на Васильевский.
И в тот же вечер я в компании друзей-физиков рассказываю про идею издать то, что всем нам интересно. «Да я первый подпишусь!» – даже не дослушав меня, поднимает руку Сан Саныч. За ним и остальные. Сейчас уже точно не помню – восемь или девять участников, в один вечер, в одном месте. Имена их сохранились в старом компьютере. Дальше в Питере все развивалось почти без моего участия. Просто какая-то цепная реакция! Нашлись чудесные, умные, образованные и веселые люди. Решили: сделаем себе такой подарок.
На следующий день позвонила Лурье. Во всем призналась и все ему рассказала.
А потом я улетаю в Мюнхен с тайной мыслью продолжить эту цепную реакцию за рубежами Отечества.
(Ан нет – эта реакция уже идет и почти без моего участия.)
Прилетела, вошла в квартиру. Едва поставила чемодан, раздается звонок. Обычный стационарный телефон. Лариса Щиголь, уважаемый редактор: «Так! Агеева, ты тут издаешь Лурье (кажется, она сказала: “Собираешь на…”). А я ничего не знаю…» Вот так. Начинаю оправдываться. Лариса – дама строгая, голос раздраженный. Вычисляю, что она от самого Лурье и узнала. Письма летят быстрее, чем самолеты.
Вскоре (16 ноября) и я получаю от С. Л. такие слова – поверил все-таки в известность Гедройца и собственную популярность: «Жаль, что не перемолвились перед вашим отъездом. Насчет Гедройца – я точно знаю, что он хотел бы издать вторую часть (первая разошлась). И тексты собраны и оцифрованы, только надо вычитать. Но как реально осуществить?»
Далее С. Л. почему-то беспокоится о человеке, который даст деньги, а получит их обратно очень нескоро. То есть потерпит неизбежный убыток. «И мысль об этом будет отравлять Гедройцу жизнь, обременяя его молодую совесть. Вот как смотрит на это он. А что имели в виду Вы? В любом случае это приятный разговор…»
В конце 2010-го и начале 2011 года получаю от С. Л. письма вполне деловые (одно за другим) – обсуждение технических деталей, подсчет авторских листов и даже учетно-издательских, где издавать и проч. Вплоть до обложки. И главное – стоимость издания («Пиастры, пиастры!»). И снова – про возврат денег подписчикам. Видимо, я плохо объясняла намерения подписчиков: никакого возврата денег они не ждут, а просто хотят, чтобы в природе существовала новая книжка С. Гедройца. Одно из писем (4 декабря 2010 года) с тщательными расчетами и с предлагаемым выбором издателя заканчивается такими словами:
«Очень и очень благодарю Вас. Но окончательного решения пока не принял: боюсь сам оказаться (и Вас – и благожелательных подписчиков поставить) в каком-нибудь ложном положении. Боюсь разочаровать читателей. И вообще.
У нас грязный снег и мокрый ветер, а новости – сплошь уголовный абсурд.
Спасибо и спасибо.
Ваш С. Л.»
После довольно длинной переписки Самуил Аронович в качестве издателя предлагает Арсения Шмарцева («Прочтение») и пишет о нем добрые слова: «…человек молодой, относится ко мне с пиететом и симпатией, не гонится за собственной выгодой…» И в том же письме (4 декабря 2010 года) предупреждает меня об особенностях российского бизнеса: «Совсем недавно тоже молодой, тоже симпатичный, почтительный и по презумпции порядочный нанял меня преподавать технику текста, собрал с желающих деньги, мне (и другим преподавателям созданного им предприятия) не заплатил, – и я полгода отрабатывал этим слушателям украденные у них деньги».
Мне и раньше были известны такие истории. И знаю, каким незащищенным он был перед тихой подлостью и наглым обманом. Но… других хотел предостеречь и защитить. До сих пор удивляюсь, почему меня не пугали его рассказы. Возможно, просто легкомыслие. Ничего особенного я не делала, никаких усилий с моей стороны. Откуда-то появлялись друзья, знакомые, совсем уже неизвестные мне люди. Например, добрый человек Женя Стародубцев принес взнос не только от себя, но еще от каких-то немецких любителей русской литературы. (К слову, было резкое требование: у немцев деньги не брать. Ну был среди подписчиков один такой голос; живет человек в Мюнхене, не любит немцев, а русскую литературу любит. Я внимания на этот голос не обратила и даже С. Л. ничего не рассказала.)
И в том же письме Самуил Аронович продолжает напутствовать: «Вам надо хорошенько подумать, прежде чем пускаться в такую авантюру: попытаться сделать в РФ что-то нормальное законным путем. И я тоже оставляю за собой право все остановить, если увижу, что проект дорогой и введет Вас и Ваших друзей в серьезный расход. Лучше бы не пробовать. В любом случае – огромное спасибо».
И прилагается адрес Арсения Шмарцева. Забегая вперед, скажу: А. Шмарцев оказался исключительно благородным и порядочным человеком. У меня сохранилась вся наша с ним переписка. И все его расчеты. Очень скоро он предложил добавить собственные средства, если не будет хватать на издание.
«Счастливого Нового года, дорогая Мила! Здоровья, денег и удач!
Что касается денег. А. Ш. позвонил и предложил добавить нужную для его расчетов сумму от себя – с тем, чтобы я уступил ему все тексты Гедройца для предполагаемых электронных книг. Я согласился – пусть это будет и мой вклад в Гедройцеву популярность» (1 января 2011 года).
И в конце звучит все тот же мотив: «Благодарен Вашим (и моим, значит) друзьям. Но и очень смущен. Всю дорогу говорю своей совести: о чем ты беспокоишься? ты же чиста, это чисто литературный проект, никакая выгода тебе не угрожает. Но душа все равно немного не на месте: вдруг кто-то подумает и потомкам сообщит что-нибудь такое, типа он был алчный побирушка, тщеславный иждивенец читателей и т. п. Придется Вам, Милочка, хотите не хотите, оставить мемуары. Кстати, я думаю, что это нужно не только мне… Разумеется, книжка, если она выйдет, будет доставлена каждому вкладчику. Только нужен список с адресами. Спасибо и спасибо».
Пропускаю несколько писем С. Л. – это повторение благодарностей всем друзьям и подписчикам, упоминание некоторых деталей издательского процесса. Пропускаю мою переписку с Арсением Шмарцевым…
Несколько писем Лурье (совсем коротко) все-таки приведу:
«Да, дорогая Мила, Ваша идея, как это ни странно, начинает претворяться в жизнь. Во всяком случае, текст составлен и отправлен. Разумеется, все вкладчики (Л. Романков сказал, что у него имеется список) получат книгу, и, конечно, с автографом» (15 февраля 2011 года).
«Дорогая Мила, наконец, это случилось. Ваша идея сработала, книжка сегодня вышла и лежит передо мной. (Ну, Вы знаете, как смотришь на только что вышедшую книгу: с отчуждением, близким к разочарованию. То есть издано превосходно, а текст недостаточно силен. Книжка как книжка, мало ли их.) Огромное спасибо Вам за эту удивительно небанальную идею, за истинно дружеский, настоящий литературный поступок! Огромное спасибо Геннадию Моисеевичу, и Ларисе, и Майе Беленькой, и Жене Стародубскому, и Юрию Малецкому, и всем, всем здешним и заграничным великодушным спонсорам!
Пришлите мне, пожалуйста, адреса, по которым можно выслать каждому из них книжку и что-то написать, чтобы выразить мою растроганную благодарность… Согласно договору в мое распоряжение поступает 500 экз. Редакция “Звезды” выразила готовность их реализовать» (22 июля 2011 года).