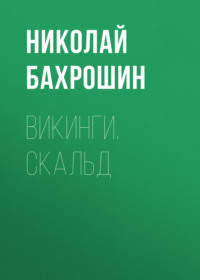Kitobni o'qish: «Викинги. Скальд»
© Бахрошин Н., 2013
© ООО «Издательство «Яуза», 2013
© ООО «Издательство «Эксмо», 2013
Пролог
Старик умирал долго и трудно. Хрипел на лежанке, вздрагивал впалой грудью, тяжело, с клекотом втягивал воздух, будто силой заставляя себя дышать. Неожиданно он начинал метаться, бормотать неразборчиво, почти сбрасывая на пол истертый покров, шитый из волчьих шкур. В такие моменты Ратень не отходил от него, смачивал водой сухие, горячие губы, прорезанные, как ранами, глубокими черными трещинами, или просто придерживал за костлявые плечи, чтоб не скинулся на студеный пол.
Временами старый отшельник совсем затихал, и волхву казалось, что все, кончается, дух, наконец, выходит из тела. Но Хорс-солнце, златоликий бог, в который раз приносил свет на землю и снова отправлялся ночевать в закатный чертог, а старик еще жил.
Каким чудом? Только волей, пожалуй. Ею держится, понимал волхв. Иссохшее, но все еще сильное тело никак не отпускает дух от себя.
Волхву оставалось только сидеть рядом, терпеливо ждать прихода темной богини Мары-смерти. Слушать, как воет над тесаной крышей северный ветер Позвизд, самый могучий из семи старших ветров Стрибога.
Что еще услышишь в глубине безлюдного, «черного» леса? Лишь монотонный вой ветра, глухие обвалы снежных шапок, срывающихся с ветвей, да громкие хлопки деревьев, лопающихся от прикосновения ледяных пальцев Карачуна-мороза. И, временами, заунывные песни волков, жалующихся на голод и холод своему пращуру – Большому Небесному Волку.
Изба была маленькой, бедной, скатанной небрежно, как будто наспех. Клали, по всему видно, из сырого дерева, со временем между бревнами обнажились крупные щели. Их забили ржаво-белесым мхом, замазали глиной и на том успокоились. И утварь в избе грубо тесанная, без обычных резных украшений. Настоящий хозяин постесняется такую держать – засмеют. Мол, что это за хозяин, если не может покрыть узорами свои ложки-плошки? Красивые вещи приятны глазу и угодны богам – так говорят.
Даже днем внутри избы сумрачно, единственное оконце по зимнему времени затянуто куском полотна. Чуть-чуть света дает печь-каменка, бросая из топки багряные отблески, да еще меньше пробивается сквозь щель для вытяжки печного дыма, оставленную между скатами крыши. Когда дым начинал совсем уж щипать глаза, волхв вспрыгивал на лавку, расчищал щель от снега черенком деревянной лопаты.
«Слишком дымная каменка, переклада требует… Да и все тут просит приложить руки – совсем худое жилье, – неторопливо размышлял Ратень. – А уж для того, кем был когда-то лесной отшельник, – вообще не жилье, так, конура для собак… Надо же, как боги-то распорядились – умирать ему в непролазной глуши под песню волков и завывание метели. Кто бы знал наперед… А метель-то, пожалуй, разошлась не на шутку, сыпет и сыпет, и конца ей не видно. Опять метель, опять занесет до верхних венцов. Снова нужно будет снимать дверь и откапываться изнутри, уминая снег…»
Сидел. Наблюдая за стариком, стараясь не спать. Ждал, клевал носом, сам часто не понимал – дремлет или думает.
Бессонные дни и ночи рядом с умирающим привели его в странное состояние. Все сплеталось перед глазами – лица, события, времена. Колдун Черный Яремь, Сельга, Тутя, Олесь, родичи живые и родичи мертвые – все оказались вместе и все – словно бы рядом. И не сон, и не Явь, а между ними, будто дух его, как и у старика, начал отрываться от тела, соскальзывая в причудливую, туманную Навь, мир нежити и бестелесных сущностей. В Нави, известно, Река Времен течет по-другому, по-своему, так заплетаясь изгибами от прошлого к будущему, что не разберешь.
Нет, умом волхв осознавал, что сидит в избушке отшельника, топит каменку, коротает время у лежанки больного. И, в то же время, чувствовал, как будто уже не здесь… Вот он опять гладит густые, смоляные кудри любимой Сельги, впивается взглядом в бездонную синеву строгих глаз… А вот он оставляет желанную, чтобы долгие месяцы идти по следам черных колдунов… И настигает их, и убивает одного за другим. Он, белый волхв, воин Светлых Богов, мстит за зло, за Тутю-Молчуна, за маленького Сванечку, за Кутрю, за остальных…
– Проклинаю тебя! – сказал тогда Черный Яремь. – Проклинаю тебя, и род твой, и родичей твоих, прошлых и будущих!
Его змеиные, ненавидящие глаза сказали еще больше. Кололи, как копья.
А Ратень словно бы снова приближается к нему. Устало, брезгливо толкает плечом, опрокидывает на землю, передавливает шею посохом, выжимая из тела жизнь. Колдун дергается, хрипит, выкатывает глаза, а Ратню все слышится в его хрипе:
– Проклинаю тебя! Все равно умрешь, сгинешь скоро! Умрешь! Проклинаю!
Придави змею ногой, она и укусит тебя напоследок – кто этого не знает?
Впрочем, тогда он не слишком задумывался об этом. Погоня за колдунами завела его в такие далекие дебри, что нужно было выбраться хотя бы до зимы – вот что его заботило. В «черном» лесу по Морене-Зиме без всякого проклятья сгинешь.
Белые мухи уже вовсю хороводились над деревьями, когда волхв почуял в воздухе горьковатый привкус печного дыма. Так, по нюху, набрел на избушку старого лесного отшельника, по ноздри заросшего седым, диким волосом.
Старик принял нежданного гостя радушно, по обычаю. Расспрашивал про житье-бытье, про поличей, про другие роды, про жадного князя Хруля, нового владетеля Юрича. Ратень честно рассказывал все, что знал, а отшельник слушает не отрываясь, словно не мог наслушаться человеческой речи.
Волхв сразу увидел, что хозяин тяжело болен. Дрожит руками, трясется в ознобе по вечерам, кашляет так надсадно и часто, что, наверное, медведи в берлогах ворочаются от беспокойства. Ратень сначала думал – отдохнуть, отъесться, разжиться припасами, смастерить широкие лыжи, да и двинуться дальше на юг, к Сельге, к родичам. Но скоро лесной отшельник окончательно слег без сил. Как его оставить…
* * *
Ратень не взялся бы определить, сколько дней и ночей продолжалось его дремотное бдение рядом с умирающим. Казалось – долго, бесконечно долго.
Как-то раз он очнулся от дремы, почувствовав, что его зовут.
– Ратень, Ратень, Ратень…
И он ясно слышал – зовет кто-то, понимал это сквозь вязкое забытье. Только никак не мог разомкнуть тяжелые, набрякшие веки. Вдруг показалось, что это Сельга, любимая зовет его, ее звонкий голос звучит в ушах.
Волхв дернулся, замотал головой, открыл глаза и тут же наткнулся на взгляд старика.
– Ратень, Ратень… Да проснись ты, что ли… Вот здоров спать…
Несмотря на сумрак в избе, волхв отчетливо различил тень Мары-смерти, накрывшую бледно-серое, без кровинки лицо. Если раньше богиня лишь трогала старика холодными пальцами, то теперь – окончательно положила на него темные крылья. Значит, совсем скоро, это видно…
Только глаза оставались живыми, осмысленными. Смотрели умно и пристально, словно требуя что-то. И губы шевелились, выговаривая его имя.
– Ратень, Ратень… Слышишь ли меня? – голос слабый, но вполне отчетливый.
– Слышу тебя, князь Добруж! – откликнулся, наконец, волхв.
Старик надолго замолчал. Ратню даже показалось, что тот опять потерял сознание, вот так, с распахнутыми настежь глазами.
– Значит, узнал все-таки? – спросил старик. – Давно ли?
– Сразу узнал. Почти сразу, – поправился волхв. – Да и мудрено не узнать. Помню тебя, княже, еще по Юричу, хоть ты и постарел, конечно, и сединой оброс. В граде Юриче, среди гридней, я тебя не таким видел…
– А я и был не таким… Князь… – старик явственно пожевал губами, словно пробуя слово на вкус. – Был князь – ныне мордой в грязь… – бескровное лицо скривилось усмешкой – Чего ж не сказался-то, воин?
– Ты не назывался себя, не хотел, значит. Ну, и я молчал, – попробовал объяснить Ратень. – Думал, не к чему прошлое ворошить. Уж теперь-то…
Старик понял.
– Теперь… – повторил он. – Я умираю?
– Да, князь.
– Сделай что-нибудь, ты же волхв, ты же можешь! Вы, волхвы, ведающие, вы многое можете…
На этот раз волхв помедлил с ответом. Покачал головой, почесал давний рубец вдоль щеки, оставшийся еще с ратных времен.
– Многое, но не все, князь. Обратить судьбу вспять даже богам не дано, ты знаешь это…
Обманывать старика не хотелось. Пусть знает, если пришел в сознание, пусть готовит дух к последней дороге. Князя Добружа, бывшего владетеля града Юрича, во многом обвиняли за долгую жизнь, но его мужество даже враги признавали.
– Впрочем, какой ты волхв… – рассуждал Добруж словно бы сам с собой. – Пришел ко мне с рогатым посохом, а у самого рубаха в крови, и на портах кровь, и на шубейке… Разве волхвам можно так-то, чтобы в крови по колено… Как был воином, так и остался, наверное…
– Про то – пусть боги судят, – сухо заметил Ратень.
Князь, ехидна, всегда умел попасть пальцем в рану. Конечно, старый Олесь, наставляя Ратня на путь волхва, совсем другому учил – уж никак не рубить, не ломать шеи злым колдунам. Но как иначе, если сами боги когда-то повелели ему извести под корень вражье семя. Именно ему, бывшему удалому дружиннику, выпало совершить месть, вспомнив прежнюю воинскую сноровку.
Значит, так суждено!
– Выходит так, – подтвердил Добруж, словно бы отвечая его невысказанным мыслям. – Значит, кончается мой срок…
Ратень не сразу сообразил, что князь – о своем.
– Я снаряжу тебя на огненную дорогу, князь. Провожу с дымом на суд богов, – сказал волхв. – Это я могу тебе обещать.
– Так… Пусть будет так! – твердо сказал старик, на миг напомнив бывшему воину бывшего князя, одинаково стремительного на слова и дела.
Они опять замолчали. За стеной мерно, протяжно завывал ветер, и потрескивали поленья в огненной каменке. Темные, лохматые тени кривлялись на скобленых бревнах, отблески огня плясали на полу и стенах, дотягиваясь даже до лица умирающего. В какой-то миг Ратню показалось – князь подмигивает ему. Но это показалось, конечно.
– Ратень? Слышишь ли? – опять позвал князь.
– Я слышу.
– А сокровищницу мою свеоны все-таки не нашли! – неожиданно похвастался старый. – Град Юрич взяли, дружину побили, а казны в подвалах и не было… Хочешь знать, где она?
– Не хочу, князь! – Он почти рассердился. Добружу жить-то осталось считаные мгновения, одной ногой, почитай, уже на огненную дорогу ступил, а все о былом богатстве печется.
– Не хочешь? Врешь, наверное… Золото, серебро – его все хотят… Впрочем, ты – волхв, у вас – иное… – рассудил князь. – Хотя, все одно… Мне теперь золото ни к чему, а ты уж сам решай, что с ним делать…
– Не хочешь – не говори!
Ратень действительно в этот момент меньше всего думал о сокровищах. Известно, Велес Круторогий не просто так подсунул людям лукавое золото вместо честного, несгибаемого железа. Когда-то хитрый бог решил таким образом испытать роды человеческие, да переусердствовал.
– Не хочу, да. Но скажу. Умирая, не стану тянуть за собой тайну сокровищницы. Тебе оставлю, ты решай, что с ней делать… Я же помню, как ты когда-то пришел в Юрич воином, служить в дружине за серебро. А теперь, видишь, вся княжья казна тебе достанется, – вдруг добавил он едко.
– С тех пор прошло много лет, князь, – терпеливо напомнил волхв. – Ты стал другим, да и я тоже.
– Скажу! – повторил старик, как капризный ребенок. – Никому другому бы, а тебе – скажу! На излучине реки Лаги, напротив горы с тремя вершинами, тех, что похожи на лысые макушки, есть по левую руку по течению каменная россыпь на берегу… Слушаешь ли?
– Слушаю, князь.
– Слушай! Так вот, если откидать камни, под ними – лаз в пещеру. Лаз узкий, неприметный, но пещера большая, просторная, уходит глубоко в землю…
* * *
Князь Добруж не долго оставался в сознании. Скоро снова закрыл глаза и больше не открывал их. Не метался больше, просто бредил тихим, неразборчивым шепотом, похожим на невнятную жалобу опадающих листьев.
Волхв, как ни прислушивался, ни слова не разобрал. А когда в очередной раз вскинулся от наплывающей дремы, ему показалось, что в избушке стало совсем пусто и как-то слишком просторно.
Умер, значит, отошел духом! – понял Ратень, даже не глянув на старика. И Мара-смерть отступила, больше не бродила поблизости, шурша сухими темными крыльями. Получила свою поживу.
Как положено, Ратень прожил в избушке еще сорок дней. Держал в порядке лесное жилье. Вдруг дух хозяина еще захочет сюда вернуться? Рассердится, если увидит брошенную избу.
Он, волхв, хорошо знал – именно сорок дней и ночей отпущено духу умершего, чтобы без помех побродить по Яви, беспрепятственно заглянуть во все уголки, понять то, что никогда бы не понял при жизни. Уж потом боги пристально, до каждого мига, рассмотрят прошедшую жизнь и, смотря по заслугам, откроют перед умершим врата Прави, допустят достойного в светлый Ирий, или, наоборот, отошлют в подземное царство ксаря Кощея, к судье мертвых Вию, назначающему недостойным положенное наказание.
Кто знает, какая участь ждет бывшего князя, когда-то прославившегося воинскими победами, жестокостью и сребролюбием, а потом доживавшего свои дни отшельником в худой избенке, затерянной среди северного безлюдья? Много зла сделал князь со своею хмельной дружиной, многих убил, многие семьи осиротил, но и сам доживал свой век в одиночестве, оставшись сохнущим деревом без единого листика… Всех его близких вырезали свейские воины конунга Рагнара, род князя на нем и пресекся – это ли не наказание еще при жизни? И родичам-поличам Добруж принес много бед, железом рубил, данями обирал, а теперь вот все свое богатство оставил… Да, такую путаную, извилистую жизнь, где сплошь смешалось все – и подлости, и подвиги, и злодейства, и раскаяние, только боги смогут рассудить, это точно! – соглашался сам с собой Ратень…
Когда в воздухе повеяло теплом весны, волхв начал собираться в дорогу. Ночами еще примораживало, снег, оседая в ноздреватых сугробах, схватывался до твердого наста, зато днем Хорс уже припекал вовсю, лаская Сырую Мать-землю игривыми лучами. Было видно, что красавица Лелия, богиня весны, уже запрягает на далеком юге лебедей в золотую повозку. Можно уходить, день прибывает, да и на ночевке в лесу не замерзнешь, хватит обычного костра, чтобы обогреться.
Выполняя последний долг перед умершим, волхв принес его тело из холодного сарая в теплую избу, положил на лавку, накрыл шкурой.
От жилого тепла покойник быстро начал оттаивать, на сером, застывшем лице набухли крупные капли. «Словно плачет князь, – подумал Ратень. – Отрешился от себялюбия тела, увидел Явь с высоты богов и жалеет теперь о том, что не сбылось и не удалось…»
Кто знает…
Оставив тело лежать, Ратень вынес из избы вещи в дорогу – котомку с припасами, топор, широкие лыжи, подбитые снизу коротко, стриженным мехом. Вернулся, в последний раз посмотрел на умершего, зачем-то поправил сползавший покров. Потом начал выгребать из печи горящие поленья и, прихватывая рукавицами, раскидывать их по углам.
Избушка сразу наполнилась едким, сизым дымом. Огонь, обрадовавшись свободе, хищно облизал углы и скудную утварь первыми рыжими языками. Пусть последнее жилье князя станет ему погребальным костром…
Ратень уже далеко отмахал, шаркая лыжами по твердому насту, но, оглядываясь, все еще видел над верхушками деревьев густой столб дыма. Потом перестал оглядываться.
Шел и думал о том, что нежданно-негаданно оказался хранителем тайны княжьего клада. Не легкий груз… И одновременно весело предвкушал, как вернется к родичам, как обнимет Сельгу, любимую, как потискает мальца Любеню. Малому, Ратень твердо решил, он станет вместо отца, научит всему, что нужно знать мужику.
И ноги сами поддавали ходу, руки сильнее отталкивались посохом, глубоко пробивавшим твердый, крупно ломающийся наст.
Вот о проклятии Черного Яремя он точно не думал, не вспоминал даже. И потом не слишком-то вспоминал. Откровенно сказать – надеялся на свои обереги и на помощь богов.
Может, слишком надеялся. Известно, проклятие колдуна – как яд, его не чувствуешь, а оно уже разъедает тебя, точит изнутри, словно жук дерево.
Глава 1
Заклятие Велеса
К берегу правят
Ладьи боевые,
Моря олени, —
Длинные реи
Гладкие весла,
Щитов там сотни, —
То войско морское…
Первая песнь о Хельги, убившем Хундинга. X в. н. э.
1
– Любеня, беги! Спасайся, сынок, в лес беги!
Голос волхва доносился до мальчика словно издалека. Хотя и расстояние вроде невелико, и ветра нет, чтобы относить звуки в сторону. Это он успел подумать.
Стоя у воды, на самом краю песчаного плеса, Любеня видел, как дядька Ратень выбрался из кустов ниже по течению и теперь несется к нему, размахивая руками и рогатым посохом.
Отчетливо видел, как полощутся на бегу длинные, пегие пряди волос, как взъерошилась темная, с пятнами проседи борода и широко распахнулся рот.
Непривычная картина! Огромный, степенный волхв, познавший, кажется, все тайны Сырой Матери-земли и Высокого Отца-неба, прыгает суетливо и тяжело, как неуклюжая девчонка при игре в классики.
– В лес, сынок, в лес беги! – кричал Ратень.
А мальчик и рад бы бежать. И чувствовал, что надо, что нельзя стоять как пришитому, да только ноги не шли почему-то. Ослабли вдруг ноги, стали мягкими как поделки из свежей глины…
Семь раз встречал Любеня в белой Яви жаркое лето, семь раз провожал за край земель ледяную Морену-зиму. По собственному разумению, был мужиком почти взрослым, бывалым, хлебавшим из одного берестяного ковша с самим Лихо Одноглазым. Еще бы! Кто, скажешь, ходил по весне с охотниками шевелить в берлоге медведя-батюшку, добывая для рода мясо и нутряной жир? А кто поборол, кинул спиной на землю самого Затеню, задиристого малого четырьмя летами старше? А кто, спросишь, верховодил среди мальцов, всегда выдумывая для их ватаги новые игры?
То-то!
А тут – оробел вдруг. Будто оторопь напала, когда, спустившись к воде, наткнулся на корабль пришлых воинов-свеев.
Так и стоял, приоткрыв рот и раскачиваясь на ослабевших ногах. В оцепенении смотрел, как огромная ладья неторопливо наплывает на него смоленой деревянной грудью. И громко, отчетливо капает вода с приподнятых длинных весел, и презрительно скалится с высоты резная морда дракона с желтыми глазами, и белеют в распахнутой пасти кривые клыки из настоящей кости. Эти почти живые глаза, эти хищные клыки так и притягивали взгляд…
Едва рассвело, белесая туманная дымка тянулась обрывистыми клочками по червленой глади Лаги-реки, глушила звуки и делала все вокруг нереальным, словно он, Любеня, уже очутился в той самой загадочной Нави, про которую часто рассказывал дядька волхв. Казалось, эта гладко-черная ладья, и страшная морда чудища, и насмешливые, удлиненные железными шлемами лица свеев, уставившиеся на него поверх бортов, – все это только видится. Стоит встряхнуть головой, прикрыть глаза, произнести нужное, защитное заклинание, как учил волхв, – и наваждение растает само по себе.
– Любеня, сынок, спасайся! Беги, малый!
Только когда тяжелый киль с хрустом врезался в прибрежный песок, когда свеи вдруг начали прыгать через борта прямо в воду, разом нарушив туманную тишину плеском и говором, обдав его тяжелым, пряным духом походного пота, задубевших на теле кож и железных доспехов, промазанных от ржави топленым жиром, мальчишка, наконец, подхватился и побежал.
Откуда силы взялись!
Свеи тоже кинулись за ним, чувствовал он. Не оглядываясь, слышал, как топочут за спиной тяжелые ноги, как позвякивает на ходу железо оружия. Чудилось, чья-то длинная рука уже протянулась сзади, вот-вот схватит за плечо.
Но дядька Ратень, родной, надежный, как гранитный утес, был уже тут как тут. Пропустил его, заступил воинам дорогу, оттолкнул самого быстрого ударом длинного посоха. Потом, увернувшись от чужих рук, цапнул за шею второго, опрокинул на землю сильным толчком. Тот кубарем покатился с откоса, каркая на своем языке как ворона, сбитая с ветки комком земли.
Отбежав еще на десяток шагов, Любеня запнулся и остановился. Слишком любопытно стало, что делается за спиной. Обернулся.
Дядька Ратень схватился со свеями умело и ловко. Не зря был когда-то из первых поединщиков в самом Юриче. Уже и третий нападавший ткнулся носом в Сырую Мать, и четвертому волхв сунул между ног посох и подсек так сильно, что только кожаные подошвы мелькнули в воздухе.
«Нет такой силы, чтоб одолела волхва, разговаривающего с самими богами!» – на миг возгордился мальчик.
Оказалось, есть. Разом набежали остальные воины, на ходу выдергивая мечи из ножен. Нахлынули, как вода на берег, хищно, слаженно заполоскали тусклым железом клинков. Любеня видел, первые удары волхв еще успел отбить крепким посохом, а потом словно потерялся между нападающими, толстыми и плечистыми в своих тяжелых кольчугах и панцирях.
– Любеня, беги, беги, спасайся! – еще раз успел крикнуть Ратень.
А потом он ничего не кричал, только хрипел и рычал, когда мечи свеев рубили его с тупыми, чавкающими звуками…
Этого Любеня уже не видел. Не хотел видеть! Он, наконец, рванулся изо всех сил. Так побежал, что сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, птицей полетит впереди него. Только теперь мальчик испугался по-настоящему, до острой судороги в животе, до того, что хотелось голосить от ужаса. Может, он и кричал на бегу, только не слышал себя за шумом ветра и звоном крови в ушах.
Как взвизгнула тетива лука, как прошелестела ему вслед свейская стрела с железным боевым наконечником, Любеня точно не слышал. Только почувствовал, как откуда-то появилась огромная, злая оса и воткнула ему жало ниже колена. От боли и неожиданности он осекся, кувырнулся вперед, сильно ударившись телом о землю …
* * *
Когда свеи подошли к нему, Любеня так и сидел на траве, руками зажимая рану с торчащей стрелой. Тяжело дышал, часто и мелко всхлипывая. Сквозь сжатые пальцы сочилась кровь, горячая и удивительно красная, очень яркая, как казалось ему. Он старался сжать пальцы как можно сильнее, но кровь все равно сочилась.
Один из воинов нагнулся над ним. Молодой, но уже с дорогим оружием, украшенным золотыми насечками и тонкой вязью узоров. Совсем близко мальчик увидел серые, холодные как зимнее небо глаза и мягкий, пшеничный пушок бороды. Наличник шлема, спускался, как маска, до самого носа. Шлем тоже не простой, на налобном обруче – навита золотая проволока, успел рассмотреть Любеня. Плечи – широкие, бедра – узкие, в каждом движении – упругая сила. Воин был не слишком высоким, но каким-то очень прямым, показалось Любене, весь словно натянутая тетива. Знатный воин, сразу заметно. И пахло от него как-то по-особому, по-воински – терпко, прогоркло.
Молодой коротко сказал что-то, и остальные ратники поспешно расступились, отстраняясь от света. Свей, опершись руками о колени, внимательно осмотрел рану. Одной рукой крепко, как клещами, ухватил Любеню за голень, а второй – отломил железный наконечник стрелы, высунувшийся из раны. Сжал ногу еще сильнее, резко дернул стрелу, мгновенно протянул через ногу. Отбросил в сторону окровавленное жало.
Любеня успел только охнуть, чувствуя, как боль горячей волной хлынула вверх, к бедру. Кровь заструилась из раны еще быстрее, и вместе с ней словно сила-жива потекла из него – такая навалилась внезапная слабость.
Молодой воин выпрямился. Опять что-то сказал своим, словно рявкнул. Отвернулся и стремительно зашагал прочь. Остальные, даже старше годами, отступали с его пути, заметил Любеня.
Кто-то кинул мальчику кусок холстины.
– Завяжи потуже, – приказали ему на языке родичей.
Любеня с надеждой вскинул глаза, ища своего, но взглядом наткнулся только на незнакомые, равнодушные лица свеев.
Да, старшие родичи говорили про свеев, что они ушлые, быстро берут себе на язык любую речь, вспомнил он.
Мальчик опустил голову, неловко, торопясь, мотал ногу, стараясь поплотней наложить повязку. А свеи стояли над ним, негромко, по-своему, переговаривались. Широкоплечие, высокие и загадочные.
Мальчик еще не знал, что его захватила дружина молодого ярла Рорика Неистового, сына знаменитого ярла и конунга Рагнара Победителя Великана. Дружина возвращалась из восточного викинга без большой добычи, поэтому и брали по дороге пленных. Раб – хоть и не стоит так дорого, как золото, серебро или железо, но тоже имеет цену.
Впрочем, Любеня тогда вообще не задумывался, что попал в плен, просто ему было больно и страшно.
Наверное, прав был Ратень, когда недавно, в ответ на удалое хвастовство мальчишки, рассказывавшего, какой он уже взрослый, лишь насмешливо щурил умные глаза и дразняще встряхивал головой. Мол, мели-мели, паря, что с тебя взять, с такого маленького…
* * *
– Пошли, – сказали ему.
Любеня поднялся. Поковылял, несмотря на боль и липкую кровь, уже хлюпающую в ноговице. Сдерживал щипучие слезы, старался держаться гордо, независимо, как подобает мужчине и воину.
Только свеям было плевать на его гордый вид. Погнали к ладье, как барана. Перед высоким бортом мальчик замешкался, сильные руки подняли его под мышки и кулем перекинули внутрь.
Стоять на раненой ноге было тяжело, он присел было на сундук рядом с веслом, но его пинком сшибли оттуда. Любеня больно ударился о твердые доски днища и остался лежать, сжимаясь в комок. От неожиданности и обиды даже дыхание перехватило.
Доски густо пахло горьковатым смоляным варом и еще чем-то, сальным, приторным, напоминающим застарелый запах от рыбьих внутренностей. А свеи больше не обращали на него внимание. Налегли всем скопом, стащили ладью с песчаной косы, попрыгали внутрь, переваливаясь через борта. Расселись по своим сундукам, взялись за длинные весла, крепко и слаженно плеснули ими, выводя ладью на глубокую воду. Любеня услышал, как под тонким днищем, где-то совсем рядом, зажурчала-запела вода.
Он осторожно, опасаясь ударов, оглядывался. Любопытно все-таки!
Глянуть со стороны – ладья, по-свейски – драккар, вроде бы не большая, но даже удивительно, сколько в ней всего помещается. И мешки какие-то, и бочонки, и сундуки, плотно увязанные конопляными веревками, и оружие, доспехи внавал. Круглые свейские щиты вставлены в пазы вдоль бортов, а луки, копья лежат свободно, как хворост. Да и самих свеев много, десятка четыре, а то и пять, заметил он. Хотя никто не мельтешит зря, все при деле. Молодой воин в красивых доспехах, что выдернул Любене стрелу, сразу прошел назад, поближе к кормовому веслу-прави́лу.
Гладкую, темную рукоять правила держал пожилой свей, тоже в богатом снаряжении, со смоляной, в завиток, бородой, в которой проблескивало много серебряных нитей. Молодой заговорил с ним, и старый кивал в ответ. Потом сам сказал что-то, от чего сидящие поблизости свеи разом оскалились. Теперь молодой кивнул старому и даже хлопнул того по плечу.
Наличник шлема у старого был приподнят, и мальчик хорошо рассмотрел морщинистое лицо, выдубленное солнцем и ветром до того же темного блеска рукояти кормила. Карие глаза смотрят остро, пристально, нос – как клюв хищной птицы, от виска до рта кожу рассекает давний, глубокий шрам. Шрам высоко приподнимает уголок губ, будто воин ухмыляется беспрестанно.
Старый – кормщик, а молодой, значит, у них вождь, конунг, понял Любеня.
У дядьки Ратня тоже был длинный шрам по лицу… Был?! – с горечью ворохнулось внутри.
– Любеня!!! – перебил его мысли выкрик с берега.
Голос был хриплый, чужой, но все равно как будто знакомый. Мальчик вскинулся, схватился за что-то, приподнялся. Свеи тоже оживились разом, побросали весла, загыкали, загалдели, показывая на берег.
Эту картину Любеня, наверное, никогда не забудет. Ладья не успела отойти далеко, и он хорошо видел, как дядька Ратень полз им вслед по травянистому откосу. Весь иссеченный, живого места, наверное, не осталось, рана на ране – одно кровавое месиво. И, несмотря на это, волхв все-таки двигался, полз, приподнимался на дрожащих руках, пытался привстать.
«Как ползет, какой силой, когда и с меньшими ранами не живут?» – охнул про себя мальчик.
– Любеня! Будь счастлив, сынок! – то ли кричал, то ли хрипел волхв. – Будь удачлив и неуязвим! Я, волхв, отдаю свою силу и заклинаю тебя самым крепким, предсмертным заклятием! Именем Велеса Круторого – заклинаю тебя! Именем всех верхних богов – заклинаю! Да не страшны тебе будут ни огонь, ни вода! Да не коснется тебя ни железо, ни кость, ни дерево! Да минут тебя глад, мор, болезни, черный глаз и дурные умыслы! Да будет так! Да пребудет с тобой оберег бога Велеса! Заклинаю!!! Прощай, мальчик, прощай, сынок…
Вроде, не очень громко, не слишком отчетливо, а мальчик каждое слово расслышал и понял. Долгим эхом отдавались они в ушах. И, похоже, лес, река, небо, ивы, склонившиеся к воде, вольные птицы, рассекающие крыльями высоту, – все расслышали слова волхва, подхватили, понесли, заволновались, зашуршали в ответ ворожбе. И Хорс-солнце, выглянув огненным краем из-за кромки леса, как будто подтвердил заклятие чародея, пустив вдоль земли тонкие, яркие, пронизывающие лучики.
Потом руки волхва подломились, голова упала, он так и застыл на берегу.
Прощай, дядька Ратень, прощай волхв! – всхлипнул Любеня. Прощай…
Наверное, так и взрослеют люди, не постепенно, а сразу, рывком, проживая за короткое время целую большую жизнь, вспоминал он потом.
А свеи в ладье еще долго переговаривались между собой, удивлялись и цокали языками. Оглядывались назад, на берег, где оставался лежать убитый, воскресший, а потом снова умерший волхв.
Большинство из них не разбирали языка родичей, не очень поняли, что случилось, не знали, что это такое – заклятие Велеса. Но пришлые воины ценили и уважали любое мужество.
* * *
– Слышь, полич, ты туда, к веслу, не садись никогда. Это у них только воинам можно – за весла садиться. Ты на днище сиди. На днище – можно, за это не будут бить, – посоветовали Любене откуда-то сбоку.
Он оглянулся. За мешками, навалом скарба и мельканием свеев он и не заметил сначала, что в просторной ладье есть еще пленники.
Их было трое. Молодые парни, с виду – постарше его на несколько лет. Руки спутаны на запястьях толстым, просмоленным вервием. Все трое одеты в привычные глазу рубахи с подпояской, холщовые порты, на ногах – кожаные ноговицы. Волосы по обычаю местных родов забраны повязками-оберегами, сохраняющими человека от порчи и лесной нечисти.
Двое, чернявый, угловатый, даже в скрюченном положении видно, что очень высокий, и второй – русоволосый, с большими карими глазами, опушенными густыми, совсем девичьими ресницами, смотрели на мальчика с любопытством, но без злости. Третий – широколицый, редкобровый, с вывороченными губами и коротким, приплюснутым носом, косился на новичка неприязненно. Под глазом у него лиловел огромный синяк, похожий на растекшуюся лужу. Смешной синяк и лицо смешное, все словно сплющенное, отметил Любеня. Только глаза неприятные. Маленькие, упрямые глазки свирепого кабана-секача…