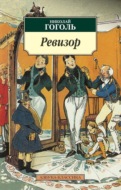Kitobni o'qish: «Мертвые души»
© С. О. Шведова, статья, комментарии, 2007
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2023
Издательство Азбука®
«Мертвые души» в творческом самосознании Н. В. Гоголя
Инкогнито из «прекрасного далека»
…В один из невзрачных октябрьских дней 1841 года в почтовую карету, следующую из Петербурга в Москву, садились два господина: один – сын крупного чиновника, образованный и общительный петербуржец – звался Петром Ивановичем Пейкером; другой – невысокого роста, с белокурыми длинными волосами, худой и болезненно-бледный – явно не принадлежал к числу столичных жителей, вел себя смирно и незаносчиво, на вопрос любознательного соседа представился Гогелем и даже рассказал о себе какую-то преплачевную историю – в общем, сказался смиренным простячком. Более ничего узнать не удалось – в течение нескольких дней пути Гогель молчал, утянув голову в воротник шинели, так что наружу торчал лишь весьма длинный изогнутый нос, а на вопросы общительного попутчика неизменно отвечал: «Нет, не знаю». При себе неразговорчивый господин держал странного вида большой мешок, который всегда выносил с собою на станциях… Можно представить, как обрадовался Пейкер, по приезде в Москву наконец расставшийся с несносным своим соседом, не подозревая, как скоро их пути пересекутся вновь…1
Так или примерно так рисуется воображению историческое возвращение автора «Мертвых душ» в Москву2: он исполнил обещание, данное друзьям полутора годами ранее, – привезти из-за границы готовую к печати рукопись первого тома поэмы, и теперь намеревался познакомить соотечественников с итогами шестилетнего труда.
На следующий день по приезде (Гоголь был в пути с 13 по 17 октября3) он посетил своих давних знакомых – известное московское семейство Аксаковых и тут, совершенно неожиданно, столкнулся вновь с недавним попутчиком. «Мы не могли удержаться от смеха, – продолжает рассказ С. Т. Аксаков4, – но Пейкер осердился. Он был прав: за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтобы избавиться от докучливых вопросов, предлагаемых обыкновенно писателю: „Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?“ и пр., и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу…»5. Каковы бы ни были психологические объяснения таких случаев (а известны и другие гоголевские розыгрыши, которые Аксаков объяснял «проказливостью», свойственной молодому Гоголю; она проявлялась и позднее), объективно описанный эпизод высвечивает значимые противоречия в писательской личности Гоголя.
Пожалуй, никто из русских писателей первой половины XIX века не предпринимал столь частых и настойчивых обращений к читательской аудитории, не выражал такой заинтересованности в ответном слове, реакции, оценке читателей, как Гоголь. И в то же время Гоголь стремился сохранять человеческую и творческую отстраненность, своего рода закрытость даже от ближайших друзей. Никто так много, как Гоголь, не комментировал и не истолковывал собственные сочинения – и в то же время атмосфера тайны, умело создаваемая автором, сопровождала работу над каждым из них. Эти противоречия становились объектом раздумий не только гоголевских мемуаристов, а затем исследователей, они находились в поле зрения и самого писателя, осмыслялись им как особенности своей позиции и творческой судьбы. Думается, что их нельзя объяснить лишь несовпадением писательских установок и чисто человеческих реакций (хотя скрытность Гоголю как человеку, безусловно, была присуща). Гораздо интереснее увидеть в них симптомы перелома – рождения новых для русской культуры представлений о характере взаимодействия автора и читателя, литературы и жизненной реальности. Выстраивая свой диалог с читателем, Гоголь понимал его иначе, нежели писатели предшествовавшей, пушкинской, эпохи: не как гармоническое примирение в сфере прекрасного, а как исполненный драматизма процесс взаимного обучения «науке жизни»6. Если литература первой четверти XIX века, с ее салонным и кружковым характером (а значит – с установкой на непосредственный контакт писателя и публики), не знала резких границ между писателем и не-писателем или дилетантом7, то Гоголь исходил из принципиальной для него разницы в жизненном опыте, миропонимании, социальном кругозоре писателя, «осужденного уже самим званьем писателя на… затворническую жизнь» (VIII, 287)8, и его аудитории – «практических людей», «применителей»9. Поэтому, раскрываясь перед читателем в литературном труде, Гоголь сознательно в какой-то мере провоцировал его на несогласие, даже протест, поскольку это отвечало его потребности изучения современного общества, позволяло увидеть «жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей» (VIII, 308). И вместе с тем чувствовал потребность в уединении от злобы дня – сиюминутных споров, несогласий, которых было бы трудно избежать, находясь «посреди России». «Велико незнанье России посреди России», – напишет он позднее, в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (VIII, 308). Отсюда и стремление к «уединению дороги», о котором говорит Аксаков, и потребность видеть Русь из «чудного, прекрасного далека» (VI, 220). Они рождали недоумение даже у друзей: почему писатель, еще при жизни Пушкина провозглашенный новым главой русской литературы, живет и работает не у себя на родине? Гоголевское желание дистанцирования, обусловленное не только его психологическим складом, но и особенностями писательского самосознания, по-видимому, затрудняло эмпирические контакты с читательской (зрительской) аудиторией10. Не отсюда ли впечатление загадочности, все возрастающей странности гоголевской личности, отраженное многими современниками? Ситуация осложняется тем, что начиная с момента появления из печати первого тома «Мертвых душ» писательское «я» Гоголя также стало объектом острой полемики.
«…Писатель во вкусе черни»
Первый том увидел свет в конце мая 1842 года. Книга разошлась с удивившей всех, в том числе автора, скоростью. Ее коммерческий успех свидетельствовал о большом интересе читательской аудитории, что, однако, вовсе не означало единодушного одобрения. «Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю „Мертвых душ“, – сообщал Гоголю через несколько месяцев после выхода книги в свет старший сын Аксаковых Константин11. – Ни один решительно человек не остался равнодушным; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. <…> Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет»12. В отзывах гоголевских современников нередко сквозила растерянность перед противоречивыми чувствами, вызываемыми книгой.
Однокашник Гоголя Н. Я. Прокопович, откликаясь на его просьбы передавать читательские мнения, оставил такую зарисовку: «Один офицер… говорил мне, что „Мертвые души“ удивительнейшее сочинение, хотя гадость ужасная. <…> Между восторгом и ожесточенною ненавистью к „Мертвым душам“ середины решительно нет…»13
Печатные отклики на поэму вполне отразили многообразие читательских реакций. Одной из первых выход книги анонсировала газета «Северная пчела», редактировавшаяся литераторами Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем: «Вот вышла в свет поэма г. Гоголя: „Похождения Чичикова, или Мертвые души“. В „Северной пчеле“ будет помещен разбор этого классического сочинения, и доказано математически, что ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме, равной по слогу „Риму“ (статья того же автора в „Москвитянине“) и беспримерной по отсутствию всех литературных приличий. Почтенного автора до того убаюкали похвалами приятели, что он пресерьезно возглашает: на меня смотрит вся Россия, от меня ждет Россия и т. п. Дождалась!»14 (здесь и далее в цитатах сохранен курсив оригинала. – С. Ш.). Несколько позднее обещанный разбор действительно появился; он был написан Гречем15 и содержал жесткую критику – многочисленные упреки в безвкусице, дурном тоне, «варварских» языке и слоге. Обвинения такого рода затем были повторены и в других рецензиях, причем исходили от литераторов «успешных», вроде О. И. Сенковского, или обладавших влиянием на широкую читательскую аудиторию, как Н. А. Полевой. Наряду с раздражением в них чувствовалось какое-то недоумение: слишком трудно было согласовать собственное, безоговорочно негативное, впечатление с утверждающейся литературной репутацией Гоголя как «главы поэтов» (поэтому и возникала версия, что Гоголя «захвалили приятели»).
Непримиримость критиков в основном была вызвана двумя родами «погрешностей»: в языковом и стилистическом планах и в отношении жанрового канона. С точки зрения нормативных представлений о языке художественной литературы стиль Гоголя действительно казался вопиющим нарушением законов «изящной словесности», ведь он не только опирался на языковые пласты, остававшиеся за ее пределами (просторечную свободу разговорной речи, красочность украинизмов и диалектизмов, меткость фольклорного слова и многое другое), но и соединял их с контрастными явлениями – торжественным высокопарением церковно-учительного слова и литературной риторики. Пожалуй, впервые в русской литературе так явно утверждался иной, не нормативный, подход к слову и слогу – они приобретали черты неправильной, но живой индивидуальности, становились, как отмечал в первом из своих критических разборов «Мертвых душ» К. С. Аксаков, «частью создания»16, то есть произведения как органического целого.
Что же касается жанровых канонов, то и здесь Гоголь резко перестраивал существующие представления. Критики терялись в догадках: если «специализация» Гоголя – карикатура, то как согласовать это с желанием «философствовать и поучать» читателя, утверждать свою собственную теорию искусства и патетически «разливаться в восторгах»17 (особенно в так называемых лирических отступлениях)? Не случайно никто из гоголевских оппонентов не принял всерьез авторского жанрового обозначения «Мертвых душ» как поэмы. «Его участок – добродушная шутка, малороссийский жарт»18, – доказывал Н. Полевой, не сомневаясь, что автор назвал произведение поэмой… в шутку. Но и признать «Мертвые души» полноправным романом критики Гоголя не могли. «…Он хотел написать карикатуру и внести в нее все смешное, что только успел заметить в свете, – толковал намерения Гоголя Греч. – Но не все, что случается или говорится, годно для романа, для поэзии, не все то может интересовать и быть приятным в книге, что заставляет нас улыбнуться на улице или на извозчичьем дворе»19. В сознании критиков «Мертвые души» выходили за пределы не только серьезных жанров, но и вообще сферы художественных явлений, потому что нарушали некие неотменимые принципы изображения действительности. «В жизни мы видим беспрерывную борьбу добра со злом. Это закон земной жизни человечества. Сатира обличает или осмеивает зло. Поэма, в формах поэтических, а роман, в форме действительности, должны изображать по возможности жизнь вполне, а не одну ее сторону. <…> Для всякой картины необходимы свет и тень; необходимо разнообразие цветов», – рассуждал в своей рецензии романист К. П. Масальский.
Но в гоголевской поэме, казалось, законы правдоподобия были нарушены: «Все лица автора, начиная с героя, или плуты, или дураки, или подлецы, или невежды и ничтожные люди»20. «Это какой-то особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать»21, – вторил Греч. Восприятие персонажей «Мертвых душ» как уродливых карикатур было свойственно и многим защитникам Гоголя (например, П. А. Вяземский писал, что Гоголь «в некотором отношении Гольбейн и, например, „Мертвые души“ его сбиваются на пляску мертвецов»22). Пожалуй, именно такое прочтение стало традиционным – о чем свидетельствуют популярные иллюстрации А. Агина и П. Боклевского; оно прочно закрепилось даже в современном читательском сознании. В действительности гротеск сочетается у Гоголя с более сложными принципами изображения, а в его комических преувеличениях всегда просвечивают общечеловеческие черты. «Герои мои вовсе не злодеи; да прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми», – не без оснований полагал автор (VIII, 293). Получается, что возможность придать героям «добрые черты» как бы входила в авторское задание, но оставалась за рамками реального образного воплощения, положительное начало присутствовало в образах, но лишь потенциально. Читатель сталкивался с новым типом художественного характера, в котором значение имело не только наличествующее, но и отсутствующее, в котором различные принципы изображения и поддерживали, и оспаривали друг друга.
На фоне беллетристики тех же Греча, Булгарина, Масальского гоголевский художественный мир обнаруживал сложность своего устройства. Одним из первых это чутко уловил В. Г. Белинский, указавший на причины затруднений в интерпретации «Мертвых душ»: «Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его бесконечную иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и что обществу легче полюбить его, чем понять…»23 Итак, прямой взгляд на русскую действительность оказался осложнен у Гоголя субъективным началом – юмором и иронией. В каком же соотношении предстали в поэме объективное и субъективное? Белинский подробно рассмотрел этот вопрос, доказывая возможность органичного сочетания этих начал24. По его мнению, в «Мертвых душах» впервые проявилась особая авторская субъективность: не та, «которая, по своей ограниченности и односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов», а глубокая, всеобъемлющая и гуманная субъективность, «которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу…»25. Таким образом, проблема ставилась Белинским шире, не замыкаясь вопросом о соответствии или несоответствии гоголевских образов законам правдоподобия.
Речь шла об утверждаемой Гоголем особой активности авторского сознания, стремящегося сочетать в эстетической деятельности познание и оценку реальности с преобразующим воздействием на нее. По сути, это влекло за собой «коперниковский переворот» в литературе – пересмотр представлений об отношении литературного произведения к действительности.
«Предмет у меня был – жизнь…»
Сам Гоголь в разные моменты своей жизни неоднократно пытался определить отношение создаваемых им образов и в целом поэтического мира к реальности, и на внешний, поверхностный взгляд эти ответы несколько разнились. В какой-то мере это связано с тем, что эстетическое кредо Гоголя нашло отражение в текстах разной жанрово-стилистической природы: художественных, публицистических, эпистолярных. (Здесь необходимо назвать прежде всего «Мертвые души» (I том), а также вторую редакцию повести «Портрет» (1842), пьесу «Театральный разъезд после представления новой комедии» (1842), главу «Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» (1843–1846), вошедшую в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», и сочинение, не печатавшееся автором при жизни, известное под редакторским названием <Авторская исповедь> (1847).) Кроме того, гоголевские воззрения эволюционировали, и, стремясь представить динамику своего духовного развития, писатель в какой-то мере заострял свои суждения, затушевывая момент их преемственности, связи с предыдущим этапом. Между тем в самом их появлении просматривается некая единая логика, заметные моменты активизации гоголевских усилий по выработке собственной эстетической программы: это 1842–1843 годы, когда готовился к печати первый том «Мертвых душ», и позднее, когда Гоголь осмыслял читательскую реакцию на него, и 1846–1847 годы, следующие за первым сожжением рукописи второго тома (в июне 1845 года), отмеченные работой над книгой «Выбранные места из переписки с друзьями» и ее публикацией, вызвавшей еще более острые суждения, чем «Мертвые души». Не претендуя на подробное описание того, как менялись гоголевские взгляды, хочется отметить наиболее устойчивое в них. Они формировались одновременным отталкиванием как от романтической, так и от пушкинской эстетики, причем значительную роль в эстетическом самоопределении Гоголя сыграли статьи Белинского26, противопоставившего поэзию идеальную (в том числе романтическую, под знаком которой «прочитан» и Пушкин) и реальную, первооткрывателем которой критик объявил Гоголя. Эта концепция легла в основу лирического зачина к главе VII первого тома «Мертвых душ»: «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека… который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. <…> Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, – всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров… и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи!» Очевидно, что Гоголь соотносит себя с последним из них – писателем-сатириком, обреченным на непонимание и одиночество среди современников (тем самым как бы узаконивалась и реальная критика, сопровождавшая появление первого тома). Однако, говоря о верности действительности, Гоголь вставал перед новым вопросом.
В пересоздаваемом параллельно с окончанием первого тома поэмы «Портрете» уловлена опасность, исходящая от искусства, предельно точно следующего действительности: талантливо выполненное изображение ростовщика как бы вбирает в себя способность разрушать человеческие души, провоцировать на зло, – способность, свойственную самому ростовщику. Поэтому само по себе проникновение в несовершенства жизни, умение передать впечатления действительности еще не свидетельствуют о полной художественности творения: «Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления. <…> И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего» (III, 88). Гоголь приходит к мысли, что не создание «дагерротипа» (своеобразное удвоение реальности) является целью художника, а преобразование, высветление «низкой природы». В зачине главы VII «Мертвых душ» гоголевская мысль усложняется и конкретизируется применительно к литературной сфере.
Здесь воздействие на внелитературную реальность подразумевается сразу в двух направлениях: придание чертам обыденного мира выпуклости и яркости (по-видимому, это предполагает для Гоголя возможность гротескных преувеличений) и возведение их «в перл созданья», преобразование посредством «высокого лирического движенья». Можно полагать, что под последним Гоголь понимал не столько идеализацию реальности (характерную как раз для писателя первого типа, который «окурил упоительным куревом людские очи… чудно польстил, сокрыв печальное в жизни»), сколько изменение характера и масштаба видения эмпирических явлений: прояснение в «мелочах, опутавших нашу жизнь», субстанциального начала – то есть их обобщение, генерализацию. Поэтому и получалось, что верность «правде жизни» предполагала для Гоголя не только выявление того, что есть в наличной реальности, но и того, что ей присуще потенциально, как в позитивном, так и в негативном смыслах27.
Стоит ли говорить о том, сколь сложной оказалась предпринятая перспектива изображения? Она предполагала как бы наложение нескольких слоев различно окрашенных фильтров, одновременное восприятие нескольких связанных, но не совпадающих планов. Можно сказать, что Гоголь открыл для русской литературы стереоскопическое видение реальности28, хотя, кажется, сам полагал, что оно может быть применено не только в литературной сфере. В одной из глав «Выбранных мест» он дает советы губернаторше, как и зачем изучать душевный «быт» губернских жителей: «В уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод» – «примерный образ мещанина и купца, чем он должен быть на самом деле» (VIII, 317). (В период работы над «Мертвыми душами» отдельный человек интересует Гоголя не только с точки зрения «исследования общих законов души нашей» (VIII, 445), но и как единица социальной жизни – делатель, «применитель». Писатель признавался А. О. Смирновой29, что ему «трудно даже найти настоящий дельный и обоюдно интересный разговор с теми людьми, которые еще не избрали поприще и находятся покаместь на дороге и на станции, а не дома. Для них, равно как и для многих других люд<ей>, готовятся „Мертвые души“. <…> Тогда только уяснятся глаза у многих, которым другим путем нельзя сказать иных истин. И только по прочтении второго тома „Мертвых душ“ могу я заговорить со многими людьми сурьезно» (XIII, 335)). Не будет преувеличением сказать, что, давая совет губернаторше, Гоголь вводит нас в собственную художническую лабораторию. Вот почему тех современников, которые полагали, что дар Гоголя состоял в умении подмечать смешные стороны людей30, и обвиняли его в односторонности, можно, в свою очередь, также упрекнуть в односторонности. Сам Гоголь, ссылаясь на мнение Пушкина, определял свою творческую одаренность как «способность угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого» (VIII, 439) – то есть видеть человека одновременно и целостно, и детально. Но для воплощения этой задачи, для осуществления стереоскопического видения действительности Гоголь нуждался… в читателе. Ведь именно читатель находился в зоне контакта с затекстовой реальностью, читательские реакции давали эмпирический материал, подлежащий творческому пересозданию31. Поэтому необходимость знать читательские отклики мотивировалась в гоголевском сознании не только стремлением верно передавать факты русской жизни, но и потребностью ощущать ее живой дух. «В сужденьях о моих сочинениях обнаруживается сам человек», – позже заметит Гоголь в письме к П. А. Плетневу (от 9 мая 1847 года) (XIII, 306). Наличие контакта с читателем становилось своего рода условием продолжения «Мертвых душ»; в этом – принципиальное отличие Гоголя от писателей пушкинской поры, безусловно нуждавшихся в аудитории, но не мысливших в такой тесной связи общение с ней и процесс творчества. Одна из поэтических деклараций Пушкина гласит, что поэту, как «ветру, и орлу, и сердцу девы» – «нет закона»32. Гоголь же (может быть, несколько полемически) готов оспорить и самое воображение33, его необходимость для творчества: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья» (VIII, 446–447).
Итак, мысль о том, что характеры в «Мертвых душах» взяты из действительности, утверждалась самим автором. Тем удивительнее должны были казаться читателям другие высказывания Гоголя, где он предлагал иное толкование возникновения своих героев. В уже упомянутых «Четырех письмах… по поводу „Мертвых душ“», рассказывая о впечатлении, произведенном на Пушкина чтением первых глав поэмы, Гоголь выражает удивление тем, что «Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!» (VIII, 294). Кажется, что Гоголь неожиданно встает на точку зрения оппонентов, обвинявших его в искажении действительности. А силу воздействия своих образов писатель объясняет тем, что они взяты из собственной души: «По мере того, как они <собственные дурные качества. – С. Ш.> стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. <…> С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью» (VIII, 294). Чем объяснить возникающие противоречия? Гоголь был убежден, что, лишь исследовав свою собственную «внутреннюю клеть», он получал возможность разрешить те вопросы жизнестроительства, которые предполагались его литературным трудом. Необходимость высветления картины жизни заставляла задуматься о путях преобразования человека и общества, но это значило прежде всего – преодолеть «тьму и пугающее отсутствие света» в собственной душе. Так душа писателя становилась его творческой лабораторией. «Литературные изображения людей имеют как бы две стороны: одну – обращенную к читателю, другую – нам не видную, но неотделимую от автора. Внутренняя, интимная сторона изображений чаще всего просвечивает сквозь внешнюю, как бы согревая ее своими лучами. Но, повторяю, она недоступна нашему непосредственному созерцанию, а существует лишь во внутреннем переживании поэта, и нами постигается только симпатически…
Просветленность, как объективный признак художественного творения, вовсе не неизбежно сопровождает его полет перед внутренним оком самого художника… Внутреннему, интимному Гоголю созидаемые им отрицательные типы не могли не стоить очень дорого. Если нам, обыкновенным людям, так тяжела бывает порою работа над самоопределением, то мучительность ее для поэта усиливается благодаря его живой фантазии, и интенсивность самого процесса созидания целостно захватывает всю его мыслящую и чувствующую природу. Пережить Манилова и Плюшкина – значит лишиться двух иллюзий относительно самого себя и создать себе два новых фантома. Чем долее выписывал Гоголь в портрете России эти бездонные и безмерно населенные глаза его, тем тяжелей и безотраднее должно было казаться ему собственное существование»34, – приведенное свидетельство И. Ф. Анненского тем более ценно, что это свидетельство поэта, изнутри познающего психологию творчества. Вот почему на всем протяжении работы над вторым томом Гоголь будет говорить одновременно и о переходном состоянии жизни (как русской, так и европейской), и о «переходном состояньи собственной души». В этой взаимосвязанности «дела души» и «дела жизни» – источник воздействия гоголевского слова, но и предвестие трагизма его писательской судьбы.
«О том, что такое слово»
Итак, находясь в процессе «самостроенья», писатель – как и весь мир, все общество – находится «в дороге, а не у пристани». Имеет ли он право, еще не исчерпав этой переходности, не завершив своего строения, обращаться к читателю? Не принесет ли он более вреда, чем пользы, высказавшись «необдуманно и незрело» (VIII, 230)? Этот вопрос оказался едва ли не самым главным для Гоголя при осмыслении читательской реакции на первый том. Именно вследствие своего переходного состояния писатель не удержался от пристрастно-суровых оценок его: «Еще вся книга не более как недоносок» (VIII, 295), хотя и признавал: «Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя» (VIII, 295). В той же главе «Выбранных мест» – «Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» – он напишет: «Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости…» (VIII, 298). Однако означало ли это для Гоголя середины 1840-х годов необходимость обращения именно к сатире? С одной стороны, потребность сатирического преломления реальности как бы вытекала из самих оснований современной жизни:
«Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру» (VIII, 449). С другой – Гоголь был готов усомниться в действенности сатиры. «Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутой глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век» (VIII, 278), – пишет он, обращаясь к лирическому поэту в главе «Предметы для лирического поэта в нынешнее время». Гоголь полагает, что именно лирическому поэту, более свободному, в отличие от сатирика, в отношении к реальности, открывается поприще – «возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью» (VIII, 408). Ему дана «сила, и упрекающая, и подъемлющая. <…> Одних нужно поднять, других попрекнуть» (VIII, 278). Именно в свете этой программы можно понять оценку Гоголем своей поэмы: ведь автор в ней выступает в том числе и как лирический поэт. Посредством лирического начала в первом томе достигалось «возведение в перл созданья» – генерализация и универсальность изображаемого мира. Но еще сильнее оно должно было проявиться впоследствии: ведь упрек современникам, прозвучавший в первом томе (и вызвавший «тоску от самих себя»), должен был, по мысли Гоголя, дополниться ободреньем во втором. Только тогда цели сатирика и поэта обнаруживали некое высшее единство. «О, если б ты мог, – обращаясь к лирическому поэту, писал Гоголь, – сказать ему <т. е. „прекрасному, но дремлющему человеку“. – С. Ш.> то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома „Мертвых душ“!» (VIII, 280). Получалось, что в авторском сознании своеобразное «оправдание» первого тома увязывалось с написанием второго.
Однако думается, что на самом деле соотношение сатирического и просветляющего начал, «упрека» и «ободренья», уже в первом томе обнаруживает бульшую многоаспектность, чем это виделось самому автору, стремившемуся к зримой дифференциации разных стадий работы над поэмой. Не случайно один из критиков – С. П. Шевырев35 – отметил как бы некоторую «избыточность» гоголевской изобразительной силы по отношению к целям сатирического осмеяния: «Читая „Мертвые души“, вы могли заметить, сколько чудных полных картинок, ярких сравнений, замет, эпизодов, а иногда и характеров, легко, но метко очерченных, дарит вам Гоголь так, просто, даром, в придачу ко всей поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание»36. Шевырев даже назвал фантазию Гоголя «хлебосольной». Еще больший акцент на присущей гоголевскому слову полнокровной изобразительности сделал К. С. Аксаков, попытавшись осмыслить в этом свете само содержание поэмы: «…созерцание Гоголя таково… что предмет является у него, не теряя нисколько ни одного из прав своих, является с тайною своей жизни, одному Гоголю доступною»37; «везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, – какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим»38. Аксаков увидел в этом не просто одну из характеристик гоголевского слова, но выражение определенной направленности художественного обобщения, восходящей к древнему гомеровскому эпосу, обнимавшему «целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений»39, бесстрастно и объективно воссоздававшему мир с точки зрения целостности и гармонии. В таком подходе присутствовала односторонность (в том числе внеисторизм, вызвавший полемические возражения Белинского), так как сатирическое начало «Мертвых душ» вообще выводилось за рамки рассмотрения, но в то же время концепция Аксакова побуждала задаться вопросом о том, каким образом впечатление полноты и гармонической целостности изображенной жизни сочетается в поэме с сатирой, которая как раз призвана выявить неполноту личностного начала в героях в сравнении с той ролью, которая, по мысли автора, уготована человеку в миропорядке. Интересно, что одни и те же фрагменты поэмы в восприятии разных читателей и критиков либо могли свидетельствовать о гармонизации изображенного мира, либо, напротив, прочитывались как выражение самой едкой сатиры. Так, после знакомства с окончанием первого тома С. Т. Аксаков воодушевленно писал: «Последняя глава повергла нас в изумление восторга… В ней выразилась благодатная перемена в целом нравственном бытии автора… Вместо мрачной мизантропии – любовь, мир и спокойствие… И каким глубоко и высоко поэтическим образом все это высказалось…»40 В то же время один из знакомых К. С. Аксакова воспринял финал книги в негативном ключе: «Посмотрите, – говорил мне один, – какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги. – Какая? – спросил я, выпучив глаза. – В словах, которыми оканчивается книга. – Как, в этих словах? – Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа. – И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью»41. А вот «версия» искушенного, можно сказать, выдающегося читателя – В. Набокова: «Трудно сказать, что меня больше всего восхищает в этом знаменитом взрыве красноречия, который завершает первую часть, – волшебство ли его поэзии или волшебство совсем другого рода, ибо перед Гоголем стояла двойная задача: позволить Чичикову избегнуть справедливой кары при помощи бегства и в то же время отвлечь внимание читателя от куда более неприятного вывода – никакая кара в пределах человеческого закона не может настигнуть посланника сатаны, спешащего домой, в ад»42. Как видим, Набоков (несколько полемично по отношению к попыткам увидеть в Гоголе «социального» писателя) видит в лирическом отступлении конца одиннадцатой главы авторский прием, решающий задачу фабульного завершения поэмы, – прием чисто эстетического характера.