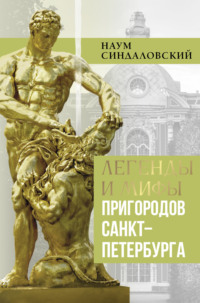Kitobni o'qish: «Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга», sahifa 2
Нижний парк
Малые палаты на плоском морском берегу и Большие – на крутом скалистом выступе над морем в первой четверти XVIII века образовали некие границы, внутри которых начал формироваться Нижний парк, или, как его более скромно называли в придворном быту, Нижний сад Петергофа. Центральную его часть занимает Большой каскад – грандиозное художественно оформленное гидротехническое сооружение. В представлении склонного к символам и аллегориям человека XVIII столетия каскад олицетворял выход России к морю – идею, осуществлению которой посвятил всю свою недолгую жизнь Петр I. Семнадцать водопадных ступеней Большого каскада и канал, который идет от него к морю, украшены сорока одной бронзовой золоченой статуей, двадцатью девятью барельефами, четырьмя бюстами, семью маскаронами и ста сорока двумя струями бьющей в небо хрустальной воды.
В центре всей этой фантастической композиции высится монументальная скульптурная группа «Самсон, раздирающий пасть льва». Первоначально фигуру Самсона, исполненную по модели Б.К. Растрелли и вызолоченную, установили едва ли не последней в скульптурном убранстве Большого каскада, в 1734 году, в 25-ю годовщину Полтавской битвы. В то же время есть легенда, что Самсон сооружен гораздо раньше, еще при Екатерине I, в 1725 году. Будто бы именно она, едва став императрицей, задумала увековечить великую битву в виде аллегорических фигур – Самсона и льва. Библейский герой символизировал Россию, а лев, изображение которого является частью шведского герба, – побежденную Швецию. Впрочем, фольклору известно еще одно предание, согласно которому Самсон установлен еще раньше, при Петре I, и посвящен памяти Гангутского морского сражения.

Фонтан «Самсон» перед Большим дворцом
Со временем яркий и выразительный язык символов в значительной степени был забыт, а затем и вообще исчез из привычного обихода населения. Грандиозные художественные аллегории, фантастические метафоры, созданию которых посвящали большую часть своего творчества великие мастера прошлого, становились обыкновенными скульптурными украшениями. Их важнейшую первоначальную функцию – информировать, образовывать, учить – чаще всего просто не замечали. И только фольклор, метафоричный по своей сущности, умело пользовался образными особенностями забытого искусства. В конце 1960-х годов, когда вся страна готовилась отметить столетие со дня рождения В.И. Ленина и города, стараясь перещеголять друг друга, изощрялись в изобретательности, в Ленинграде появилась пародия на идеологические потуги чиновного партийного аппарата: «Идя навстречу столетнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина, Ленгорисполком постановил переименовать фонтан “Самсон” в городе Петродворце в фонтан “Струя Ильича”».

Павильон вольер в Нижнем парке Петергофа
Еще через два десятилетия на страну неожиданно обрушилась эпидемия телевизионного знахарства. С утра до вечера два телегероя тех незабываемых лет, Кашпировский и Чумак, заряжали своей энергией бутылки с водопроводной водой, внушали доверчивым телезрителям, что раны могут зарубцеваться вблизи голубых экранов, останавливали кровь при полостных операциях на расстоянии тысяч километров и совершали другие средневековые таинства. Их «подвиги» во благо человечества не остались незамеченными ленинградским городским фольклором. Фонтан «Самсон» в народе получил характерное прозвище: «Кашпировский, раздирающий пасть Чумаку». Видимо, фольклор подметил, что оба телевизионных экстрасенса в подходах к «лечению» телезрителей и методах его проведения были непримиримыми антиподами.
К концу XVIII века большинство скульптур Большого каскада, выполненных из свинца, из-за недолговечности материала пришли в полнейшую негодность. Их решили заменить бронзовыми. Вместо растреллиевского Самсона фигуру библейского героя отлили из бронзы по модели скульптора М.И. Козловского. К изготовлению других скульптур были привлечены Ф.Ф. Щедрин и И.П. Прокофьев. Первый выполнил фигуру «Невы», второй – «Волхова». Установленные по обе стороны Большого каскада, они тут же породили замысловатую легенду, кочующую с тех пор по многим литературным, да и научным источникам. Будто бы скульптурная группа первоначально была выполнена одним автором, представляла собой единую композицию и предназначалась вовсе не для каскада, а для одного из фонтанов Нижнего парка, но затем была расчленена на две отдельные фигуры, которые и включили в композицию каскада.
Местные жители высоко чтут память о первом владельце Петродворца Петре I и хранят немало преданий о его личном участии в украшении и обустройстве парка. Еще в первые годы XIX века были живы люди, знавшие столетнего старика, «чухонца из деревни Ольховка», что вблизи Ропши, который не раз видел царя и бывал с ним на работах по строительству водовода для питания фонтанов. Он носил за Петром межевые шесты, когда тот, нередко по колено в болоте, лично вымерял землю «для своего Петергофа». Старый чухонец, как рассказывали бывалые люди, хранил как святыню один из серебряных рублей, пожалованных ему царем за работу.
Если верить местным легендам, и некоторые фонтаны придуманы лично императором. Так, люди утверждают, что по его проекту выстроен фонтан «Пирамида».
По тем же стародавним легендам, вблизи Верхних палат Петром была устроена царская «алмазная мельница» и церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Всякий раз, бывая в Петергофе, Петр посещал эту церковь и, если верить старинным рассказам, «читал и пел на клиросе». Церковь, правда, вскоре сгорела и была заново отстроена уже при императрице Елизавете Петровне.
«Столица фонтанов»
Петергоф, Петродворец, или, как его называли в XVIII веке, «Русский Версаль», а позже – «Столица фонтанов», всегда был излюбленным местом отдыха петербуржцев – ленинградцев. Сюда «подышать сырым воздухом Финского залива», как любили говаривать старые петербуржцы, и полюбоваться феерическим зрелищем играющих водометов съезжался «весь Петербург». В словаре питерской городской фразеологии хранится формула некой иллюзорной устойчивости, которую пытались обрести целые поколения ленинградцев: «Музей функционирует, фонтаны фонтанируют». Значит, все в порядке, все идет нормально, жизнь продолжается.
Теплые волны домашнего уютного патриотизма захлестывали не только петербуржцев, но и случайных заезжих провинциалов, души и сердца которых наполнялись неподдельной гордостью за петергофские фонтаны. Старинные анекдоты и современные частушки говорят о том, что поездки «На фонтаны» давно уже стали неотъемлемой частью петербургского быта.
– А знаешь, мне наш Петергоф больше Венеции нравится.
– Да ведь ты в Венеции не был?!
– Все равно, я на карте ее видел.
Ничего особенного.
– Господин кассир, дайте мне, пожалуйста, билет в Петергоф.
– Старый или Новый?
– Нет уж – вы поновее, пожалуйста.

Восточная лестница Большого каскада
В Петергофе у фонтана
Повстречала я Ивана,
А у Нарвских у ворот
Мне понравился Федот.
Посещение Петергофа для большинства петербуржцев становилось праздником, а для многих – событием, которое оставляло заметный след на всю жизнь. Сложился нехитрый, но знаменательный ритуал. Уходя из Нижнего парка, посетители бросают монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Петергофские казармы
Как и в большинстве петербургских пригородов, в Петергофе всегда располагались воинские казармы и военно-учебные заведения. Здесь постоянно квартировали два гвардейских полка – лейб-гвардии Уланский и лейб-гвардии Конногвардейский. Понятно, что за несколько столетий своего существования они стали неотъемлемой частью истории и повседневного быта как старого Петергофа, так и нового Петродворца.
Согласно традиционному городскому фольклору, посвященному гвардейским полкам, размещенным в Петербурге и окрестностях, уланы отличались задиристым, вздорным характером и доставляли немалое беспокойство законопослушным обывателям. Достаточно напомнить, что вот уже более двух столетий в памяти петербуржцев сохраняется предание о некогда популярном среди гвардейской молодежи кабачке на Васильевском острове. В народе его называли «Уланская яблоня». Местные жители рассказывали, что однажды перепившиеся уланы надругались над дочерью хозяина, после чего она повесилась на яблоне во дворе трактира.
Среди кадетов, солдат и офицеров петербургских военных училищ, кадетских корпусов и гвардейских полков из поколения в поколение передавались зарифмованные казарменные байки и шутки, постепенно составившие своеобразную поэму под названием «Журавель». Начиналась она неторопливым запевом:
Соберемся-ка, друзья,
И споем про журавля.
Припев: Жура-жура-жура мой,
Журавушка молодой.
Далее шли куплеты, посвященные почти всем гвардейским полкам и военным училищам дореволюционного Петербурга. Поэма постоянно совершенствовалась и дополнялась. Авторство ее отдельных куплетов в разное время приписывалось Г. Державину, А. Полежаеву,М. Лермонтову и другим представителям военной молодежи, ставшим впоследствии знаменитыми поэтами. Но кто бы ни были авторы куплетов «Журавля», все они сумели сохранить фольклорное происхождение большинства казарменных баек. Став составной частью поэмы «Журавель», они продолжали самостоятельное бытование в виде пословиц, поговорок, присловий, прибауток и других фразеологических конструкций, вошедших в золотой фонд петербургского городского фольклора. Немало куплетов посвящено и уланским «Журавушкам». Все они поддерживают сложившуюся репутацию уланов – забияк и драчунов: «Вечно весел, вечно пьян Ее Величества улан»; «Кто два раза в день не пьян, тот, простите, не улан»; «Все красавцы и буяны – лейб-гвардейские уланы».
Заметным событием не только армейской, но и гражданской жизни Петергофа становились ежегодные летние лагерные сборы учащихся военных заведений, которые продолжались несколько недель и заканчивались смотром в присутствии императорской фамилии. По окончании официальной части начинался знаменитый «Штурм каскадов» – традиция, долгие годы сохранявшаяся в дореволюционном Петергофе. По команде императора кадеты дружно устремлялись на уступы и лестницы Большого каскада. Преодолевая напор водяных потоков, сбиваемые с ног мощными фонтанными струями, они с веселым криком достигали верхней площадки, где наиболее проворных ожидали призы и подарки. Государыня из собственных рук награждала их небольшими «вещицами» из драгоценных камней.
Среди традиций современных курсантов сохраняется ежегодное весеннее «Разоружение Петра». Каждый раз перед выпуском из местных военных училищ молодых лейтенантов из композиции памятника Петру Великому в Петергофе исчезает шпага.

Памятник Петру I в Нижнем парке
Гордились собственным фольклором и курсанты Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова (ВВМУРЭ). Так, свое училищное кафе «Экипаж» они окрестили аббревиатурой «ЧПОК», что означает «Чрезвычайная Помощь Оголодавшим Курсантам». В училище отмечал праздник, не зафиксированный ни в одном официальном календаре. Праздновался он ровно за девять месяцев до выпуска и называется «День зачатия».
Время отпечатывается в фольклоре столь явственно и выразительно, что даже при беглом знакомстве с ним легко заметить социальные особенности той или иной эпохи. Вот две частушки. Одна из них появилась в самом начале XX века, другая – в его конце.
К Петергофу путь-дорожка
Усыпана песком.
Не моя ли расхорошая
Заплачет голоском:
«Мне б слепого иль хромого,
Только из ВВМУРЭ Попова».
Конец XX века характерен еще одной особенностью. Реформа армии, проводимая в России, болезненно коснулась и военно-учебных заведений. Многие из них просто прекращают существование и расформировываются. Вместе с ними исчезают традиции, большинство которых, несмотря на внешнее фрондерство, сплачивали и цементировали армию. 27 марта 1999 года состоялся последний выпуск офицеров Высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова. За 81 год своего существования училище произвело 121 выпуск высококвалифицированных военных специалистов. Каждый раз, проходя торжественным маршем по случаю производства в офицеры, молодые лейтенанты перебрасывали через плечо монетки, количество которых соответствовало порядковому числу всех выпусков. На удачу. В этот, последний раз их было 121.
Стрельна
Стрельна, или Стрелина мыза, расположенная на южном берегу Финского залива в 20 километрах от Петербурга по Петергофской дороге, была известна еще в XV веке. В писцовой книге Водской пятины Великого Новгорода 1500 года упоминается речка и деревня «на реке Стрельне у моря». Со старославянского языка название реки переводится как «движение», «течение». Однако уже в XVIII веке родилась легенда, что эта быстрая речка, берущая начало на Ропшинских высотах и впадающая в Финский залив, названа вовсе не по стремительному бегу воды, а в память о «переведении стрелецкого войска Петром I» в 1698 году. Как известно, Петр жестоко расправился с выступлением стрельцов.
В 1703 году, нарезая участки земли вдоль приморской дороги на Петергоф, Стрелину мызу Петр оставил за собой. К 1707 году здесь уже стояли особые «путевые хоромы», где Петр любил останавливаться на отдых во время поездок в Петергоф и Кронштадт.
Тогда же возникла в Стрелиной мызе и первая церковь. По преданию, после своего тайного бракосочетания с Екатериной в Екатерингофской церкви, Петр повелел в память об этом событии перенести церковь в Стрельну и сам будто бы участвовал в ее установке на новом месте. Правда, есть и другое предание, согласно которому первоначальная стрельнинская православная церковь по указанию Петра была переделана из немецкой кирки, издавна здесь стоявшей. От екатерингофской церкви здесь долгое время сохранялся иконостас, иконы, ритуальные сосуды, а также «готический стул с вышитою золотой полосою на спинке», на котором, если верить местным легендам, перед бракосочетанием сидел Петр, ожидая свою невесту.

Константиновский дворец в Стрельне
Современная Стрельна возникла примерно в восьмистах метрах западнее Большого стрельнинского дворца. Здесь на высоком холме, согласно преданиям, находилась старинная шведская усадьба с обширным плодовым садом, огородами, хозяйственными постройками и водяной мельницей. В 1710-х годах на этом месте Петр строит для себя деревянный дворец. Сад и огороды, по всей видимости, остаются нетронутыми. Павел Свиньин в одном из ранних описаний Стрельны уделяет непропорционально много внимания деревьям. Это неудивительно, если напомнить, что Петр именно в Стрельне заводит так называемую «древесную школу для молодых дубов, вязов, кленов, лип и других дерев и плодоносящих кустарников». Для этой школы Петр не забывал привозить из многочисленных путешествий семена и саженцы самых экзотических и малораспространенных в России деревьев. Выращенные в Стрельне, они назывались «Петровыми питомцами». Молва утверждает, что из этого замечательного рассадника высажено немало деревьев в Царском Селе, Петергофе и других петербургских пригородах.
Заботясь о молодой поросли, Петр бережно относился и к старым деревьям. Сохранилась легенда об огромной, возрастом в несколько сотен лет, липе, что росла возле стрельнинской оранжереи. При Петре на ней была выстроена специальная беседка, к которой вела высокая круглая лестница. Здесь, наслаждаясь видом моря, царь любил пить чай с немногими приглашенными. Иногда это были голландские шкиперы. Петр угощал их крепким чаем и слушал захватывающие рассказы о заморских странах.
Старинные легенды повествуют и о большом ильме, собственноручно посаженном Петром вблизи деревянного дворца. Однажды, находясь в Курляндии, царь обратил внимание, что местные жители делают из этого дерева разные весьма полезные в обиходе вещи. В окрестностях Петербурга ильм был редкостью. Петр решил развести ильм в России. Покидая Митаву, рассказывает легенда, он приказывает вырыть один небольшой ильм с корнем и привязать его сзади к своему экипажу. Таким необычным способом дерево прибывает в Стрельну и становится «Петровым питомцем».
Среди многочисленных деревьев, посаженных, если верить фольклору, лично Петром, в литературе о Стрельне упоминаются сосны круглого острова на пересечении среднего и поперечного каналов Нижнего парка, почти у самого залива.
Ко всему сказанному следует добавить, что если доверять стрельнинскому фольклору, то распространение на Руси картофеля началось именно со стрельнинских огородов при активном участии царя-реформатора Петра I.
У главного фасада Большого дворца берет свое начало стрельнинский Нижний парк. Строительство дворца началось в 1720 году по первоначальному плану архитектора Н. Микетти. Очень скоро интерес Петра к Стрельне угасает, строительные работы прекращаются, а саму Стрельну Петр дарит своей дочери Елизавете. В царствование Анны Иоанновны дворец сгорел. Только в 1751 году строительная жизнь в Стрельне вспыхивает вновь. Дворец «возобновляется» по проекту архитектора Растрелли.
Но, как и Петр I, все последующие владельцы Стрельны предпочитали ей блистательный Петергоф. Заброшенный стрельнинский дворец постепенно приходил в запустение. К концу XVIII века, как утверждали очевидцы, войти во дворец «без опасения было невозможно». Здание разрушалось, и про него среди петербургской публики начали ходить страшные рассказы. Будто бы по ночам здесь появляются тени мертвецов, слышатся стоны, раздаются крики и происходят другие «ужасы старинных замков». Правда, неисправимые прагматики склонны были относить происхождение всех этих небылиц к особенностям здешней акустики. Каждое произнесенное здесь слово трижды «диким голосом ответствовало из развалин». Рассказывали, что любители подобной экзотики специально приезжали из Петербурга послушать стрельнинское эхо.

Интерьер Константиновского дворца