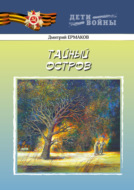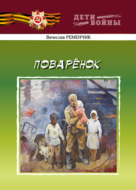Kitobni o'qish: «Была бесконечной война…»
© Советная Н. В., 2024
© Оформление. ОДО «Издательство „Четыре четверти“», 2024
* * *
Дотянуть до весны
Корни
Наташа уверенно вела машину по старой шоссейной дороге, которую проложили к деревням Оболь, Загузье, Вировля ещё лет сорок назад, при советской власти. Ловко объезжая западни из ямок и трещин, присыпанных дорожниками мелким гравием, но уже размытым дождями, женщина заговорщицки поглядывала на бабушку Наталью, в честь которой её назвали:
– Отыщем, бабуля, обязательно отыщем и твои Давыдёнки, и Маслицы, и погост. Гляди внимательно, где сворачивать?
Внучка примчалась из Москвы в Езерище на пару дней – проведать, лекарства привезти. Летом каждые выходные летала в Беларусь на своей ласточке, нынче же – декабрь. Хотя за окном лишь местами скудный снег или наледь, не успевшие растаять под настойчивой моросью золких дождей, и, вроде, зима ещё не наступила, но ведь дни – до обидного короткие. Только рассвело, а уж и стемнело! Сумерками да ночами Наташа ездить не любила: дорога после суетливого рабочего дня в сон клонит. Да и дел к концу года невпроворот, в выходные тоже приходится с отчётами возиться. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – не шутки. Раньше новогодних праздников проведать ещё раз не получится.
В нынешний приезд в хате не сиделось, словно подталкивал кто отправиться, пока снегом не замело, по бабушкиным родовым местам. Кроме неё, рассказать да показать уже некому. А годков Наталье Арсентьевне ни много ни мало – сто два! На своих ногах, в уме и в памяти.
– Поворачивай! – встрепенулась бабушка, замахала сухонькой ручонкой. – Кажись, туды!
Сколько же не была она на могилке у родительницы Софьи Тихоновны Григорьевой? Уже и доченьку свою, Валечку, Наташину мамку, схоронила.
– И зачем живу так долго? – вдруг всхлипнула, тонкие бесцветные губы мелко задрожали. – Горем только маюсь: столько похоронок-то за жизнь!
– Темнеет быстро. Туда ли едем? – внучка решительно переключила внимание.
Наталья Арсентьевна растерянно уткнулась в окно.
– Поросло всё лесом! Как узнать-то? А грязища… Машину тебе не жалко? – взглянула на Наташу виновато. – Я про могилки ляпнула, а ты и сорвалась. Детка, не слухай меня, старую!
– Грязь смоем, а вот тебя, бабулечка, мне жальче всех машин. Давно же по родимым местам тоскуешь.
…Пятилетняя Ниночка с тряпичной куклой в одной руке другой вцепилась за Наткину и словно онемела, в её перепуганных глазищах отражался большой деревянный гроб, стоявший на лавке посреди их махонькой хатки. Тоня поодаль, у печи, обессиленно опустилась на краешек табуретки и тёрла заплаканные до красноты глаза. Лёшка жался к папке. Арсентий Григорьевич, словно потерянный, уставился невидящим взглядом в одну точку и машинально гладил-гладил девятилетнего сынишку по коротко стриженным русым волосам.
В хату протискивались соседи и какие-то незнакомые люди. Гроб как привезли из больницы закрытым, так почему-то и не открыли. Бабы шептали, что никак не могла Софья разродиться, ребёночек-то и помер, а у несчастной – заражение крови. Охали, тайком крестились, вполголоса причитали. Иные голосили громко, так что и мужики не выдерживали, шумно вздыхали, сочувственно посматривая на вдовца. Как мужику одному с четырьмя ребятишками? Разве что старшая уже заневестилась – пятнадцать Наташке. Семилетку в Бодякино окончила как раз в нынешнем тридцать пятом году, успела мать порадовать. Чем не помощница на первое время?
То ли в тесной горенке от скопления народа душно, то ли от горя воздуха не хватало, только Натка не выдержала, из хаты выскочила вместе с Ниночкой. Обхватила её руками, прижала к себе, словно мамка.
– Не бойся, моя маленькая, всё будет хорошо, я с тобой!
…Машина шла по еле заметным лесным дорожкам, по пустынному полю, на черноте которого редкими расплывчатыми пятнами светился снег. Бабушка то признавала здешние места, то сомневалась. Приметили озерцо, да и должно быть, но не такое же! За поворотом путь преградил бурелом.
– Оставайся здесь, а я по тропинке попробую, – предложила внучка.
Наталья Арсентьевна согласно кивнула. Не с её ногами блудить по кустам да оврагам в декабрьскую слякоть. В такую же непогодь отец в тридцатом от раскулачивания пешком сбежал, чтобы не сослали в Сибирь. В декабре тысяча девятьсот двадцать девятого Постановление Совнаркома БССР вышло, по которому Городокский район был объявлен районом полной коллективизации. Вот тут-то и началось! Кто в колхоз, кто из колхоза…
Приедет ретивый начальник из города, объявит: «Всем в коммуну! А если против, так на луну отправляйтесь, потому как ничего не получите: ни земли, ни керосина, ни соли!» Люди пошли. Некоторые даже сознательно. Да на беду, в бригадиры-председатели не всегда ответственные крестьяне выбирались, затёсывались ловкачи: такие бездельники, пьяницы, как Ахрем Моисеев из Боровки. Народ возмущается, а он, как обухом в лоб: «Кто не согласный, тот есть антисоветский элемент! Заможных1 кулаков раскулачили и – на Соловки. Вам то самое будет, а может, и расстреляем!» Так ведь и правда, кузнеца Фадеева сослали. А справный же был мужик.
Арсентий Григорьевич в колхоз не хотел, подался искать работу ближе к большому городу. Так на строительство Беломорканала попал. До коллективизации в Бодякино у немца-мельника подрабатывал. Тот после революции обжился на белорусской земле. Откуда сам, кто его знает, может, ещё с Первой мировой остался.
Всё в его хозяйстве для местных было в диковинку. И сукно валял-красил, и пруд искусственный выкопал, и плотину соорудил. В воде утки, гуси плещутся. Хозяева на лодке – отдыхают, удочки забрасывают. Больше для развлечения, но и на ушицу лавливали. Сад большой. Арсентий Григорьевич, бывало, в платочек несколько яблочек завяжет – и домой. Дети уплетают – вкусно! Особенно Натка яблочки любила. Как увидит на столе, так глазёнки и загорятся. Морковку сеял немец. Для деревенских – тоже редкость. Они всё больше хлеб растили – это же главное. А у чужинцев ещё и диковинные цветы у дома, видимо-невидимо! Когда Наталья к папке в Бодякино бегала, так красоту ту глазами впитывала, впитывала…
Теперь же её хата в цветах от ранней весны, чуть не до снега. Розы вырастила сама – из черенков.
Заработал Григорьев у немца денег, чтобы поставить свой дом. А поначалу все вместе жили: с дедом и отцовыми братьями-сёстрами. Хатка крошечная, курная2. Спать негде. На полатях самотканую постель расстилали, утром скручивали. Хозяйство тяжким трудом, по крохам собиралось: лошадка, три коровы, поросята. Дед Гриша девять детей в свет вывел. Дедушка Тихон, который по матери, – шестерых. Все на земле и от земли. Без неё жизни не было, потому материнские братья за счастьем-земелькой в Николаевскую область подались, там легче было купить…
– Обтямнело-то как! – охнула Наталья Арсентьевна, беспокойно вглядываясь в заросшие ольшаником пустоши. – Теперь-то вон сколько её, землицы! Обезлюдела.
…Гулко, ритмично поскрипывали большие колёса механической молотилки. Софья Тихоновна, ухватившись двумя руками за ручку правого, крутила изо всех сил и, хоть вымоталась изрядно, вида не подавала, озорно на мужа поглядывала, радуясь урожаю. Арсентий Григорьевич, скинув взмокшую от пота рубаху, вращал левое колесо, но легко, одной рукой, умудряясь при этом и сноп поправить, и пот со лба смахнуть, и дочек подзадорить:
– Тоня, отгребай полову!3 Живее шевелись!
– Натка, что зазевалась? Сноп, сноп подавай!
Ноги у девчонок от усталости подкашиваются, ночь глаза слепит, а родители уже вдвоём покрикивают:
– Надо! Надо, доченьки! Потом выспитесь, потом отдохнёте. Покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах!
Наталья не ленива: она и лён полоть, поднять, мять, растирать и прясть, и со скотиной управиться, и лошадей на водопой… Вот и теперь тяжёлый сноп подхватила, а колосья щёку щекочут, полем от них пахнет, хлебом да так пряно-сладко, что глаза сами собой закрываются, руки слабеют…
Наташа возникла у машины неожиданно:
– Бабуль, ты задремать успела, пока я как волк по кустам рыскаю?
Наталья Арсентьевна даже не поняла, с какой стороны внучка появилась, но тут же запричитала:
– Сапоги модные запецкала!4 Деточка моя, а навошта5 это всё?
– Возвращаемся домой. Но завтра – вторая попытка! Выезжаем рано утром. Решили найти, значит, найдём! – не сдавалась Наташа.
Характер у неё бабушкин, та и теперь покомандовать любит. Этим летом постучался к ней в окошко человек серьёзный.
– Кто такой?
– Мэр я, – улыбнулся приветливо. – Роман Фёдорович Колца.
– А я бабушка столетняя! – засмеялась в ответ, хитро прищурилась: – Мэр, говоришь? На ловца и зверь. Помоги! Водопровод нужен в дом. Как мне без воды, сам подумай? Но для начала колодец бы отремонтировать. Ворота покрасить. Краска есть. Зять, Николай Константинович, инвалид военный, денежкой помог. А дочки моей два года нет, Царство ей Небесное! – Наталья Арсентьевна часто заморгала, прогоняя накатившиеся слёзы. – Зять хороший, бабушку не забывает, звонит каждый день… Ой, чуть не запамятовала: у забора обкосить! Школа, голубок мой, рядом – порядок нужон и красота… И на кладбище – две старые берёзы убрать, пока не завалило их ветром: переломают же кресты, памятники да оградки.
К осени Наталья Арсентьевна гордо доложила зятю:
– Гончаров, приехал бы из своего Отрадного, поглядел бы сам!
– Ох, и любишь ты командовать, тёща! Порода такая, что ли? – забурчал полковник. – Ладно уж, попрошу сына Борьку, что бы при случае свозил. Соскучился я по родимым местам. В Езерище и в Гурки хочу. И тебя, и твои розы давно не видел вживую, всё только… по скайпу, в ноутбуке, – сделав паузу, расхохотался Николай Константинович.
…Пока Наташа бродила по лесным тропкам, проваливаясь в залитые мутной бузой колеи да ямки, попадая под холодную капель с елового лапника и мокрых ветвей густого ольшаника, нешуточно продрогла. Завела машину, сразу включила печку:
– Бабуль, ты не замёрзла?
– В такой одёже и обувке? – Наталья Арсентьевна поправила полы пуховика, притопнула ногами в меховых бурках, благодарно блеснув взглядом в сторону внучки. – Не босиком же по снегу!
Пелена
С утра мороз крепкий, в тёмной январской ночи как чай настоянный. В воздухе колючие искринки повисли зимним туманом. Выскочила Наталья на крыльцо половик вытрясти – так и застыла. Что в небе творится? То ли полная луна повисла, забыв на покой уйти, то ли солнце тщится сквозь морозную пелену пробиться. Высветился белый диск, контур чётко очерчен. Луна! Ан нет, вдруг заблестело жёлтым, вспыхнуло золотым. Солнце! И снова пеленой накрыло. Никогда такого Наталья не видывала.
– Трофим! – окликнула мужа, но тут же спохватилась, вспомнив, что тот ещё часа два назад дверь прикрыл, уходя из хаты.
Обещал хлебный паёк получить. Хлебом назвать язык не поворачивался. Разве ж это хлебушек? Немцы в Езерище, там, где поворот на Панкры, пекарню открыли. За пайком очередь. Хоть из немолотого овса, мякины да опилок буханки, но всё ж еда. Трофим этот хлеб подсушивал, перемалывал на домашних каменных жерновах, а Наталья добавляла в получившуюся муку то, что добыть смогли – настоящей мучицы горсть, очисток картофельных… Лепёшки пекла. Не только себе.
Постучится в хату Мушка, старая скрюченная еврейка, и на хозяйку смотрит молча. Да такое отчаяние, такая безысходность в её болезненно-желтоватом морщинистом личике, всклокоченных седых волосах, во всей сухонькой согбенной фигурке, что руки сами к скрынке6 с лепёшками потянутся.
– Бери и уходи, Мушка, не то накличешь ещё беду на моих деток! – отводила глаза Наталья.
Вся деревня знала, что старуху немцы специально отпускают выклянчивать еду для узников гетто, в которое превратили два уцелевших после бомбёжек дома у железнодорожного вокзала. Евреев не кормили, местных к ним не подпускали, и хотя колючей проволоки, как в лагере военнопленных, не было, покидать территорию запрещалось. Охрана открывала огонь без предупреждения. А над Мушкой гитлеровцы словно потешались, зная, что почти ополоумевшая старуха, похожая на Бабу Ягу, не сбежит, вернётся с сухарями и бульбинами, которые разделит по крошкам на всех.
Однажды Трофим, завидев в окно несчастную Мушку, вдруг помрачнел, словно в преисподнюю заглянул:
– На фронт хочу! На фронт!
– Какой фронт? Немцы везде с того проклятого семнадцатого июля, – всполошилась Наталья, – вишь, как расхозяйничались! Обустраиваются панами. Разграбили аптеку, больницу, клуб… Замки взламывают, из домов добро тащат. Не страшатся никого! Где он, фронт твой? А военкомат когда ещё разбомбили? В самом начале войны! Не призвали тебя, пока эвакуацией занимался, остался при мне да при детях – и слава Богу! На кого ребятёночков покинуть-то хочешь?
Лора, первенец Севостьяновых, испуганно вцепилась в мамкину юбку. Наталья подхватила девочку на руки и, распаляясь, зашумела смелее:
– Это вот дитё без тебя родилось! Как сиську сосала, не видел. Вернулся – на тебе, уже ножками топает! Только и заслуга, что имя сам придумал.
– Я ж не виноват, что меня в это время на службу призвали! – незлобно огрызнулся Трофим.
– Вот! Наслужился уже! Долг Родине отдал, – наступала жена.
Письма из армии домой Севостьянов отправлял часто. Доходили исправно. Сначала с польской стороны, пока в составе мотострелковой бригады Рабоче-крестьянской Красной Армии Трофим освобождал Западную Белоруссию7. Потом долетела весточка с Карело-финского фронта8. Строгий наказ Наталье – назвать дочку Ларисой. В тридцать девятом она родилась.
Младшенькая Галя появилась на свет четырнадцатого октября сорок первого. При немцах. При папке. Как воды у Натальи отошли, так Севостьянов бросился за акушеркой Цурановой, в хату привёл и – воду греть, чистые простыни, полотенца готовить. Больница-то разграблена, врачи арестованы, кого-то и в живых уже нет… Но, видать, там, на небе, все нужды наши ведомы. Не отказала Александра Семёновна.
Трофим возмущённо вспыхнул:
– Говоришь, наслужился? Отдал долг? Молчала бы ты, Наталья! Да мне б сейчас оружие, – глаза блеснули яростной решимостью. – Перестрелял бы гадов!
Жена сникла, будто обмякла, устало опустилась на стул. Лариса вырвалась из её рук, живо соскользнула на пол, удивлённо уставилась на отца.
– Не говорил я тебе, – наконец признался он, – вчера с мужиками волок убитого коня (неделя ему, не меньше) в лагерь военнопленных, что в разбитой школе. Приказали немцы, сволочи, чтоб над людьми поиздеваться, – сжал зубы, пытаясь сдержать дрожь, но губы нервно задёргались. – Наши ребята, пленные, от голода эту сырую дохлятину руками рвали!
…Наталья ещё раз встряхнула половик, для надежности хлестнула им об угол хаты, снова взглянула на небо. Бело-лунный солнечный диск запутался в берёзовых ветвях. Зябко поёжилась: «К чему бы это? Господи, только бы с детками болезни какой не приключилось!» Из дома донёсся ребячий плач. Она ещё раз оглянулась на дорогу: не видать ли мужа, – поспешила к малышке.
Севостьянов вернулся, когда уже смеркалось. Протянул жене свёрток с пайком, не раздеваясь, устало привалился к стене, уставился в пол.
– Случилось чего? – оробела Наталья.
Желваки так и забегали на мужниных скулах, скрипнул зубами, сжал кулаки.
– Что?
– Не могу я это терпеть, не могу! – простонал, опускаясь на лавку. – Хлопчики, дети горькие… А их – к телеге, босиком по снегу. В одних рубашонках. Народ согнали – смотрите! Чтобы боялись…
Трофим замолчал. Жена беспокойно теребила край фартука, ждала.
– Повесили. У больницы. На берёзах. Будто бы – партизаны!
– Дети? – охнула Наталья, оглядываясь на люльку с Галинкой.
– А я у юбки твоей торчу! – сверкнул глазами Трофим.
Килька
Сон не шёл. Наталья Арсентьевна крутилась на постели, не зная, куда деть руки-ноги. Изнылись, изболелись – износились за целый век. «Ай, – шептала сама себе, – одного льна сколько ж натягалась! Его и прополоть надо, и выдергать, и в снопы повязать… А прясть? А кросны ткать? А хлеб испечь? Девчонкой ещё научилась. Как мамки не стало, кто ж сделает? Пока тесто вымешаешь, руки отваливаются, плечи ломит… Ай! Вспоминать страшно, какую жизнь прожила…» – охала тихонько, боясь потревожить внучку.
…Председатель колхоза постучал к Сипачёвым и, махнув рукой в сторону Натальи, попросил:
– Прими, Прасковья Макаровна, к себе на постой молодого специалиста! Девушка образованная, скромная, из наших, деревенских. Работы не боится. С отрядом землеустроителей из области. Угла своего пока нет.
Хозяйка, мать троих детей, старшего уже в армию призвали, поправила цветной платочек, одёрнула клетчатую юбку, живо спустилась с крыльца, придирчиво оглядывая гостью.
– Звать-то как? Откуда? Замужем? – засыпала вопросами, словно анкету в отделе кадров заполняла.
Председатель поспешил распрощаться. Прикрывая калитку, оглянулся на Прасковью, озадачился: «Неужели за мужа взволновалась? Василий Семёнович мужик надёжный, верный. Зря она так. Как бы не обидела девчонку ни за что ни про что».
Слух о землеустроительном отряде из восьми человек с начальником Ковалёвым пронёсся по колхозу мгновенно. Работа по расселению хуторов в центры шла полным ходом. Наталье вручили список переселенцев и дали задание разметить улицу в Лялевщине. С чертёжным пером она ни днём ни ночью не расставалась. Размеряла участки честно, никому не угождая, никого не обижая. Опыт какой-никакой имела. Сразу после курсов в Горецкой академии потрудилась в Витебске, потом в Ветрино Полоцкого района. В колхозе «Чекист». И теодолитная съёмка на ней, и план территории – все дорожки, ручьи, пахота…
На следующий день вернулась с работы, а за столом молодой, светловолосый, как и хозяйка, хлопец. Глазами так и ожог! Прасковья же усмехается, взгляд с хитринкой:
– Познакомься, Трофим, жиличка наша – Наталья Григорьева. Из Давыдёнок. Мой Сипачёв с ейным таткой Арсентием Григорьевичем знакомый. Говорил, что добрая семья, только мамку схоронили. Так эта девочка за хозяйку в доме была – всё сама! Пока не приженился отец снова. А теперь вот выучилась. Землеустроитель!
Наталье – хоть сквозь землю. Залилась краской, голову опустила, вот-вот расплачется.
– Она ж ещё и скромница! – добавила ласково Прасковья Макаровна. – Не обижайся, девонька, не тушуйся, это ж брат мой, Трофим. В райпотребсоюзе работает. Кильку принёс. Сейчас с картошечкой пойдёт за милую душу! Давайте к столу!
…Свадебное застолье после регистрации брака в сельсовете не совсем походило на шумную деревенскую свадьбу. Сыграли скромно, в съёмной хате Севостьянова, где он после переезда в центр проживал с престарелой матерью Ефросиньей Фёдоровной, которой уж на восьмой десяток перевалило. Последышем Трофим родился двадцать шесть лет назад, когда родители даже не помышляли. Думали, что раздобрела, округлилась Фрося по возрасту, а она вдруг ребёночка почувствовала – зашевелился! И стыдно было от людей, и страшно, и радостно. Теперь, когда отца не стало, Трофим матери – опора. Вот такой он, промысел Божий.
После свадебки засобирались молодые в Давыдёнки, надо же отцу, Арсентию Григорьевичу, сообщить непростую новость, с Севостьяновым познакомить.
– Ай, боюсь я, Трофимушка, вдруг папка осерчает, что без его благословения? – робко шептала Наталья, собирая съестные гостинцы.
– Так ведь тридцать километров по лесу пешью! Не набегаешься. И теперь не те времена, чтобы благословение просить, – отозвался Севостьянов.
А Наталья только представила, как они с Трофимом явятся на порог отчего дома, так и обмерла. Словно холодом обдало.
– Не понимаешь ты… Парень – совсем другое дело. А я – девчонка. Стыдно-то как!
– Чего стыдно? – Севостьянов притянул жену к себе, нежно обнял, ласково заглянул в глаза. – Ты теперь моя! И воля моя, а не батькина. Познакомиться надо, это верно. Уважения никто не отменял. Но для него ты – отрезанный ломоть. Ему других детей на ноги ставить надо. Он, может, даже вздохнет с облегчением.
– Скажешь тоже! – Наталья зарделась зорькой. – Папка у меня хороший, ты не представляешь, как он меня любит!
– Я тоже люблю! – Трофим подхватил жену на руки и закружил по горнице.
Она откинула голову, густые каштановые волосы распушились, разметались по мужниному плечу, защекотали ему шею, щеку. Он вдруг заливисто-счастливо рассмеялся. Наталья подхватила, их звонкий семейный смех разлился по хате и выплеснулся через приоткрытую дверь в сенцы, на улицу. Трофим настороженно-нетерпеливо оглянулся на окно, но мать всё ещё хлопотала во дворе, в хату не спешила, – и впился в маняще-алеющие, сладкие губы жены.
Конец июня тысяча девятьсот тридцать восьмого года уже дышал приближавшимся знойным июлем. Однако лесную дорогу устилали прохладные тени высоченных деревьев, свежий воздух звенел птичьими голосами, нежно-жёлтые бабочки-лимонницы безмятежно порхали, взлетая прямо из-под ног. Наталья сбросила туфли, шлёпала босиком, не опасаясь ни прошлогоднего хвойного опада, хоть и сменившего цвет на коричневый и помягчевшего от морозов, дождей и времени, но всё ещё колючего, ни выпирающих из земли корней, норовящих зацепить и больно сбить пальцы, ни больших лесных муравьёв, по-хозяйски снующих поперёк дороги и готовых щедро прыснуть на голую кожу едкой кислотой. Сколько исхожено здесь босонож, потому как порой и обуть-то было нечего.
– Я же сразу в дошкольно-педагогический поступила, на воспитателя. Детишек очень люблю, – призналась Наталья и смутилась, заметив, как пристально взглянул на неё Трофим. – Но на учёбу денег не было. Папка даст кавалак окорока – живи как хочешь. Дома брат и сестрёнки, Ниночка совсем маленькая. Так мне их жалко, как раздумаюсь! Реву, реву… Сорвалась с учёбы!
– В деревню вернулась? – удивился Севостьянов.
– В поле работала. Лён мы растили, сдавали в Бычихинский льнозавод. Тоня учиться пошла. В Витебск, на медсестру. Надо было ей помочь. И папке – по дому.
– А Алексей, брат твой? – Трофиму хотелось узнать о новых сродниках все подробности.
– Брат – шалопай шалопаем! – засмеялась Наталья. – Учиться и сейчас не желает. Ему бы только рыбу ловить.
– Полезный продукт, в ней фосфора и кальция много. Я бы тоже с удочкой на озеро! – размечтался Севостьянов.
– Рыбачить умеешь? – деланно засомневалась Наталья. – Я думала, ты специалист только кильку из бочки в магазине вылавливать, – подковырнула озорно и вдруг вспомнила: – Ай! Рыбу сегодня снила! Целый таз рыбы на столе. Ты принёс как-будто…
– Стой! – Трофим схватил жену за руку. – Не двигайся!
На дороге, почти у самых ног, скрутившись кольцами, грелась змея. Гладкая чёрная кожа узорчато отливала неоновой синевой.
– Какая же это змея? Это – уж! – снисходительно хмыкнула Наталья.
– Стой! – Трофим резко подхватил жену, отпрянул в сторону.
Гадюка высоко подняла голову, угрожающе зашипела, несколько секунд, покачиваясь, смотрела в сторону людей, потом стремительно поползла прочь, уступая дорогу.
Наталья крепко обнимала мужа за шею, а он нёс её на руках, боясь опустить на землю, словно там снова ждали ядовитые гады.
– Защитник ты мой! – прошептала нежно, осыпая жаркими поцелуями. – Устал? Давай передохнем? Ещё идти и идти.
Ловко расстелив на траве полотенце, разложила хлеб, сало, поставила бутылку со сладким чаем.
– Руки бы ополоснуть, – оглянулся по сторонам Севостьянов.
– У меня и водица с собой, – улыбнулась услужливо. – Я полью, подставляй ладони!
– Капни ещё – лицо освежить. К полудню-то как запекло! Скоро и тень не спасёт. Я бы искупался сейчас.
– Мы на озеро сходим, если не заленишься. Папка мой до колхозов у немца в Бодякино работал. Там сказочный пруд! А немца раскулачили. Его добро по дворам раздали. И нам на память зеркало досталось, – Наталья поправила волосы, задумчиво глядя вдаль, словно видела там своё отражение.
Трофим залюбовался женой. Тонкая, как вербочка, в лёгком платьице с голубыми цветочками – сама сшила к свадьбе. Щёчки порозовели от ходьбы, солнышко их загаром прихватило. Губы вишенками налились… Волна щемящего тепла, смешанного с радостной гордостью, подкатила к горлу, и неожиданно защипало глаза. Он подскочил с земли, отвернувшись, чтобы Наталья не заметила его волнения, глубоко вздохнул: «Не хватало только сырости! Расчувствовался, словно девчонка!» – рассердился на себя, нарочито грубо скомандовал:
– Собирайся! Расселась как на базаре. До вечера не дойдём.
И тут же, испугавшись, что любимая обидится, стал сам складывать продукты в заплечный мешок, заговорил мягко, виновато пряча глаза:
– Давно хотел спросить, каким ветром тебя в землемеры занесло? Дело, вроде, не девичье?
Наталья, хоть и заметила замешательство мужа, но вида не подала, отозвалась весело:
– Так рассказывала же: денег учиться в педагогическом не было! А на курсах землеустроителей стипендия – сто двадцать рублей! Общежитие бесплатное. Я тогда и пальто себе купила, и платье. Можно было дальше образовываться, высшее получать, но у меня ж малые – сёстры да братик…
Под низеньким маленьким окошком отцовского дома, на вросшей в землю лавочке, коротко стриженная, словно мальчишка, Ниночка так увлечённо наряжала тряпичную куклу, что не услышала скрипа калитки. Наталья подошла к ней тихонько, на цыпочках, и, радостно охнув, подхватила на руки. Девочка вздрогнула, оглянулась и, тоненько завизжав от восторга, повисла на шее у сестры:
– Натка, Наточка, как я соскучилась!
Заслышав голоса, из избы выскочил сияющий Алёшка, худющий, босой, в одних холщовых коротких штанах. Приметив Трофима, остановился. Еле сдерживаясь, поздоровался степенно, протянув руку, представился гостю по-взрослому:
– Алексей!
На большее его не хватило. Сорвался с места, бросился к Наталье, обнял, не стерпев, чмокнул в щёку.
Арсентий Григорьевич показался из хлева, где чинил перегородку. Рукава рубахи закатаны до локтей. Лицо, руки словно закопчены, успели покрыться коричневым загаром. Широко улыбаясь, щурясь от хотя и закатного, но ещё яркого солнца, наблюдал издалека, придирчиво рассматривал Севостьянова. Наталья заметила, смущённо подхватила под руку Трофима, подвела к отцу.
– Это муж мой! – и заалела, кровь ударила в лицо – ничего с этим не поделать, хоть провались на месте.
– Что ж, гости дорогие, проходите в хату, знакомиться будем! – приветливо улыбнулся Арсентий Григорьевич. – Лёша, подай-ка мне воды и полотенце! Да предупреди Агриппину Сергеевну, чтоб на стол накрывала.
Мачеха, моложавая вдовая баба, и так уже суетилась, хлопотала, из окна завидев гостей и сразу смекнув, что к чему. Торопливо повязала припрятанный до поры новый платок, затёртый фартук поменяла на свежий, бросилась убирать с глаз долой разбросанную одежду. Закинула за каптур скрученную постель, прикрыв её занавеской, смахнула метёлкой под печь дровяные щепки и мусор. При этом лихорадочно соображала, чем угостить нежданно пожаловавших. Бульба в подполье заканчивалась, до нового урожая ещё далеко, но с утра в чугуне оставалась сваренная в мундире. Яйца есть. Молоко. Зелёного лука нащипать можно.
Нетерпеливо сглатывая слюнки, Ниночка и Лёша заворожённо следили, как сестра выкладывала на стол гостинцы. В полотняном мешочке – сахар, кулёчек конфет-подушечек, розовая пастила, пряники, белый хлеб и совсем невидаль – грамм триста копчёной колбасы. Последней на столе появилась килька.
– Вот это пир! – восторженно заключил Алёшка.
– Свадебный! – заискивающе-ласково поддержала Агриппина Сергеевна.
Арсентий Григорьевич пригладил отливавший густой сединой чуб, кряхтя, поднялся из-за стола.
– Что ж, дети, не сразу, но лучше поздно, чем никогда, – благословляю вас на долгую счастливую семейную жизнь! – произнёс торжественно и неожиданно широко перекрестил молодых: – Благослови, Господи! Пресвятая Богородица, помоги своим заступлением!
– Папа! – растерялась Наталья. – Что за старомодные привычки!
– Ничего-ничего, мне, старому, простительно. Меня батька благословлял, я – тебя. Так ведь испокон веку! Знаю, что Бога отменили… Только без Бога-то не до порога! Ты забыла, что ль, как с красным яйцом на Пасху всю деревню обходила? Как мамка посылала в часовню свечки ставить? Хужей, что ли, тебе от этого становилось? Так-то… Отцы наши в церкви венчались, чтобы до последнего часа вместе, о разводах всяких даже не помышляли. И нам так заповедали. Бог-то в сердце читает. Его не обманешь!
Трофим крепко сжал руку жены, шепнул: «Слушай, что отец говорит!» – благодарно поклонился тестю в пояс.
– Мы постараемся, чтобы навсегда вместе.
– Уж постарайтесь, постарайтесь! – засветился Арсентий Григорьевич. – А я, чем смогу. Мысль есть: к вам поближе перебраться, в Езерище. Можно ведь и хату перевезти.
За ужином Наталья набросилась на солёную кильку:
– Во сне даже её видела! – смеясь, удивлялась своему желанию.
– Во сне? – Агриппина Сергеевна многозначительно переглянулась с Григорьевым. – Рыба во сне – это хорошо, особенно после свадьбы. Глядишь, через девять месяцев с прибылью будете!