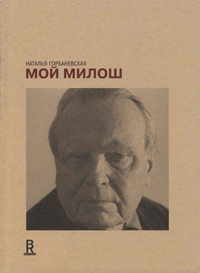Kitobni o'qish: «Мой Милош»
Вместо предисловия
Человек-эпоха
Памяти Чеслава Милоша
Лет семь назад Александр Фьют, один из самых пристальных исследователей творчества Чеслава Милоша, писал – на примере одной книги, но это можно распространить и на другие – о роли личной, индивидуальной биографии Милоша как материала его поэзии: «Ее [биографию поэта] можно воспринимать как особенно поразительный и ощутимый урок случайности человеческой судьбы, урок, который дала в ХХ веке история одному из жителей Центральной Европы. Одновременно это трудно охватываемая сумма опыта, наблюдений, мыслей, воспоминаний, составляющая любую отдельную жизнь, которая в данном случае обнимает почти целую эпоху».
Сейчас, когда эта жизнь закончилась, я убрала бы «почти»: она обняла действительно целую эпоху, начавшись накануне «настоящего двадцатого века» и закончившись уже в XXI, в первые годы новой эпохи (начало которой мы можем отсчитывать от 11 сентября 2001-го). А кроме того я сказала бы, что Милош – весь: и жизнь, и творчество – не столько «обнял», сколько вместил всю эту эпоху, вобрал ее в себя, стал своей эпохой, со всеми ее историческими, социальными, культурными зигзагами. Не скажу: со всеми заблуждениями – не со всеми, но на свои и чужие заблуждения ХХ века Милош смотрел равно проницательно и зорко, равно безжалостно.
Рецензируя в 1990 году в «Континенте» книгу прозы (если угодно, сборник эссе) Милоша «Год охотника», я отмечала, что автор говорит в ней вещи, которые могут «вызвать возмущение польских националистов, даже в том благородном случае, когда они называются просто патриотами», – например, напоминает, что Западные земли (или, как они назывались в ПНР, Обретенные земли) были получены в подарок от Сталина, подарок, предназначенный, разумеется, не кому иному (не свободно избранному парламенту, например), а коммунистическому режиму. «Национализмы моей части Европы весьма патологичны, – писал Милош в этой книге. – Я не могу доверять мысли, порожденной унижением и попытками побежденных найти утешение».
Но, жестко оценивая настоящее своей страны, Милош не идеализировал и ее прошлое. В конце 90-х он выпустил книгу «Экспедиция в Двадцатилетие» (имеется в виду межвоенное двадцатилетие, счастливые годы польской независимости после полутора веков жизни под гнетом трех держав-захватчиц). Польский критик Хелена Заворская, рецензируя книгу, пишет:
…свежеобретенная свобода оказалась грузом, который трудно было нести людям, имевшим боевой опыт, но не умевшим управлять современным государством. <…> Грезившаяся целым поколениям «заря свободы» преображалась в зарева всё новых войн и погромов. Мы предпочитаем об этом не помнить, но Милош в своей книге неуступчив, он напоминает самые щекотливые, жестокие, глупые дела. Он не говорит с нами осторожно и умильно. И никакого утешения не доставит нам тот факт, что сегодняшние затруднения со свободой напоминают былые поражения.
Да, Милош и с годами не стал «осторожнее и умильнее», говоря со своими соотечественниками, и если говорить о милошевском уроке, то такой разговор может принести пользу не только «жителям Центральной Европы».
Есть ли у нас русский Милош?
Милош сегодня в России известен – и неизвестен. Первой книгой Милоша по-русски был «Поэтический трактат» в моем переводе и с моими примечаниями, изданный в «Ардисе» (Анн-Арбор) в 1982 году. В 1993 году в издательстве «Вахазар» вышел сборник «Так мало и другие стихотворения», включивший стихи начиная с 30-х годов. Милошу вместе с Томасом Венцловой было посвящено «досье» в «Старом литературном обозрении» (2001, №1), там же приведена его библиография, включающая переводы на русский. На первый взгляд, она выглядит внушительно, хотя сегодня к ней надо прибавить хотя бы переводы Британишского из вышедшей в 2002 году его и Натальи Астафьевой антологии польской поэзии, его же перевод знаменитой книги «Порабощенный разум», изданный годом позже (точнее, впрочем, как мы уже не раз отмечали, было бы перевести «Порабощенный ум»), и еще ряд публикаций 2000-х. И все-таки в сравнении с объемом написанного Милошем – «так мало»! Нередко переводится одно и то же: так, кроме моего (первого) перевода «Кампо ди Фьори» это стихотворение перевели Михаил Крепс и опять-таки Британишский; после «Зачарованного Гути» в книге, составленной Андреем Базилевским, появился другой перевод того же стихотворения под дважды неверным названием «Очарованный Гучо». Хорошо соревноваться переводчикам на одних и тех же стихах, когда поэт по-русски уже всерьез существует. Увы, осмелюсь сказать, что Милош по-русски существует только в самом первом приближении. Кроме того его надо было бы переводить не отдельными стихами, не подборками разных лет, а книгами; в большинстве его сборников верлибры перемежаются белыми и «почти белыми» стихами, чистой прозой и тем, что можно было бы назвать стихотворениями в прозе (если бы этот термин не был напрочь скомпрометирован Тургеневым), переводами иноязычных (англо-американских, ближне– и дальневосточных) стихов, выписками из исторических документов Великого Княжества Литовского и т. п. Пока что целиком переведена лишь одна книга, из недавних, – «Придорожная собачонка», и то, как я заметила, русские рецензенты (кроме Ксении Старосельской) с ней не разобрались, считая, что все, напечатанное в ней не в столбик, – это «эссе».
Милош много писал в последние годы – и на девятом, и на десятом десятке лет. 14 августа подвело черту под его творчеством. Русским издателям и переводчикам пора обратиться к нему пошире и поглубже – и к книгам его стихов, от первых до последних, и к книгам его эссе (которые опять-таки собираются в книгу не случайно, а по-русски пока существуют лишь в распыленном виде), и к его замечательной повести о детстве среди дикой литовской природы «Долина Иссы», и к тому, что написано о Милоше его соотечественниками1. Может быть, тогда мы воистину оценим совсем особый дар Чеслава Милоша, его совсем особую погоню за реальностью.
«…в конечном счете я бы сказал, что цель, которую я преследую, – это реальность. Погоня за реальностью», – ответил Милош на вопрос Бродского, чего он стремится «достичь в поэзии, в литературном творчестве». Немодный ответ. Сегодня – особенно немодный. Но очень нужный – то есть очень нужно то, что за ним стоит, та реальность, за которой гонится, которую нагоняет Чеслав Милош в своих стихах, прозе, эссе и многочисленных промежуточных формах, выходящих за пределы собственно прозы и собственно стихов.
Особый поэт
Тут самое место вернуться к поэтическим книгам Милоша. В свое время я писала о сочинении Милоша «Особая тетрадь: Звезда Полынь» («Культура», Париж, 1980, №11):
Трудно назвать это просто стихами – для этого у «Особой тетради» слишком сложная, смешанная форма. (Вспоминаются более ранние строки Милоша: «Вечно стремился я к форме более емкой, / что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой…») Но, несомненно, это сочинение поэта Милоша, а не прозаика или эссеиста. Предположительный генезис этого произведения (впрочем, рискуя ошибиться) можно вывести из того, что двумя номерами раньше в той же «Культуре» было напечатано стихотворение «Звезда Полынь». В новом тексте эти четыре четверостишия, рифмованные, почти классического склада, стали лишь завершающим ударным аккордом в стремительном, почти кинематографическом чередовании верлибров, белых стихов и кусков, написанных «просто прозой», нанизанных на вспоминание (не вос-) литовского детства и пронизанных видением судьбы человека на Земле, «крещенного на восходе Звезды Полынь» и с младенчества несущего непрошеный груз времени и безвременья.
Замечу, что составители содержания журнала «Континент» (№100, 1999), поставив после названия пометку «Эс.», то есть эссе, явно ошиблись в жанре.
Такая форма (или жанр) появляется у Милоша по крайней мере с 70-х, со сборника «Где восходит солнце и куда закатывается». Но рецензенты и критики очередных книг Чеслава Милоша как будто никак не могут к этому привыкнуть. Кого ни возьмешь – у каждого в тех или иных словах встретишь удивление: какая необычайная, ни на что не похожая книга! Да и верно: друг на друга они тоже непохожи, так что привыкнуть не удается. И кто ни примется за исследование поэтики Милоша, обязательно отметит, что поэт выходит за пределы стиха и прозы – или, в других терминах, стирает границу между ними. На примере публикуемых в этом номере журнала переводов из книги «Хроники» вы лишь отчасти, но все-таки увидите эту его особенность, точнее говоря особость.
Всё его творчество – особая, отдельная, не «общая» тетрадь. Но душа человеческая (в данном случае читательская) – тоже дело особое, и только на подлинно особое она откликается. Можно вспомнить портреты поэтов в «Поэтическом трактате»: сам Милош видит их – и несколькими строчками о каждом передает нам свое восприятие – как поэтов особых, отдельных, как крайне разноголосые инструменты оркестра польской поэзии. Так и Милоша мы видим, слышим, читаем как особый инструмент – огромного, впрочем, диапазона, органного что ли…
Мой Милош
Без воспоминаний о встречах, знакомстве, дружеских отношениях сегодня тоже, конечно, не обойтись. Впрочем, знакомство знакомством, а сначала мы встретились заочно. В 1973 году я получила в Москве дошедший из Калифорнии том «Стихи» (Лондон, 1967). С 1953 года все новые сборники стихов Милоша (как и его проза, и эссе, и переводы) выходили в «Институте литерацком», книжном издательстве парижской «Культуры». Но, конечно, Милош предпочел не отправлять через границу, даже с оказией, одно из этих подрывных изданий. На книге надпись: «Коллеге [по-польски слово женского рода – «колежанке»] Горбаневской с дружбой. 20.II.73. Чеслав Милош».
Вживе мы с Милошем встретились в сентябре 1976 года, на организованной парижскими поляками и венграми конференции «1956—1976», в которой участвовали и французы, и выходцы из других, кроме Польши и Венгрии, стран Центральной и Восточной Европы, включая и автора этих строк (с докладом «Самиздат – школа свободы»). И встречались после этого многократно, чаще всего на вечерах Милоша, которые устраивал парижский религиозный «Центр диалога» во главе с незабвенным ксендзом Юзефом Садзиком, тем самым, кто побудил Милоша переводить Библию (об этом Милош пишет, в частности, в своей статье «Над переводом Книги Иова» – см. «Континент» № 29, 1981 [с. 212 наст. изд.]).
Особенно интенсивным стало наше общение, когда я переводила «Поэтический трактат». Всё новые и новые получерновые редакции перевода я отправляла в Беркли и получала подробные замечания, после чего правила текст и снова отправляла. Перевод еще не был закончен, как мы встретились, но не в Париже и не в Беркли, а в Гарварде. Осенью 1981 года Милош проводил там семестр, во время которого прочел ставшие потом знаменитыми «Шесть лекций о поэзии» (кстати, в той же книге «Хроники» есть аналог им, но написанный стихами – особыми милошевскими стихами). А меня, оказавшуюся в США, пригласили прочитать лекцию – о чем бы вы думали? – ну конечно о том же самиздате. И Милош пришел на мою лекцию! Нобелевский лауреат был моим слушателем, а я – прямо как его профессором. Вот раздувалась от гордости – и смущения. А после лекции я собралась показывать Милошу перевод, заново исправленный по советам Бродского. Тогда-то Милош и сказал мне: «После Иосифа могу больше не смотреть».
Я долго не решалась переводить Милоша: тот же «Поэтический трактат», на который я страшно завелась еще в Москве, казался мне непереводимым. После Нобелевской премии Владимир Максимов потребовал от меня стихов Милоша – я перевела «Особую тетрадь: Звезду Полынь» (да еще несколько стихотворений для «Вестника РХД») и уверовала в собственные силы. Тогда и взялась за «Трактат». Перевод всё еще не был окончен, а Милош, как мне передавали со всех сторон, уже хвалил его американским студентам.
Последний раз мы виделись в октябре 1997 года в Кракове, на международном фестивале поэтов «Восток – Запад». Сохранилась групповая фотография, где я стою рядом с Милошем, далеко не доставая ему до плеча. Где-то с другого края стоит Томас Венцлова2. Очень хорошо было видеть вместе Чеслава Милоша и старого моего друга Томаса (Томаша, как по-польски звал его Милош): поляк и литовец, но оба «литвины», и чем-то, не только ростом, ужасно схожие. Зато никогда я не видела Милоша с Бродским (не совпало: в Париж из Америки они приезжали в разное время, а когда я виделась с Иосифом в Нью-Йорке, Милош был или в Беркли, или, как в тот раз, в Гарварде, или даже, такое однажды случилось, в Париже), Милоша с Гедройцем (главный редактор «Культуры» любил принимать гостей по отдельности).
Думаю, что об отношениях Чеслава Милоша с Ежи Гедройцем еще напишут люди, знающие дело лучше меня, тем более что уже изданы тома переписки, проливающей свет на их не всегда простые, но очень важные для обоих отношения. Хочу только напомнить, что когда Милош стал эмигрантом, то первым – и надолго едва ли не единственным, – кто протянул ему руку помощи, был Ежи Гедройц. Лондонские круги польской эмиграции смотрели на вчерашнего дипломата ПНР, мягко говоря, с недоверием, а чаще – с прямой враждебностью. Милош стал печататься в «Культуре», выпускать книги в ее издательстве. В 1980 году у Гедройца было два великих праздника: одним было создание «Солидарности», подготовленное поколением, которое называло себя взращенным на парижской «Культуре», считало себя учениками Гедройца; а затем последовала Нобелевская премия Милошу. В декабре Милош приехал из Стокгольма прямо в Париж. «Институт литерацкий» переиздал все его прежние книги, и на вечере Милоша (цитирую сама себя) «я видела, как читатели расхватывали эти свежевыпущенные томики в привычной серенькой обложке, только с красной полоской на уголке: „Нобелевская премия, 1980“».
* * *
Чтобы вернуться от «моего» Милоша к Милошу как таковому, закончу цитатой из Витольда Гомбровича. Как легко догадаться, Гомбрович, скончавшийся в 1969 году, сказал эти слова, когда присуждение Чеславу Милошу Нобелевской премии никому еще и во сне не снилось.
Это писатель с ясно очерченной задачей, призванный ускорить наш темп, чтобы мы поспевали за эпохой, – притом с великолепным талантом, замечательно приспособленный к выполнению этих своих предназначений. Он обладает чем-то на вес золота, что я назвал бы «волей к реальности», а в то же время – ощущением болезненных точек нашего кризиса. Он принадлежит к немногим, чьи слова имеют значение…
Большой формат
Поэтический трактат
Вступление
Пускай родная речь простою будет.
Пускай любой, едва услышит слово,
Увидит реку, яблоню, тропинку,
Как видишь в полыхании зарниц.
Однако речь не может быть картиной
И только. Издавна ее прельщает
Мелодия и рифмы колыбельность.
Неладно ей в сухом, шершавом мире.
Сегодня часто спрашивают, что за
Смущение, с каким стихи читаешь,
Как будто автор с умыслом неясным
В них обращался к худшему себе,
Изгнавши мысль и обманувши мысль.
С приправой шутки, шутовства, сатиры
Поэзия ценителей находит,
Такой она понравиться способна.
Но те баталии, где ставка – жизнь,
Ведутся в прозе. Не всегда так было.
И до сих пор не высказана горечь.
Роман, трактат служебен, но не вечен.
Одно хорошее четверостишье
Томов трудолюбивых тяжелей.
I. Прекрасная эпоха
Дремали дрожки у Марьяцкой башни.
Уютный Краков в зелени лежал
Пасхальным свежекрашенным яичком.
В плащах широких важно шли поэты.
Никто не помнит нынче их имен.
Но руки их, они реальны были.
Над столиками запонки, манжеты.
На палке нес газету вместе с кофе
Официант – и канул безымянным.
Рахили в длиннохвостых шалях3, Музы,
Пригубивши, закалывали косу
Той шпилькой, что лежит сегодня в пепле
Их дочерей или в комоде подле
Умолкшей раковины. Ангелы модерна
В домах отцовских, по уборным темным,
Обдумывали связь души и пола,
Печали и мигрень лечили в Вене
(Сам доктор Фрейд, слыхал я, галичанин).
У Анны Чилаг4 отрастали кудри,
Блистали позументами гусары.
В горах носился слух, что Франц-Иосиф
Внизу, в долине, проезжал в карете.
Там наш исток. Напрасно отрицать,
На Золотой далекий век ссылаться.
Не лучше ли принять, признать своими
Усы колечком, набок котелок,
Побрякиванье дутого брелока.
Признать и песню над пивною кружкой
В суконно-черных заводских предместьях.
Уходят, чиркнув спичкой, на полсуток
Творить в дыму богатство и прогресс.
Рыдай, Европа, жди себе шифкарты.5
Под Рождество на рейде Роттердама
В молчаньи станет судно эмигрантов.
К обмерзлым мачтам, словно к снежным елям,
Трюм вознесет молитву на мужицком
– Словенском или польском – диалекте.
Простреленная пулей, пианола
Играет. Пары буйствуют в кадрили.
Рыжа, толста, оттянутой подвязкой
Пощелкивая, развалясь на троне,
В пуховых туфлях тайна ожидает
Торговцев сальварсаном и резинкой.
Там наш исток. Иллюзион мигает:
Макс Линдер – плюх, с коровой в поводу.
В садах сквозь зелень светят лампионы.
И оркестрантки в трубы, трубы дуют.
Свиваясь из сигарного дымка,
Из рук, колец, сиреневых корсажей,
Через поля, долины, горы вьется
Команда: «Vorwärts! En avant! Allez!»
То наше сердце залито известкой
В пустых полях, распаханных огнем.
Никто не знает, почему скончались
– Всё под кадриль – богатство и прогресс.
Как ни печально, там наш стиль родится.
Под утро лира смирная бряцает
В мансарде над шантанной погремушкой.
Как звёздный хруст – эфирные напевы,
Ненужные купцам и их супругам,
Ненужные и в деревушках горных.
Они чисты, наперекор земному.
Они чисты и слов таких не знают:
Вагон, билеты, задница и деньги.
Учись читать, мечтательная Муза,
В домах отцовских, по уборным темным,
И знай отныне, чтó не поэтично.
Поэзия же – тайное волненье
И легкий вздох, укрытый в многоточьях.
Течет, струится непереводимо,
Эрзац молитвы. Так и станет впредь
Простой порядок слов недопустимым.
«Фи, публицист. Уж говорил бы прозой».
Пока открытием авангардистов
Не станет износившийся запрет.
Не все поэты без следа исчезли.
Каспрович выл, рвал шелковые путы,
Не разорвал – они же невидимки,
Да и не путы, а нетопыри,
Что на лету сосут из речи соки.
Стафф, несомненно, был медвяно-ясным,
Русалок, ведьм и проливень весенний
Он славил мнимо мнимому же миру.
А что до Лесьмяна, тот был логичен:
Уж если это сон, так сон до дна.
Есть в Кракове короткий переулок.
Два мальчика там жили по соседству.
Когда один из школы возвращался,
Видал другого на песке с лопаткой.
Несхожи судьбы их, несхожа слава.
Огромный океан, чужие страны,
Коралловые отмели за рифом,
Где в раковину голый вождь трубит,
Познал моряк. И живо то мгновенье,
Когда в жаре безлюдного Брюсселя
Он тихо шел по мраморным ступенькам
И возле «К°» компании звонок
Нажал и долго вслушивался в тишь.
Вошел. Две женщины на спицах нитку
Сучили – он подумал: словно Парки.
На дверь кивнули, скручивая пасмо.
Директор анонимно подал руку.
Вот так стал Джозеф Конрад капитаном
На Конго, по решению судьбы.
И Конго – место действия рассказа,6
Где слышащим давалось прорицанье:
Цивилизатор, очумелый Курц,
Владел слоновой костью в пятнах крови,
Кончал отчет о просвещеньи негров
Призывом к истреблению, вступая
В двадцатый век.
Об ту же, впрочем, пору
Подковки, ленты, пляски до утра
В подкраковской деревне, под волынку,
И сотни лет игравшийся вертеп.
Неодолимой воли был Выспянский,
Хотел театра, как у древних греков.
Но не преодолел противоречья,
Что преломляет нам и речь, и зренье,
В неволю нас эпохе отдавая,
И мы уже не лица, а следы,
Не личности, а отпечатки стиля.
Подмоги нам Выспянский не оставил.
Наследье наше – памятник иной,
Воздвигнутый шутя, а не во славу.
Для языка по мерке, как частушка,
А для бесплотной мысли в поученье.
Острóты, чепуха, «Словечки» Боя.7
День угасает. Зажигают свечи.
Винтовочный затвор на Олеандрах
Не щелкает. Лужайки опустели.
Ушли эстеты в скатках пехотинцев.
Их кудри смел цырюльный подмастерье.
Стоит в полях туман и запах дыма.
Наполнит рюмки доктор. А она
У фортепьяно, при свечах, в лиловой
Вуали, напевает эту песню,
Что нам звучит, как весть из ниоткуда.
Отголоски далекой кофейни
Оседали на мертвый висок.
II. Столица
Чужой ты город на песках сыпучих,
Под православным куполом Собора,
Твоя погудка – ротная побудка,
Кавалергард, солдат всех выше,8
Тебе из дрожек ржет «Аллаверды».
Так надо оду начинать, Варшава,
Твоей печали, нищете, разврату.
Окоченелою рукой лотошник
Отмеривает семечки стаканом.
Увозит прапорщик у стрелочника дочку,
Чтобы ей княжить в Елисаветграде.
На Черняковской, Гурной и на Воле
Уже шуршат оборки Черной Маньки,9
Уже она в парадном подмигнула.
Тобою, город, Цитадель владеет.
Прядет ушами кабардинский конь,
Едва послышится: «Смерть вам, тираны!»
О луна-парк привислинского края,
С губернией тебе бы управляться.
Но стать теперь столицей государства,
Теперь, в толкучке беженцев с Украйны,
Распродающих уцелевший скарб?
Палаш да ржавый карабин французский —
Вооруженье для твоих баталий.
Против тебя, смешная, все бастуют:
И в Златой Праге, и в английских доках.
В отделах пропаганды добровольцы
Строчат ночами о грозе с востока,
Не зная, что над гробом им сыграют
На хриплых трубах «Интернацьонал».
И все-таки ты есть. И с черным гетто,
И со слезами женщин в довоенных
Платках, и с сонным гневом безработных.
Шагая взад-вперед по Бельведеру,
Пилсудский не уверует в стабильность.
«Они на нас, – твердит он, – нападут».
Кто? И покажет на восток, на запад.
«Я бег истории чуть-чуть затормозил».
Вьюнок взойдет из заскорузлой крови.
Где полегли хлеба, пройдут бульвары.
Как это было? – спросит поколенье.
А после не останется ни камня
В том месте, где ты был когда-то, город.
Огонь пожрет истории прикрасы,10
Как грошик из раскопок, станет память.
Но поражения твои вознаградятся.
Как знак того, что только речь – отчизна,
Вал крепостной тебе – твои поэты.
Поэт нуждался в доброй родословной.
От набожного цадика, к примеру.
Родители, Лассаля начитавшись,
Клялись Прогрессом и берлинской Lied
И выхолащивали красоту.
Бывали захудалей: из мещанства,
Из безземельной шляхты, даже немцы.
Не снилось им, гудя «Под пикадором»,
Как горек на укус лавровый лист.
Тувим на вечерах в глухих местечках
Кричал, раздувши ноздри: «Ça ira!»
Взрывался зал туземной молодежи
На ветхий звук запрошлого столетья.
Энтузиастов – тех из них, кто выжил, —
Тувим увидит на балу ГБ.
Кольцом замкнулась огненная цепь,
Бал у Сенатора11 вовеки длится.
Весну, не Польшу поджидал весною,12
Топча былое, Лехонь-Герострат.
Однако жизнь его прошла в раздумьях
О слуцких поясах, о кармазине
Да о религии: не о католицизме,
Но – просто польской. Для национальной
Обедни он избрал в жрецы Ор-Ота.13
А что Слонимский, грустный, благородный?
Грядущее он пел, ему вверялся
И верил: по Уэллсу ли, иначе ль,
Но Царство Разума вот-вот наступит.
Под Небом Разума кровоточащим
Он и под старость внуков одарял
Надеждой бородатой: мол, увидят,
Как Прометей спускается с Кавказа.
Из камушков цветных слагал именье
Делам публичным чуждый Ивашкевич,
Поздней оратор, он же гражданин,
Суровой неизбежности покорный.
Релятивистом быть, ведь всё проходит,
И – стать герольдом доблестей славянских,
Чтоб слушать нам мужицкую капеллу, —
Есть меланхолия в такой судьбе.
Но одиночество в глуши заморской
Не лучше – разве что для честолюбья.
Извечен птичий крестик на снегу.
Не ранит время и не исцеляет.
В окно к Вежинскому заглянет сойка,
Сестрица голубая прикарпатской.
Такою-то ценой платить придется
За юность – за вино и за весну.14
Такой плеяды не было вовеки.
Но в речи их поблескивала порча.
Гармония у них пошла от мэтров.
В их обработках не было помину
О гомоне сыром простых вещей.
А там бурлило, там бродило глубже,
Чем достает отмеренное слово.
Тувим жил в ужасе, смолкал, кривился
С чахоточным румянцем на щеках.
И, как позднее честных коммунистов,
Он искушал тогдашних воевод.
Закашливался. В крике был второй,
Замаскированный: что общество людское
Само уже есть чудо из чудес,
Что мы едим, и говорим, и ходим,
А вечный свет для нас уже сияет.
Как те, что в радостной, пригожей деве
Скелет узрели, с перстнем на фаланге, —
Был Юлиан Тувим. Поэм он жаждал.
Но мыслил он – как рифмовал, банально,
Истертым ассонансом прикрывая
Видения, которых он стыдился.
Кто белою рукою в этом веке
Усеивает строчками бумагу,
Тот слышит плач и стук несчастных духов,
Закрытых в ящике, в стене, в кувшине
И тщащихся дать знать, что их рукой
Любой предмет из хаоса был добыт,
Часы тоски, отчаянья, муки
В нем поселились и уж не исчезнут.
Тогда пугается перо держащий,
Неясное питает отвращенье,
Былую ищет обрести невинность,
Но ни к чему рецепты и заклятья.
Вот отчего младое поколенье
Умеренно любило тех поэтов,
Им почести воздав, но не без гнева.
Оно с тех пор программно заикалось:
Заика-де высказывает смысл.
Не в милости у них был и Броневский,
Хоть что-то – необузданно, подпольно —
Слагал в стихи для пролетариата.
Однако дубликат Весны Народов —
В конце концов такое же бельканто.
А им мерещился Уитмен новый.
В толпе извозчиков и лесорубов
Он превращал бы повседневность в солнце.
Вибрируя в рубанках и долотах,
На всю-то он вселенную сиял бы.
Авангардистов было очень много.
Достоин восхищенья только Пшибось.
В труху распались нации и страны,
А Пшибось тем же Пшибосем остался.
Ему безумье сердца не изъело.
По-человечески его легко понять.
В чем его тайна? В Англии Шекспира
Уже возник такой помпезный стиль,
Что признавал метафоры и только.
В душе был Пшибось рационалистом.
В эмоциях не выходил за рамки
Разумной социальной единицы.
Равно ему чужды печаль и юмор.
Хотел он раскрутить статичный образ.
Авангардисты, в общем, заблуждались,
По краковскому старому обряду
Приписывая слову ту серьезность,
Что не снесет оно, не став смешным.
Но, челюсти сжимая, замечали,
Что говорят они натужным басом
И что мечта их о народной силе —
Уловка устрашенного искусства.
А глубже – то была пора раскола.
«Бог и Отчизна» больше не пленяли.
Сильней, чем встарь филистера богема,
Поэт улана ненавидел, флаги
Осмеивал и презирал мундиры,
Плевал, когда со стэками юнцы
Визжа гнались за купчиком в ермолке.
Финал заранее был уготован
Не за нехваткой пушек или танков.
Авангардисты, рационалисты,
А все поэты в Польше – как барометр.
Соборная распалась, скажем, ценность,
И вера общая людей не единила.
Кто сознавал – в иронию скрывался
И жил на островке, среди своих.
Кто сознавал острей – внушал себе же,
Что если чтит кумиров, то с народом.
Галчинский рвался падать на колени.
Его история полна глубоких истин,
И главная: без общества поэт —
Как ветра шум в сухих декабрьских травах.
Не для него сомнения, иначе
Схлопочешь вмиг предателя клеймо.
Да будет сказано в конце концов,
Что партия – наследник ОНР’а,15
А кроме них была сплошная пустошь
Да жалкий бунт презренных единиц.
Кто Болеславов меч извлек из тлена?
Кто мыслью вбил быки в корыто Одры?
Кто сделал из страстей национальных
Устойчивый цемент великих строек?
Галчинский всё связал одним узлом:
Смех над буржуем, польскую «Хорст Вессель»
И гордость, что и мы – мы тоже скифы.
Он был равно прославлен в две эпохи.
Иная связь Чеховича с землею.
Укропа грядки, ветхие застрехи,
Как зеркальце – привислинское утро.
Разносит эхо по росе куявяк
Вальков да прачек подле ручеечка.
Он малое любил, он сны собрал
Земли аполитичной, беззащитной.
О птицы и деревья, от забвенья
Могилу Юзя в Люблине храните.16
Не нацию желал, а сто народов
Затронуть Шенвальд. Хоть и сталинист,
Умел у Маркса черпать и у греков.
То нарисует сцену у ручья,
Где школьная экскурсия встречает
Босых, крадущих хворост ребятишек,
А то покажет, как велосипед
Овеял счастьем парня из барака.
Поэзия – не функция морали.
Вот Шенвальд – лейтенант-красноармеец.
Когда по лагерям полярным стыли
И стекленели трупы ста народов,
Прекраснейшими польскими стихами
Писал он оду Матушке-Сибири.
А школьник по крутому тротуару
Уносит книгу из библиотеки.
А книга эта – пухлый том Майн-Рида,
Засаленный ладошками индейцев.
Косой закат в лианах амазонских,
Волной сносимы, распростерты листья,
Что выдержат и тяжесть человека.
Он, фантазер, плывет на этих листьях,
И, бурые, как войлочный орех,
Над ним мостом сплетаются мартышки.
А он, поэтов будущий читатель,
Кривых плетней и серых туч не видит,
Уже готовый жить в стране чудес.
И, если обойдет его погибель,
Он нежность сохранит к проводникам.
А Ивашкевич, Лехонь и Слонимский,
Вежинский и Тувим навек пребудут
Такими, как их в юности он встретил.
Кто больше да кто меньше, он не спросит,
Охотясь в каждом за иным оттенком,
Ведя челнок по Амазонке звезд.
Там ту же ложку супа в рот заросший
Людского голода вливает Виттлин.17
Балинский слышит бубенцы верблюдов
В розово-серый исфаганский вечер.
Там Тит Чижевский вторит заклинанью
Трубящих над Младенцем пастухов.
Корабль в витрине созерцает Важик,
И искрится волна Аполлинера.
Там раздаются трели нашей Сафо,
Какой еще не знала наша речь,
Оршули Кохановской18 воскрешенной.
Сотрется жизнь, но кружится пластинка.
Давно забыв о бархате Карузо,
Играет жалобу Марии Павликовской,
Предсмертное ее «Perche? Perche?»19
Так не напрасно ссохлась кровь улана
Для муравьев подарком под березой?
Не так уж, значит, стоит осужденья
Заботившийся только о границах
Пилсудский? Он купил нам двадцать лет,
Тянул он шлейф грехов и обвинений,
Чтобы прекрасное созреть успело.
Прекрасное – такая, скажут, малость.
Читатель, ты не заживешь по-райски.
Страна эта прекрасна и обильна,
Да непрочна, как брезжущий рассвет.
Мы что ни день ее воссоздаем
И больше уважаем, что реально,
Чем что застыло в звуке и в названьи.
И силой – она вырвана у мира,
А без усилия – не существует.
Прощай, прошедшее. Стихает эхо.
И нашей речи быть кривой, корявой.
Последние стихи эпохи шли
В печать. Их автор, Владислав Себыла,
Под вечер вынимал из шкафа скрипку,
На полке с Норвидом футляр оставив,
И железнодорожного мундира
Тогда он не застегивал петлицы.
В своих стихах, подобных завещанью,
Отчизну он сравнил со Святовидом.
Все ближе, ближе барабанный рокот
С равнин восточных, с западных равнин,
А ей все снится пчел ее жужжанье
В полдневный зной, в садах у Гесперид.
За это ли Себылу под Смоленском
В лесу зароют, прострелив затылок?20
Прекрасна ночь. Высокая луна
Переполняет небо тем сияньем
Особенным, сентябрьским. Скоро утро.
И воздух тих над городом Варшавой,
И серебристые аэростаты
Стоят недвижно в побледневшем небе.
Процокают у Тамки каблучки,
Призывный полушепот, и в бурьянник
Уходит парочка. В тени незримый,
Молчит дежурный, только ухо ловит
Их слабый смех в густой постели мрака.
Ни жалость одолеть он не умеет,
Ни выразить их общую судьбу.
Рабочий и простая поблядушка
Перед ужасным восходящим солнцем.
И, может, поразмыслит он позднее,
Что стало с ними в днях или веках.
Анна Чилаг (правильно: Циллаг) – героиня рекламы средств для ращения волос перед Первой мировой войной в Австро-Венгрии. Она уже появлялась в польской поэзии – в стихотворении Юзефа Виттлина «A la recherche du temps perdu» (1933):
Я, Анна Чилаг, с длинными кудрями,Всё та, всё в той улыбке сладко тая,Стою между газетными столбцамиВот уже тридцать лет, как бы святая.……………………….Моих кудрей шумящий водопадКовром пушистым стелется до пят,До пят босых волосяной богини.…………………Я, Анна Чилаг, даже в те года,Как кровь была дешевле, чем вода,И литеры набора заливала,И рядом со столбцов ко мне взывала, —Не поседела ни на волосок,Не оскудела ни на волосок.
[Закрыть]
Смотри, как подъезжает к даме.Вчера пытал – сегодня в пляс.Обшаривает всех глазами,Шакалом рыщет среди нас.………………Вчера, как зверь, когтил добычу,Пытал и лил невинных кровь.Сегодня, ласково мурлыча,Играет с дамами в любовь.……………….Какой здесь блеск, все тешит взоры!……………….Ах, негодяи, живодеры!Чтоб разразило громом вас!Пер. В.Левика. Цит. по тому же изд. Речь идет о следствии, которое вел в Вильне сенатор Новосильцов по делу молодежного тайного общества филаретов. Арестованный по этому делу, Мицкевич был выслан во внутренние губернии России (его приговор был одним из самых мягких).
«В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей: Леха Пивовара и Владислава Себылы – и дата их смерти – 1940. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя в Польше каждый знает правду: они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним пособником Гитлера, и похоронены в массовой могиле».
Отметим, однако, что в двухтомной антологии «Польская поэзия» (сост. С. Гроховяк и Я. Мацеевский. Варшава, 1973) годы жизни Себылы указаны: 1902—1941, с фальсифицированной датой смерти. Те же даты были повторены и в первом и единственном (на 1982, когда я переводила «Трактат» и составляла примечания. – НГ-2011) издании стихов Себылы, вышедшем в Варшаве в 1981. Упомянутое Милошем стихотворение – «И снова топот ног солдатских…» – было напечатано в 1938 в сборнике «Образы мысли».