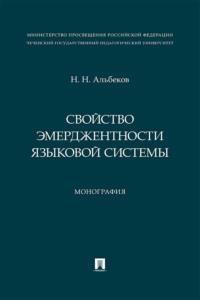Kitobni o'qish: «Свойство эмерджентности языковой системы», sahifa 2
Идея комплексности, вернее, холистической специфики монистическо-материалистической и дуалистической сущности эмерджентности, просматривается в гипотезе Е. Н. Князевой в вопросах образования коммуникации как сложного процесса, т. е. коммуникативной сложности. По мнению Е. Н. Князевой, «эмерджентность имеет онтологическое основание» [120; 74–83].
В коммуникативных системах, согласно Е. Н. Князевой, эмерджентность проявляется в виде их свойств и смысла. Исследователь полагает, что смысл также является эмерджентным: «Нельзя воспринимать смысл как заданный заранее результат. Он не дан человеку, а творится тем лицом, которое извлекает его, в том числе и самим творцом» [120; 74–83]. Безусловно, смысл не может быть заранее заданным, особенно если речь идет о точном смысле. Вместе с тем мы полагаем, что смысл обладает неким полем, на основе которого и выстраивается система. Коммуникативная сложность задана, прежде всего, самой коммуникативной ситуацией. Ну а коммуникативная ситуация уже является основой образования некоего поля.
Н. С. Олизько считает, что «в трактовке языка как нелинейно-саморазвивающегося единства открытых и подвижных, разомкнутых в интердискурсивном пространстве семиосферы интертекстуальных структур принцип эмерджентности – это появление у системы нового качества» [175; 64]. В гипотезе Н. С. Олизько мы видим некоторую корреляцию с концепцией В. Г. Буданова, в которой отмечается, что «в точке бифуркации параметры порядка, которые заданы на макроуровне, возвращают свои степени свободы в хаос микроуровня-интертекста, растворяясь в нем» [175; 65]. Н. С. Олизько полагает, что в языке мы имеем дело со спонтанно возникающими эмерджентными свойствами. Вместе с тем, эти свойства не являются характерными для отдельных уровней, точнее, для выстраивающих иерархический уровень (интертекста, дискурса или интердискурса). Однако они присущи системе как целостному образованию. Здесь опять же отражается точка зрения сторонников так называемой теории случайности, которая полагает, что вектор развития системы, особенно нелинейной, в точке бифуркации зависит от случайности [175; 64–68].
Понятие «случайность» вызывает очень много дискуссий у философов, так как «случайность» есть невозможность аргументированно объяснить какое-либо явление, особенно абстрактного характера. Можно ли в какой-то степени отнести языковую систему к абстрактным системам? Основная проблема здесь, на наш взгляд, заключается в том, что понятие «язык» интерпретируется по-разному в зависимости от области его исследования. В этом контексте мы абсолютно разделяем мнение А. Чикобавы, который отмечает, что понимание физиолога языка как предмета исследования отличается от понимания психолога. Согласно А. Чикобаве, «каждая из наук, определяя характеристику языка, обращает внимание только на те моменты в языке, которые соответствуют точке зрения данной науки. Такая интерпретация (или толкование) предмета языка вполне закономерна» [214; 32]. Соответственно, многообразие интерпретаций, толкований сущности языка, наличие многочисленных дефиниций говорят о том, что нет единого, охватывающего все аспекты изучения и описания языка определения, которое бы дало всеобъемлющий ответ на вопрос: что такое язык и в чем заключается сущность языка? К примеру, И. А. Бодуэн де Куртенэ писал, что «сущность человеческого языка исключительно психическая. Существование и развитие языка обусловлены чисто психическими законами» [35; 59].
В контексте определения сущности языка представляется интересным и весьма значимым мнение младограмматиков, нашедшее свое воплощение в «Манифесте» (Алпатов В. М., 2005). Они абсолютно справедливо, на наш взгляд, поставили вопрос о том, что долгое время все внимание лингвистов было посвящено исключительно самому языку. В этих исследованиях не принимался во внимание сам «говорящий человек». Колоссальная заслуга младограмматиков, на наш взгляд, заключается в том, что они первыми определили, что «язык не есть вещь, стоящая вне людей и над ними и существующая для себя; он по-настоящему существует только в индивидууме, тем самым все изменения в жизни языка могут исходить только от говорящих индивидуумов» [165; 92]. Мы в полной мере можем согласиться с приведенным мнением. Однако здесь важно учитывать то обстоятельство, что в каждом индивидууме языковой универсум приобретает присущую только данной личности специфику. Под «присущей только для данной личности спецификой» мы подразумеваем не структурную организацию самой языковой системы, а ее функционирование в индивидууме, т. е. ее функционирование в вербальных актах данного индивидуума, которые имеют исключительную специфику, неповторимы, имеют разовые обстоятельственные смыслы, и, соответственно, каждый из этих универсумов эмерджентен. Это означает, что при всех унифицирующих языковую систему правилах и законах языковая личность имеет присущую только ей интерпретацию данной языковой системы. Соответственно, игнорирование антропоцентрических парадигм при исследовании языка может привести (а скорее и приведет) только к очень ограниченному результату исследования.
Истории возникновения и развития языка посвящено огромное количество работ, которые порой противоречат друг другу. Думаем, нет необходимости приводить многочисленные постулаты, посвященные данной теме. Тем не менее необходимо учитывать тот факт, что в исторически доказанном обозримом прошлом жизнедеятельность человека самым тесным образом связана с развитым языком, который отвечает современным требованиям того общества, в котором индивидуум живет. Данное обстоятельство доказывает, что развитие языка происходит вместе с обществом. Язык всегда имеет такой уровень развития, который всесторонне отвечает потребностям данного общества. В процессе исследования языка игнорирование антропоцентрического фактора можно сравнить с исследованием строения и сущности атома без учета его материальной сущности. В этом контексте мы полностью принимаем мнение И. А. Бодуэна де Куртэне, который отмечал, что «язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество» [35; 59].
Идея антропоцентризма становится одной из значимых концепций в современных лингвистических исследованиях. Исследование языка без учета антропоцентрических факторов ограничено, так как оно главным образом посвящено изучению функциональной деятельности языка. Здесь важно отметить, что язык как система, которая, прежде всего, обладает функцией общения, имеет антропоцентрическую природу, т. е. человек является ядром функционирования языка как системы. Человек является и порождающей, и принимающей стороной языкового универсума. Язык не может полноценно существовать вне человека. В контексте значимости человека в природе языка В. А. Маслова отмечает многомерность языка и его обращенность к человеческому социуму. Она считает, что язык необходимо воспринимать как «систему, и антисистему, и деятельность, и продуктом этой деятельности, и духом, и материей, и стихийно развивающимся объектом, и упорядоченным саморегулирующимся явлением» [158; 31].
Антропоцентрический взгляд наиболее наглядно демонстрирует эмерджентность языка, так как совокупность таких качеств человека, как слуховое, зрительное, чувственное, духовное восприятие окружающей действительности, в свою очередь являющейся информационным полем, интерпретируемым личностью посредством языка, способствует появлению эмерджентного свойства языка каждого индивидуума. Соответственно, язык является комплексным явлением, функционирующим при кооперативной деятельности всех вышеобозначенных факторов. Отсутствие или нарушение работы одного из вышеназванных качеств приводит к нарушению деятельности системы, к хаосу, в котором отсутствует эмерджентное свойство.
Анализ литературы, посвященной проблеме возникновения и функционирования языка, показывает существование многочисленных теорий и определений, в которых предлагаются различные дефиниции сущности языка (Леонтьев А. А., 1990; Донских О. А., 1984; Пинкер С., 2009). Вместе с тем все они главным образом определяют функциональную сторону языка. Такую обширную констатацию можно восприятием индивидуума, так и основными догмами, которые объясняют язык с точки зрения узкой области, будь то физиология, социология, психология. Даже в самой лингвистике определений сущности языка насчитывается достаточно большое количество. Все это можно объяснить тем, что в языке одновременно реализуются как духовные, так и материальные стороны. Какая из этих сторон является первичной, а какая вторичной – это извечный философский вопрос, особенно если учесть достижения современной нейролингвистики, в которой активно продвигается предположение о том, что мысль появляется на тридцать секунд раньше своего вербального оформления.
Так как языковая личность имеет самое непосредственное отношение к сущности языка и его функционированию, наиболее полноценный обзор языковой системы, на наш взгляд, может дать именно анализ с точки зрения эмерджентности. Каждый человек является отдельной биологической системой, и, безусловно, каждая биологическая система имеет присущую только ей специфику и индивидуальность, как физическую, так и ментальную. Соответственно, представляется вполне закономерным мнение о монистической сущности человека при функционировании языковой системы [280]. Если исходить из данного предположения, то вопрос об эмерджентности языковой системы самым тесным образом можно связать с языковой личностью, т. е. языковая личность является именно той основой, которая определяет эмерджентность языка.
Во многих работах, посвященных проблеме эмерджентности, просматриваются идеи коннективизма, которая отвергает наличие каких-либо символических структур, играющих главную роль в объяснении функционирования человеческого языка. К сторонникам коннективизма можно отнести П. Смоленского, М. Стидмана и других языковедов, которые сделали попытку подвести коннективизм к традиционным символическим подходам в языке. Можно сказать, что лингвистические труды сторонников эмерджентности в основном сфокусированы на вопросе о том, как материализуется язык [264; 589, 287]. Такая постановка вопроса противоречит предположению нативистов о том, что, в сущности, многие лингвистические явления эпистемологически необъяснимы, и, соответственно, они являются врожденными.
В. О’Грейди считает, что современная теория эмерджентности направлена на необходимость объяснения лингвистического развития простых познавательных механизмов через призму их деятельности (эссенциальной, индуктивной, обобщающей), из которых вытекают статистические правила, основанные на практических фактах. Согласно этой теории, язык не является ни генетическим даром, ни сводом статистических правил и форм, подлежащих усвоению, т. е. язык – это результат коммуникативного процесса [257; 2].
Теория эмерджентности исходит из того, что большинство правилоподобных закономерностей, наблюдаемых в языке, формируется при взаимодействии огромного числа соединений, необходимых при использовании языка [295, 296]. Выявление природы появления этих соединений, а также взаимодействия частиц друг с другом – задача сложная и не решенная до сих пор. При этом следует отметить бесспорность того, что в результате взаимодействия инвариантных частиц формируются эмерджентные свойства, результирующие холистическую специфичность данной системы. И чем больше языковая единица, тем содержательнее и значимее эмерджентное свойство данного системного целого. В этом контексте интересна позиция сторонников эмерджентности в так называемой second language acquisition (SLA) process, придерживающихся мнения, что изучение языка является комплексным динамическим процессом, в котором участвуют разные компоненты, на разных уровнях, в разной степени и в разные времена. Индивидуальное разнообразие здесь представляетрся обычным следствием процесса изучения в рамках эмерджентности, т. е. результатом многогранности системы [270; 215–226].
В. М. Еськов относит эмерджентность к главному свойству любых систем. Он полагает, что в теории системы «эмерджентность фигурирует как фундаментальное понятие, которое связано с относительной автономностью функционирования высших уровней иерархически организованных систем по отношению к низшим уровням» [91; 29]. При всем этом В. М. Еськов отмечает холистический характер поведения системы, т. е. система выступает как единое, неделимое целое по отношению к отдельным элементам, из которых она состоит. В. М. Еськов считает, что свойство эмерджентности лежит в основе эволюции любой человекомерной системы. Все это объясняется тем, что в синергетическом процессе и в процессе развития человекомерные системы еще больше усложняются. Вопрос о том, является ли язык «человекомерной системой», полагаем, не требует ответа, так как человек в жизнедеятельности языка играет монистическую роль. Соответственно, исследование языка с точки зрения свойства эмерджентности является одним из фундаментальных аспектов изучения или анализа любой «человекомерной системы».
Согласно Брайану Мак Вини (Brian MacWhinney, 2005), лингвистические формы образуются путем взаимодействия разнообразных временных факторов, т. е. время как феномен, отражающий действия прошедшего, настоящего и будущего периода, влияет на лингвистическую форму здесь и сейчас [275; 191–211]. Главная задача, по мнению Б. Мак Вини, заключается в понимании того, как силы, обладающие разными временными шкалами, смешиваются в настоящем периоде, чтобы обозначить эмерджентность лингвистической формы. Отвечая на этот вопрос, автор определяет семь разнообразных фреймов времени для процесса эмерджентности и структуры.
Филогенетическая эмерджентность. Согласно этой концепции, наименьшей скоростью движения обладают эмерджентные структуры, закодированные в генах. Эмерджентисты, следующие этой гипотезе, придерживаются мнения, что язык, общество и познание прошли коэволюцию, основанную на взаимосвязи событий динамической системы. Для того чтобы достичь этого коэволюционного преимущества, изменения в лингвистической компетенции должны идти параллельно с когнитивными и социальными компетенциями. Более того, оба эффекта должны взаимно дополнять друг друга в момент речи.
Эпигенетическая эмерджентность – кодификация информации в ДНК, которая представляет собой равномерное слияние процесса медленного движения эволюции и процесса быстрого движения эпигенезиса.
Развивающаяся эмерджентность. Б. Мак Вини считает, что генетическая психология, разработанная Ж. Пиже, была первой, которая наиболее полно сформулировала взгляд эмерджентистов относительно развития. Несмотря на большой объем работы, авторами не специфицированы отдельные детали механизмов развития. В целях его дополнения, эмерджентисты выдвинули концепцию, базирующуюся на коннективизме, слиянии и теории динамических систем. Концепция эмерджентистов была использована для изучения двух разных, но тесно взаимосвязанных аспектов развития. К первому аспекту относится базовый учебный процесс, в котором идет непрерывное изучение новых фактов, явлений, форм, отношений, названий и процедур. Базовые модели изучения языка, в частности модели прошедшего времени, нередко останавливаются на подобном типе развития. Второй аспект развития базируется на исследовании новых стратегий и рамок, которые могут оказать существенное влияние на общую форму языка и познания через ключевые фокусировки.
Эмерджентность, находящаяся в действии. Согласно этой концепции, наиболее быстрыми воздействиями на языковую форму являются те, что вытекают из оперирующих в реальной действительности «навязываний» (реальные речевые единицы, используемые в языке в данный период). Эти «навязывания» являются активацией механизмов памяти, обострения внимания, координации, планирования предложений. Оперирующая в реальной действительности эмерджентность может отражать настоящий статус долгосрочно развивающихся нейронных и физиологических процессов.
Социальная эмерджентность. Многие «навязывания», которые реализуются при человеческом общении, образуются из долгосрочных социальных обстоятельств. Выдвигается идея о том, что наш выбор вокабуляра, сленга, топика, самого языка определяется характером отношений с людьми, с которыми мы общаемся. Предполагается, что мы можем выбрать опции, чтобы подчеркнуть солидарность, показать способность или приобрести симпатии. Временные рамки этих социальных элементов могут простираться на годы, десятилетия. От некоторых из них, продиктованных половой или расовой принадлежностью, практически невозможно избавиться.
Взаимодействующая эмерджентность. Кроме долгосрочных устойчивых нормдиалектов, языков и субгрупповых тем, человек также создает краткосрочные нормы, действующие в социальных взаимодействиях.
Диахроническая эмерджентность. Мы можем использовать размышления эмерджентистов, чтобы понять изменения, через которые языки прошли сквозь столетия. Эти изменения появляются из дальнейших взаимодействий предыдущих трех уровней (эволюционного, развивающегося и онлайн-изменения) [256; 191].
В своей работе Тимо Хонкела (Timo Honkela, 2005) заявляет, что результаты независимого компонентного анализа, основанного на сведениях контекста слов, представляют отличительные признаки, отражающие синтаксические и семантические категории. Результаты анализа выявляют признаки или категории, которые проявляются четко и легко могут быть интерпретированы людьми. В эти результаты входят как проявление эмерджентности четких отличительных категорий или признаков, так и распределенные репрезентации. Это основано на том, что слово может принадлежать нескольким категориям одновременно в ярусном плане [262; 129–138].
Джеймс В. Майнет (James W. Minett, 2005) считает, что мощь человеческого языка эволюционировала на различных уровнях, начиная от: а) изменений в когнитивных процессах, благодаря которым язык постигается индивидуумами; б) изменений в языке из-за диффузий, лингвистических свойств, приобретенных населением через индивидуумов; в) эмерджентности лингвистических свойств на полигенетической шкале времени. Согласно В. Майнету, эволюция языка взаимодействует на всех уровнях. Более того, по мнению автора, языковая мощь развивалась как продукт сложных взаимодействий среди генетических кодов, которые определяют нашу физическую и когнитивную способность, а также окружающую среду, как физическую, так и культурную, внутри которой мы живем и взаимодействуем. Чтобы хорошо понять, как человеческий язык превратился в то, что он собой представляет, важен холистический взгляд на процесс изучения языка [271].
Проблема понимания эмерджентности и эволюции в общении рассматривается в работе Кристофера Неганива (Chrystopher L. Nehaniv) [248]. В ней автор достаточно подробно обозначает проблемы, связанные с дейксисом, предикативом, отрицанием, эмерджентностью синтаксических категорий, композициональностью. Язык рассматривается как средство «манипуляции» словом для достижения собственных целей «манипулятором». Понимание эмерджентности в целом требует порождающего синтез языкового феномена, который автор обозначает в следующих пяти постулатах: 1) значение всегда интерпретационно-специфично; 2) не существует преимущественно заранее обозначенного пространства возможных значений, содержащего в себе идеальные концепты; 3) не существует уникальных, заранее обозначенных синтаксических структур возможных значений; 4) если возникают значения, пространство значений или синтаксис в пространстве значений, то они будут интерпретационно-специфическими; 5) соответствия между знаками и значениями опосредованы интерпретируемыми сигналами и интерпретаторами, и эти соответствия также интерпретационно-специфичны и зависят от контекста взаимодействий.
При всем уважении к научно значимым работам К. Неганива мы не можем согласиться с ним во втором пункте его заключений, так как твердо убеждены, что в любой речевой ситуации, подразумевающей общение или вербальное отражение коммуникативной действительности, появляется определенное поле, обозначенное нами как «поле эмерджентности» (подробно рассматривается ниже), в котором прогнозируются все варианты возможных вербальных интерпретаций речевой ситуации. Вариативность форм и лексических единиц потенциальных моделей интерпретации речевой ситуации подразумевает наличие определенного пространства, обозначающего границы данного поля.
Как мы уже упоминали выше, в своей работе К. Неганив рассматривает проявление эмерджентности на разных уровнях языкового общения – на уровне дейксиса, предикатива, отрицания, эмерджентности синтаксических категорий, композициональности. Дейксис, или указание, будучи направленным на многие вещи, а также вызывающим чужое внимание на предмет указания, по мнению К. Неганива, мог бы быть наделен признаком «прономинализации» в свойстве эмерджентности языкового общения. Прономинальность – указание на нечто неназываемое – обеспечивает переменность, которая может быть связана с объектом и лицами в окружающей действительности, определяя, по крайней мере, степень уделенной ссылки через уделенное внимание.
В аспекте проявления эмерджентности на уровне предикатива считается, что на заре зарождения языка протослова (термин К. Неганива proto-words) или указательные жесты могли иметь свои ассоциативы в целом, которые со временем стали знаменателями. Таким образом, мы вырабатываем первую практику определения предикации. Например, дейктический жест служит выбору цели всеобщего внимания (или топика), а потом другой жест или высказывание со временем служат становлению коммуникативного содержания, ассоциированного как значение в данной теме. В итоге ритуализация такой коммуникативной практики приводит к грамматизации конструкций, ассоциированных как значение в данной теме. Предикация возникает вместе с грамматизацией, в которой не только наблюдается ассоциация между темой и значением, но значение дает теме определенную категорию. Таким образом, как полагает автор, происходит прогресс, приводящий к эмерджентности предикаций от ассоциаций топик-коммента через ритуализацию к грамматизации предикации.
Проявление эмерджентности в отрицании точно так же, как и в предикации, предполагается в процессе развития протослов, которые сопровождались определенными жестами, мимикой или гримасами. Например, назвать предмет «вода» при подходе к реке или иному водоему и покачать головой могло означать «нельзя входить в воду».
По мнению К. Неганива относительно синтаксических категорий, в искусственной нейронной сети коннективистские модели Париси показали эмерджентность простых существительных и глаголов: существительные – как лингвистические сигналы, изменяющиеся с сенсорными раздражителями, глаголы – как лингвистические сигналы, изменяющиеся с действиями (более независимо от сенсорных раздражителей). Предполагалось, что такой опыт может быть расширен относительно протоприлагательных, которые выбирают референта в категории существительного, используя врожденное свойство, и на неадъективных модификаторах, таких как локаторы места (правый, левый, над и т. д.), которые более отражают временные свойства объекта, не являющиеся врожденным качеством объекта, но зависящие от отношения объекта к говорящему и к окружающей действительности. Таким образом, увеличение сложности синтаксических категорий может образовать фразу. Предполагается, что эмерджентность взаимообменных семантических и синтаксических фреймов на основе грамматизации приводит к устранению неоднозначности.
Эмерджентность лексических единиц, которая принимает аргументированную форму (к примеру, переходные глаголы, которые субстантивируются как объекты), называется композициональностью. Этот феномен имеет как синтаксические, так и семантические аспекты, на долю которых приходится большая часть комбинаторного богатства человеческого языка. Согласно К. Неганиву, существует большое количество исследований, посвященных эмерджентности аспектов синтаксиса (Kirby, 1999; Cangelosi, 2001; Steels, 1932), однако многие вопросы композициональности языкового общения полностью остаются открытыми для конструктивного моделирования.
Сегментация и пауза в современной человеческой речи, например, возникающие в связи с необходимостью дыхания или временных пауз когнитивного характера, в сочетании с местным контекстом демонстрируют информационно-теоретическую сущность, способствующую уменьшению двусмысленности, многозначности речи, предполагая, что последовательный процесс более мелких последовательных единиц может способствовать обеспечению основ для синтаксиса в эволюции языка [255; 119–138].
Люк Стилс (Luc Steels, 2005) вводит в поле эмерджентности понятие «усилие» (effort), чтобы объяснить самоорганизацию и эволюцию языка с познавательной точки зрения моделирования [265]. Основное внимание уделяется, в частности, усилию, в котором используются коннективистские компоненты для синтеза некоторых из основных этапов эмерджентности языка, и возможным переходам между этапами. Автор сделал обзор некоторых из основных работ, связанных с вопросом: какого рода когнитивные архитектурные особенности общества нужны для того, чтобы увидеть эмерджентность и эволюцию языка?
Большинство идей, обсуждаемых в работе, происходит из тренда, который начался в начале 90-х гг. ХХ в., предлагающего использование компьютерных моделей и роботизированных экспериментов для тестирования теорий. Многие из этих моделей используют основные коннективистские компоненты, такие как двунаправленное ассоциативное воспоминание, радиальные базисные функции сети, рецидивирующие нейронные сети и т. д. Новизна с точки зрения коннективистских компонентов заключается не в самих компонентах, а в том, как они интегрированы в более общей архитектуре и как они используются для решения аспектов социального познания, в частности, как группа может перейти на общий выработанный язык и репертуар понятий.
Люк Стилс представил язык прежде всего как сложную адаптивную систему. В его концепции исследуется различие между социобиологическим и социокультурным подходом к эмерджентности лингвистического порядка и его увеличения по мере усложнения. Затем представлена идея, в которой предлагается рассмотреть коммуникацию как условие передачи информации, так как коммуникация требует результата для концептуализации и интерпретации. Наконец, предлагаются возможные этапы эволюции системных связей, начиная лексическими и заканчивая грамматическими [288, 263].
Попытка описания новой модели, обозначающей эволюцию и индукцию композиционных структур в языке робототехнических средств, предпринята в работе Пола Вогта (Paul Vogt, 2005). В ней подтверждается сделанный ранее вывод о том, что барьер передачи информации становится механизмом давления для возникновения композиционности и что коммуникационная стратегия для угадывания ссылок высказываний способствует развитию качественно «хороших» языков. Кроме того, результаты показывают, что возникающие модели отражают структуру мира в значительной степени и что разработка семантики вместе с конкурентоспособным механизмом отбора приводит к более быстрому появлению композиционности, чем предопределенная семантика без такого механизма отбора [294; 206]. Одной из последних тенденций в изучении языка является эмерджентность все большего количества моделей, имитирующих определенные аспекты происхождения и эволюции языка. В работе П. Вогта представлена новая модель для изучения возникновения и динамики композиционных структур в языках, чья семантика связана с моделированием мира. П. Вогт утверждает, что, несмотря на то что этот мир далек от реальности, он может быть (и был) реализован физически с использованием реальных роботов.
Способность образовывать композиционные структуры в качестве части синтаксиса является одним из ключевых аспектов человеческого языка. Под композиционностью понимается ключевая особенность структурированных репрезентативных систем – будь то языковая, умственная или нейронная. Система представлений является композиционной только в том случае, если семантика комплексных представлений определяется смысловыми значениями их частей [266]. Например, предложение «Дай мне книгу» можно обозначить семантически как «Дай (мне, книгу)», где слово «дай» определяет лицо «мне», а «книгу» – объект. В противоположность этому холистические выражения не имеют структурных отношений между частями их значений. Например, в выражении “kicked the bucket”, которое используется для обозначения смерти, ни одна из частей выражения не имеет отношения к значению «умереть». Это метафорический оборот, в котором глагол имеет значение «пнуть», а в существительном «ведро» не каждый увидит ассоциацию со словом «умереть».
Как считает П. Вогт, один из часто задаваемых вопросов в изучении происхождения языка и его эволюции – это вопрос о том, как появились композиционные структуры в человеческих языках. Существуют разные точки зрения на обозначенную проблему. Одни исследователи предполагают, что композиционные структуры появились по мере эксплуатации закономерностей в протоязыках (возможно, случайных), основанных на цельных фразах. В этих исследованиях доказывается, что композиционные структуры в языке могут возникнуть, когда примеры обучения не охватывают весь язык (т. е. существует узкое место в передаче речи), при условии, что учащиеся имеют заранее определенный механизм для приобретения композиционных структур. Другие исследователи предположили, что способность использовать синтаксис эволюционировала в качестве биологической адаптации. Существует также гипотеза, что композиционные структуры могут возникать на основе конкуренции между образами и самоорганизацией в системе производства. П. Вогт обращает внимание на то, что во всех разработанных до сих пор компьютерных моделях были реализованы такие механизмы обучения, которые могут приобрести композиционные структуры [251]. Следовательно, все исследования придерживаются предположения о том, что механизм специализированного обучения эволюционировал до «эмерджентности» композиционных языков, и поэтому важно исследовать условия, способствующие эмерджентности композиционности.
В своих исследованиях П. Вогт приходит к выводам: 1) эмерджентность композиционных лингвистических структур основана на использовании закономерностей (возможно, случайных и целостных) в выражениях, хотя и в рамках семантических структур; 2) эмерджентность комбинационных семантических структур основана на использовании закономерностей, обнаруживаемых во взаимодействии с миром природы, хотя и в рамках композиционной лингвистической структуры [269; 224].
Bepul matn qismi tugad.