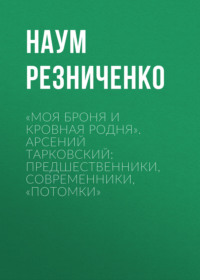Kitobni o'qish: ««Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предшественники, современники, «потомки»»
Марине Арсениевне Тарковской с благодарностью и нежностью
© Резниченко Н., 2019
© Издатель Лысенко Н.М., 2019
*1
Глава первая
«Вы, жившие на свете до меня»
(Диалог с традицией как «пантеон» культурных героев)
В основании поэтического космоса Арсения Тарковского лежит глубокое и органическое чувство мировой культурной традиции, перерастающее в прямой диалогический контакт с её знаковыми фигурами – устроителями культурной Ойкумены и проводниками духовной энергии, которая связывает прошлое, настоящее и будущее в единстве большого времени культуры. В одном из своих последних интервью поэт говорил: «Культура даёт человеку понимание не только своего места в современности, но устанавливает ещё тесную связь между самыми разными эпохами. У меня есть стихотворение, где я говорю, что мог бы оказаться в любой эпохе в любом месте мира, стоит мне только захотеть»2:
Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нём.
(I, 242)
Тарковский воспринимал историю культуры как циклический процесс – как непрерывный круговорот культурных эпох и универсальный метасюжет о «вечном возвращении» культурных героев.
В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, —
Он хочет Мо́иси играть,
А не врагов отца карать.
(I, 69)
По деревне ходит Каин
Стёкла бьёт и на расчёт,
Как работника хозяин,
Брата младшего зовёт.
(I, 305)
«Воинствующий» культуроцеитризм поэтического сознания Тарковского лучше всего характеризуют слова Мандельштама о «тоске по мировой культуре», определившие жизнетворческую интенцию поэтов акмеистической школы, которой во многом наследовала муза Тарковского. В статье «Слово и культура», написанной в 1921 году, когда был разрушен «старый мир» и мировая история упёрлась, по слову Блока, в «мировую ночь», Мандельштам писал: «Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозём, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днём, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времён <…> Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл <…> ни одного поэта ещё не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер <…> В священном исступлении поэты говорят на языке всех времён, всех культур»3.
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная, —
(I, 207)
напишет Тарковский сорок лет спустя с такой же щемящей интонацией и глубокой верой в силу поэтического слова, связующую времена и эпохи. А спустя ещё десять – на закате жизни – он напрямую обратится к Пушкину:
Подскажи хоть ты потомку,
Как на свете надо жить —
Ради неба или ради
Хлеба и тщеты земной <…>
(I, 329)
Подобно Петрарке, писавшему письма Гомеру, Вергилию, Цицерону и другим колоссам античности как живым адресатам, в своих стихах Тарковский «вступал в переписку» с великими предшественниками, воспринимая их как мифологических культурных героев, не только участвующих в мироустройстве, добывании предметов культуры, обучении людей земледелию, приемам охоты, ремёслам, искусствам и т. п., но и помогающих человеку в решении важнейших экзистенциальных вопросов, придающих ему духовные силы для жертвенного творческого «горения», без которого невозможна подлинная поэзия:
Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли,
Спасибо вам, вы хорошо горели.
А разве я не хорошо горю <…>?
(I, 80)
К концу творческого пути в лирике Тарковского сформировался обширный «пантеон» культурных героев, объединённых общей судьбой мучеников и страстотерпцев, изгнанников и странствующих пророков. «От Алигьери до Скиапарелли», – так определил поэт персоналий своего «пантеона». Но не следует придавать этой строке буквальный ономастический смысл. «От Алигьери до Скиапарелли» – это прежде всего красивое созвучие итальянских фамилий, ласкающая слух гармония ассонансов и аллитераций. Опираясь на полный каталог культурных героев Тарковского, выстроенный в хронологическом порядке, эту строку можно прочитать и как «от Прометея до Пауля Клее» – с тем же эвфоническим эффектом. Самое же правильное прочтение – «от альфы до омеги», поскольку этот фразеологизм выражает абсолютную полноту субстанциальной исчерпанности и – одновременно – метафизической неисчерпаемости. Основание для такого прочтения даёт стихотворение позднего Тарковского «Мартовский снег»:
По такому белому снегу
Белый ангел альфу-омегу
Мог бы крыльями написать
И лебяжью смертную негу
Ниспослать мне как благодать.
(I, 350)
Стихи написаны в предчувствии близкого смертного часа, в пору подведения итогов «земной жизни», пройденной, по Данте, и во второй её половине, когда взору открывается вся «альфа-омега» жизненного пути, определённого поэтом как «путь от земли до высокой звезды» (I, 367). «От… до…» – Тарковский вообще очень любит эту грамматическую связку, как идеальную «формулу», выражающую предельную степень космологической полноты художественного объекта:
Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зелёной крови
В капиллярах шебуршат.
(1,311)
Его (народа – Н.Р.) словарь открыт во всю страницу, От облаков до глубины земной.
(I, 190)
Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
(I, 244)
«От потопа до Эвклида» – у Тарковского эта фраза обретает космогонический смысл: от хаоса – к космосу, от мирового беспорядка – к устроенному миру, возникшему в результате титанических усилий богов и культурных героев, в число которых вошёл и великий древнегреческий геометр, научивший людей правильно измерять Землю.
Показательно, что в названии его последней авторской книги использована та же грамматическая модель – «От юности до старости». Сакральный подтекст этого названия эксплицируют стихи из 70-го псалма Давида, чьё имя является центральным в ономастиконе культурных героев Тарковского: «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня <…>» (Пс., 70: 17–18).
Исследователи поэзии Тарковского как-то обходили стороной проблему типологизации его культурных героев – «брони и кровной родни» поэта. Исключение составил С.А. Мансков, в диссертации которого была предпринята попытка такой типологизации4. Попытка эта не кажется нам удачной, поскольку учёный включил в список культурных героев, по сути, всех мифологических, литературных и исторических персонажей, упоминаемых в стихах поэта. К примеру, владычицу царства мёртвых Кору, жену Орфея нимфу Эвридику, лесного божка Пана и сатира Марсия, жестоко наказанного за дерзость Аполлоном-Мусагетом. В разряд «литературных архетипов» (определение С. Манскова) исследователь включил шекспировского Гамлета и целую плеяду пушкинских героев – Германна, Мариулу, Изору, а также Раскольникова, упомянутого в «программном» стихотворении «Малютка-жизнь». К разряду «исторических культурных героев» отнесены Жанна Д’Арк, ассирийский царь Шамшиадад I, которого поэт «проклинает» вместе со всеми «глинобородыми» ближневосточными деспотами и «богами-народоубийцами» (I, 91); балерина Матильда Кшесинская, снискавшая особую известность своими романами с великими князьями из дома Романовых (да простится нам этот невольный каламбур!); татарский хан Мамай и Нестор-летописец. На наш взгляд, исследователь неоправданно расширяет понятие «культурный герой», в результате чего размываются логико-семантические границы термина. Следует отделить культурного героя как творца, демиурга, мастера или культурного медиатора от знакового образа культуры, ставшего образом-символом в ходе мирового культурно-исторического процесса, как это случилось с Гамлетом и некоторыми другими литературными героями. Что касается исторических персонажей, здесь тоже требуется дифференциация в рамках определения научного понятия. Статусу культурного героя, безусловно, соответствует Нестор-летописец или библейский царь Давид, принадлежащий, по справедливому замечанию С. Манскова, сразу к нескольким типологическим группам: «историческим» и «библейским» культурным героям, «мифологизированным творцам-художникам» и даже к «литературным архетипам»5. Но имена Мамая, Кшесинской и Шамшиадада оказались в этом списке по какому-то странному недоразумению. То же относится к братоубийце Каину, его жертве Авелю и воскрешённому Христом Лазарю, включённым С. Мансковым в группу «библейских культурных героев».
На наш взгляд, в типологию культурных героев Тарковского следует включить только те имена, которые связаны с выдающимися достижениями в истории человеческой культуры, с установлением конституирующих культурный космос первоначал и принципов, дополнив критерий терминологической точности парадигмой «жертвенная судьба пророка или первооткрывателя великих идей», что соответствует авторской концепции поэзии как жизнетворческого «горения». Чтобы избежать путаницы в определении тематических разделов словаря имён, мы предлагаем регионально-хронологический принцип, соотнесённый с общепринятой периодизацией мировой истории. Тогда типология культурных героев поэзии Тарковского примет следующий вид.
Древний мир
1. Библейский мир:
– первый человек Адам, являющийся в мире Тарковского знаковым образом первого поэта, совершившего таинство дарования имён в Эдемском саду (имя Адама эксплицировано в пяти текстах: «Степь», «Я учился траве, раскрывая тетрадь…», «Когда вступают в спор природа и словарь…», «За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды…», «Манекен»);
– отец всех евреев Авраам, совершивший исход из языческого Вавилона в Землю Ханаанскую, что положило начало первой монотеической религии – иудаизму («И я ниоткуда…»);
– боровшийся в ночи с Богом патриарх Иаков, за что он получил новое имя Израиль, ставшее названием Святой Земли и еврейского теократического государства («Надпись на книге» («Покинул я семью и тёплый дом…»); имплицитно присутствует в стихотворении «Рукопись»: «<…>Так соль морей и пыль земных дорог ⁄ Благословляет и клянёт пророк, ⁄ На ангелов ходивший в одиночку» (I, 189));
– пророк и вероучитель Моисей, выведший народ Израиля из египетского рабства и получивший от Бога Десять заповедей, ставших основой религиозно-этического монотеизма (имплицитно присутствует в двух текстах: «До стихов» («<…> Огнём вперёд судьба летела ⁄ Неопалимой купиной <…>» (I, 191)) и «Я по каменной книге учу вневременный язык…» («А в пустыне народ на камнях собирался <…>» (I, 287));
– основоположник древнееврейского государства и великий поэт царь Давид, «псалмический мелос» (Кекова) которого унаследовала поэзия Тарковского (имя царя Давида, как и имя Адама, эксплицировано в пяти стихотворениях: «Полевой госпиталь», «Пруд», «Памяти М.И. Цветаевой (IV)», «Портной из Львова, перелицовка и починка» (в первоначальной редакции), «Пляшет перед звёздами звезда…»);
– «большие» ветхозаветные пророки: Исайя («Я по каменной книге учу вневременный язык…»), Иеремия («Посредине мира»), Иезекииль (имплицитно – в стихотворении «Феофан Грек»), Даниил («К стихам»);
– «глас вопиющего в пустыне», Иоанн Креститель – «последний пророк» и Предтеча Иисуса Христа (имплицитно – в стихотворении «Надпись на книге» («Покинул я семью и тёплый дом…»));
– основатель новой мировой религии Иисус Христос (имя Христа эксплицировано только в одном тексте – «Как Иисус, распятый на кресте…», но оно легко восстанавливается по прозрачным новозаветным аллюзиям более чем в десяти стихотворениях, например: «Голуби на площади», «Камень на пути», «Жизнь, жизнь» и др.);
– апостол Иоанн Богослов, автор четвёртого Евангелия и Апокалипсиса, эсхатологической символикой которого перенасыщена поэзия Тарковского («Предупреждение», «Степь», «Эвридика», «Лазурный луч», «Комитас», «Меркнет зрение – сила моя…» и др.).
2. Античный мир:
– полулегендарный слепой аэд Гомер – родоначальник древнегреческого эпоса (как автор «Илиады»6, эксплицирован в стихотворении «Мщение Ахилла»);
– блестящая плеяда эолийских поэтов – зачинателей европейской лирики: Сафо («Телец, Орион, Большой Пёс»); Алкей («Стихи из детской тетради»); Анакреон («Загадка с разгадкой», «Из Анакреона»);
– «отец трагедии» Эсхил, которого Тарковский ставил выше Шекспира («Шекспир – Эсхил», «Прометей»);
– основоположник «диалогической» философской школы Сократ, мужественно принявший смерть по приговору несправедливого суда («Сократ»);
– основоположник науки геометрии Эвклид («Сны»);
– римский поэт Овидий, автор поэмы «Метаморфозы», являющейся самым полным сводом сюжетов античной мифологии (в цикле «Степная дудка» Тарковский напрямую отождествляет свою судьбу с судьбой римского поэта-изгнанника).
В перечень античных имён необходимо включить три мифологических имени – Прометея («Эсхил»), Атланта («Руки») и Марсия («После войны» – II), хотя это и противоречит заявленному нами принципу типологии культурных героев как выдающихся деятелей в истории мировой культуры. Помимо того, что похититель творческого огня и создатель первых людей Прометей и держатель небесного свода Атлант являются культурными героями по определению, они включены в концептуальную для Тарковского парадигму «жертвоприношение во имя людей и мира», имеющую столь свойственную его поэзии космогоническую направленность. Что касается козлоного сатира Марсия, наивно вздумавшего состязаться в музыкальном искусстве с самим Аполлоном, за что с него живьём содрали кожу по приказу жестокого Мусагета, – его печальная история, как и история изгнанника Анжело Секки (I, 424–425), стала для Тарковского-ребёнка одним из первых уроков сострадания всем живущим на земле, который поэт усвоил на всю жизнь:
<…> Но сам я стал как Марсий. Долго жил
Среди живых, и сам я стал как Марсий.
(I, 141)
Эпоха Средневековья и ренессанса (V–XVI вв.)
1. Западноевропейский мир:
– «безвинный изгнанник» Данте Алигьери, автор «Божественной комедии», в которой впервые в художественной форме была представлена целостная христианская модель мироздания (имя Данте эксплицировано в двух стихотворениях: «Вы, жившие на свете до меня…» и «Балет»; имплицитно оно присутствует в тех текстах, где есть образы мятущихся теней-страдальцев и другие атрибуты «адского» дискурса, например: «Я тень из тех теней, которые, однажды…», «Тот жил и умер, та жила…», цикл «Чистопольская тетрадь», «Елена Молоховец» и др.);
– первооткрыватель гелиоцентрической галактической системы польский астроном Николай Коперник («Рифма»);
– выдающийся физик, обосновавший принцип относительности в механике задолго до Альберта Эйнштейна, и знаменитый астроном, открывший пятна на Солнце, фазы Венеры, спутники Юпитера, горы и впадины Луны, под давлением церкви вынужденный отречься от главного своего открытия – вращения Земли вокруг Солнца, – Галилео Галилей (в стихотворении «Предупреждение» упоминается «число Галилея» как один из ключевых нумерологических «кодов» мировой гармонии);
– великий английский драматург Уильям Шекспир, создатель Гамлета – «вечного образа» человечества в его трагических поисках смысла жизни (имя Шекспира эксплицировано в стихотворении «Шекспир – Эсхил»; «гамлетовские» реминисценции встречаются в четырёх текстах: «Стань самим собой», «Имена», «Мне опостылели слова, слова, слова…» и «Могила поэта»).
В этот список, на наш взгляд, следует добавить имя основателя средневекового ордена нищенствующих монахов Франциска Ассизского, под обаянием личности и учения которого Тарковский находился всю жизнь, а книгу «Цветочки» считал одной из лучших в мире. Есть свидетельства современников поэта, в которых рассказывается, как он – совершенно в духе святого Франциска – вытаскивал дождевых червей из канавы7 и спасал шмеля, оказавшегося пленником двойной оконной рамы8. К христианской этике Франциска Ассизского, несомненно, восходит ключевой образ поэзии Тарковского – «нищий царь», за которым угадывается судьба его любимых культурных героев – странствующих учителей веры и гонимых мирской властью пророков, с чьей долей поэт соотносил свой жизненный путь.
На пространство и время ладони
Мы наложим ещё с высоты,
Но поймём, что в державной короне
Драгоценней звезда нищеты <…>
(1,310)
2. Древнерусский мир:
– автор первого древнерусского летописного свода «Повесть временных лет» монах Нестор («Посредине мира»);
– выдающийся иконописец Феофан Грек, принесший на Русь византийские традиции церковной живописи («Феофан Грек»);
– великий русский иконописец Андрей Рублёв («Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!..»).
Поэзию Тарковского переполняют образы «Слова о полку Игореве» («Только грядущее», «Чего ты не делала только, чтоб видеться тайно со мною…», «Тебе не наскучило каждому сниться…», «Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!..» и др.), особенно в стихах военных лет. Поэтому будет справедливо, если мы добавим в наш список безымянного автора «Слова…».
Эпоха барокко и классицизма. Эпоха просвещения (XVII–XVIII вв.)
– самый любимый композитор Тарковского Иоганн Себастьян Бах, чьи могучие хоралы прослушиваются в библейской мелодике стихов поэта («Нестерпимо во гневе караешь, Господь…», «Ноты»);
– Вольфганг Амадей Моцарт – мировой музыкальный гений и герой «маленькой трагедии» Пушкина («Утро в Вене», «Снежная ночь в Вене»; имплицитно – как автор оперы «Волшебная флейта» – в стихотворении «Кузнец»);
– универсальный человек, великий поэт и натурфилософ, создатель «Фауста», Иоганн Вольфганг Гете, чья посмертная маска висела в кабинете Тарковского («Стань самим собой», «Карловы Вары», «Я вспомнил города, которых больше нет…»);
– нежно любимый с детства «старчик» Григорий Сковорода – украинский бродячий философ, религиозно-этическое учение которого стало для Тарковского своеобразным «символом веры», а образ жизни – мерилом праведного жизнеповедения и воплощённым идеалом духовной свободы («Григорий Сковорода», «Где целовали степь курганы..»)9.
В список культурных героев XVIII в. следует добавить поэтов Антиоха Кантемира («Мне другие мерещатся тени…») и Гавриила Державина («Загадка с разгадкой»), именами которых обозначены «начальная» и «конечная» координаты в истории литературы русского классицизма.
Эпоха романтизма, классического реализма и зарождающегося модернизма (XIX век)
– «властитель наших дум» и символ эпохи романтизма поэт Джордж Байрон, отдавший жизнь за свободу Греции и создавший новый10 тип литературного героя («К портрету Байрона»; Байрону Тарковский посвятил специальную статью, в которой высказал свои заветные мысли о жертвенной судьбе поэта и о единстве мировой культуры);
– всеобъемлющий русский гений Александр Пушкин, ставший для Тарковского абсолютным эталоном гармонии и меры, «той особой уравновешенности стихотворных масс, которая сравнима с лучшими произведениями скульптуры античной древности и Возрождения или музыкой Баха, Гайдна, Моцарта» (II, 231); (имя Пушкина в стихах Тарковского не названо ни разу, оно табуировано, как интимно-близкая сакральная ценность11; при этом пушкинские реминисценции, явные и скрытые, пронизывают поэзию Тарковского «от юности до старости» – от раннего «Петра» (1928) до закатных «Пушкинских эпиграфов»);
– французский художник-импрессионист Винсент Ван Гог, в поэзии Тарковского – эмблематический образ эпохи зарождающегося модернизма и символ художника-мученика («Пускай меня простит Винсент Ван Гог…»);
– итальянский астроном Джованни Скиапарелли, чьё имя в сознании Тарковского было связано с памятью о погибшем старшем брате Валерии (рассказ «Марсианская обезьяна»; стихотворение «Вы, жившие на свете до меня…»);
– итальянский астроном-изгнанник Анжело Секки («Анжело Секки»), чья трагическая судьба вызвала глубокое сострадание у ребёнка Тарковского:
Ещё ребёнком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,
Благословить последнюю ступень.
(I, 86)
Эпоха модернизма (XX век)
– один из величайших умов человечества, автор теории относительности Альберт Эйнштейн («Рифма»);
– швейцарский художник-авангардист Пауль Клее («Пауль Клее»), в творчестве которого Тарковский особенно ценил детскую непосредственность и незащищённость;
– русский поэт-футурист («будетлянин»), неутомимый искатель «самоценного», «самовитого» слова, называвший себя «Первым Председателем Земного Шара», Велимир Хлебников («Загадка с разгадкой»).
В пантеон культурных героев XX века следует включить поэтов – старших современников Тарковского, которым он посвятил стихи, как своим учителям, близким друзьям и собратьям по жертвенной «почве и судьбе». Это Осип Мандельштам («Поэт»), Анна Ахматова (цикл «Памяти А.А. Ахматовой»), Марина Цветаева (циклы «Чистопольская тетрадь», «Памяти М.И. Цветаевой») и Николай Заболоцкий (диптих «Могила поэта»). В лирике Тарковского указанные стихотворения составляют своего рода поэтический «некрополь».
За рамками нашей типологии, разумеется, далеко не безупречной, оказался российский царь-реформатор Пётр I, которому Тарковский посвятил два стихотворения: «Пётр» и «Петровские казни». Оба текста рисуют образ царя-тирана, инфернального палача, что «братствовал с тьмой» и «не дружил с человеком» (II, 78–79). Жестокий властитель, кровавый деспот, каким в стихах Тарковского предстаёт Пётр Великий, конечно же, не может быть включён в список культурных героев поэта.
С другой стороны, в этот список, на наш взгляд, нельзя не включить тех, кто составляет его ближайшее родственное окружение – членов его семьи, ставших для поэта первыми наставниками и учителями жизни.
Ходить меня учила мать,
Вцепился я в подол,
Не знал, с какой ноги начать,
А всё-таки пошёл.
(II, 118)
Это приобретённое от матери умение «ходить» в мире Тарковского станет универсальной мерой творческого дара и знаком пророческого служения поэта. Как справедливо пишет Е. Левкиевская, «человеческая жизнь в текстах Тарковского <…> уподоблена странствию – иногда движению по осмысленной дороге, иногда скитанию и блужданию»12.
Значит, шёл я по верной дороге,
По кремнистой дороге поэта <…>
(I, 162)
<…> И чужда себе, предо мной
Жизнь земная, моя дорога
Бредит под своей сединой.
(I, 350)
<…> Пойду под уклон за подмогой,
Прямую сгибая в дугу, —
И кто я пред этой дорогой!
И чем похвалиться могу?
(I, 254)
Любимый герой Тарковского – человек «на перепутье», которому, подобно герою пушкинского «Пророка», может явиться духовный поводырь, к примеру, «старчик» Григорий Сковорода, что «по лицу моей вселенной <…> до меня прошёл, как царь» (I, 334), но чаще всего он оказывается один на один с жизнью, когда на неё «чёрной пряжей опускается судьба», как безымянный персонаж стихотворения «Портной из Львова, перелицовка и починка»:
На полу лежит в теплушке
Без подушки, без пальто
Побирушка без полушки,
Странник, беженец, никто.
(I, 123)
Странник и скиталец, лирический субъект Тарковского совершает судьбоносный шаг, открывающий ему путь пророческого служения:
На полустанке я вышел.
Глагол «вышел» особо значим в мире Тарковского как начало поэтической инициации, во многом инициированной (да простится нам такая тавтология!) самим героем. Такой «выход» – ответ на вызов жизни и судьбы, угрожающе обступившей человека.
И не песок пришёл к нам в те года,
А вышел я песку навстречу, —
напишет поэт в одном из ранних стихотворений, недвусмысленно обозначив начало той страшной социально-исторической трагедии, которую ему пришлось пережить вместе со всей страной: «Мне было десять лет (в 1917 году! – Н.РД когда песок ⁄ Пришёл в мой город на краю вселенной <…>» (II, 35). Так же и первый человек Адам выходит «из рая в степь», чтобы вернуть «дар прямой разумной речи» всему Божьему творению, пережившему апокалипсическую степную засуху («Степь»).
Если мать в мире Тарковского стоит в начале дороги, ведущей человека в «отворённую» жизнь, а испечённые её руками в голодном «девятнадцатом году» картофельные лепёшки инициируют первое появление «музы в розовой одежде» и «первое стихотворенье» сына, сочинённое, «как в бреду» («Жили-были»), то образ отца стоит в начале мира ребёнка, подобно камню, положенному во главу угла при строительстве храма.
Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
(I, 302)
Символично, что «отец стоит на дорожке», словно бы предсказывая судьбу сына, для которого «дорожка» блаженного райского сада детства станет бесконечной дорогой жизненных странствий.
<…> Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой, пошёл на юг по зову
Судьбы скитальческой своей <…>
(I, 333)
На наш взгляд, отец в мире Тарковского больше чем культурный герой: он скорее «домашний бог» – носитель бессмертной космогонической сущности, не подвластной тлению даже в могиле.
В траве на кладбище глухом,
С крестом без надписи, есть в городе моём
Могила тихая. – А всё-таки он дышит.
А всё-таки и там он шорох ветра слышит
И бронзы долгий гул в своей земле родной.
Незастилаемы летучей пеленой,
Открыты глубине глаза его слепые
Глядят перед собой в провалы голубые.
(11,38–39)
Отец поэта Александр Карлович Тарковский в молодости стал членом партии «Народная воля», за что был приговорён к тюремному заключению и ссылке в Сибирь. Его революционно-демократические убеждения («Зато у отца, как в Сибири у ссыльного, ⁄ Был плед Гарибальди и Герцен под локтем <…>» (I, 290)) унаследовал старший сын Валерий, погибший в неполных шестнадцать лет в бою с бандой атамана Григорьева на подступах к Елизаветграду. Валерий был для ребёнка Арсения примером в учёбе (рассказ «Марсианская обезьяна») и образцом безмерной храбрости и героизма в борьбе за «молодую свободу». Незадолго до своей ранней гибели Валерий научил младшего брата стрелять из огнестрельного оружия, добытого подпольным путём, что придавало особую романтику этим тайным «урокам».
Там у вокзала стоит бронепоезд в брезенте,
И брат меня учит стрелять из лефоше.
(II, 44)
Впоследствии это умение пригодится поэту – мужественному защитнику «родной земли», потерявшему ногу на фронте и воспринявшему личное несчастье как пророческое посвящение:
Как птица, нищ и, как Израиль, хром.
Я сам себе не изменил поныне,
И мой язык стал языком гордыни
И для других невнятным языком.
(II, 59)
Особую, во многом судьбоносную, роль в жизни Тарковского-поэта сыграла его первая женщина Мария Фальц – та, «что горше всех любил», с которой он познакомился в семнадцатилетнем возрасте13. Марии Фальц посвящено около 20-ти стихотворений. В одном них – «Первых свиданиях» – прямо указано на магическую причастность возлюбленной к «первородным» истокам творчества поэта – к формированию его Слова и Мира:
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.
(I, 218; курсив А. Тарковского)
Продолжая перечень «культурных героев», сопричастных «золотому» (определение А. Тарковского – II, 235) детству поэта, нельзя не назвать учителя музыки Михаила Петровича Медема14, душевной теплотой и «бумазейной курточкой своей» (I, 401) напоминавшего немца-гувернёра Карла Иваныча из повести «Детство» Л.Н. Толстого. В стихотворении, посвящённом его памяти, «старый Медем» предстаёт как подлинный культурный герой – кудесник, «великан лукавый», посвящавший ребёнка в таинство игры на «заспанном» рояле, минуя скучный «Ганой» – старый «классический» учебник по овладению фортепианной техникой. Музыка, которой учился «по средам» Асик Тарковский у взыскательного и вместе добрейшего Медема, стала одним из источников его светоносно-огневой «прометеевской» поэзии:
Много было в заспанном рояле
Белого и чёрного огня,
Клавиши мне пальцы обжигали,
И сердился Медем на меня.
(I, 401)
Не случайно в личной «поэтогонии» Тарковского музыкальная «инициация» предшествует литературной, звук опережает слово, о чём – не без удивления – говорит поэт в стихотворении с характерным названием «До стихов»:
И странно: от всего живого
Я принял только свет и звук, —
Ещё грядущее ни слова
Не заронило в этот круг…
(I, 191)
Исследуя истоки жизни и судьбы поэта, в каталог культурных героев Тарковского мы должны включить и безымянного «старика слепого», игру которого на «пятиротой дудке тростниковой» (II, 36) будущий поэт слышал в раннем детстве в родном Елисаветграде. Слепой дудочник играет, стоя на мосту через реку, что в мифопоэтическом дискурсе означает переход («выход») в новую жизнь и обретение нового экзистенциального статуса.
Во все пять ртов поёт его дуда,
Я горло вытяну, а ей отвечу!
И не песок пришёл к нам в те года,
А вышел я песку навстречу.
(П, 36)
Ср. в поздних стихах с тем же сюжетом инициации поэта-пророка, восходящим к Библии и, конечно же, к Пушкину:
И мне огнём беды
Дуду насквозь продуло <…>
(I, 207)
Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,
И я раздвинул жар берёзовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый
И как пророк заговорил.
(I, 64)
«Обозначенные» на спине поэта «былинные цветы и листья» позволяют выявить ещё одного безымянного культурного героя, изофункционального странствующим волхвам, «каликам перехожим», давшим силы богатырю Илье Муромцу, что, парализованный от рождения, тридцать лет «сиднем» сидел в отцовой избе. Это – «странник захожий» из стихотворения «Я вспомнил далёкие годы…», в подтексте которого скрыт «степной» сюжет, связанный с бегством 14-летнего подростка в степь из поезда, в котором его везли на «революционный суд» из Елисаветграда в Николаев за антиленинские стихи15.
Я вспомнил далёкие годы,
Мне снится – я снова стою
Под ранней звездою свободы
В степном неоглядном краю,
Где странник захожий – ошибкой
Мне силу недобрую дал,
И стал я певучим, как скрипка,
И лёгким от голода стал.
(I, 397)
Кто этот «странник захожий» и почему сила, которую он дал «ошибкой», «недобрая», – остаётся только гадать. Стихи написаны в особо тяжёлый, кризисный период, когда 39-летний поэт не дождался выхода в свет своей первой книги, уничтоженной после печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». В стихотворении «недобрая сила» становится «певучей силой» и «мукой блаженной», от которой поэту уже не избавиться, как от первородного «священного дара».
Особый раздел в «словаре» культурных героев Тарковского, как уже было сказано, составляют поэты – старшие современники, представленные четырьмя именами: Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Заболоцкий. Первые два – главные «учителя» поэта, от которых Тарковский перенял культуроцентризм и «семантическую поэтику»16. С Мариной Цветаевой его связывала тесная личная дружба, возникшая в преддверии трагической гибели старшего поэта (Тарковский – адресат последнего стихотворения Цветаевой «Всё повторяю первый стих…»). С ровесником его старшего брата Николаем Заболоцким Тарковского сближает натурфилософская устремлённость поэтической мысли и широта научной эрудиции (I, 426). Все четыре имени объединены парадигмой «трагическая судьба поэта в тоталитарном государстве». Мандельштам и Заболоцкий – узники сталинского ГУЛАГа; доведённая до самоубийства Цветаева – жертва бесчеловечной государственной тирании; Ахматова, как и Заболоцкий, сумевшая выжить в страшные годы репрессий, – великомученица и «плакальщица» по всем безвинно убиенным.
Bepul matn qismi tugad.